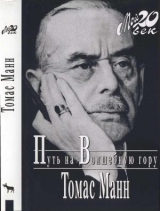
Текст книги "Путь на Волшебную гору"
Автор книги: Томас Манн
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 35 страниц)
Переписка с Бонном
Философский факультет Рейнского университета Короля Фридриха – Вильгельма Исх. № 59 Бонн, 19 декабря 1936 г.
С согласия господина ректора Боннского университета должен довести до Вашего сведения, что в связи с лишением Вас германского подданства философский факультет считает себя вынужденным вычеркнуть Вас из списка почетных докторов. В соответствии со статьей VIII нашего Устава Вы утрачиваете право на это звание.
(подпись неразборчива)
Декан.
ГОСПОДИНУ ПИСАТЕЛЮ ТОМАСУ МАННУ
ГОСПОДИНУ ДЕКАНУ ФИЛОСОФСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БОННСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Глубокоуважаемый господин Декан, я получил прискорбное извещение, которое Вы направили мне 19 декабря. Позвольте ответить Вам следующее:
Германские университеты приняли на себя тяжкую ответственность за все нынешние бедствия и, проявив трагическое непонимание исторической обстановки, стали питательной почвой тех зловещих сил, которые нравственно, культурно и экономически опустошают Германию. В моих глазах этот факт давно уже лишил всякой привлекательности академическое звание, которым я некогда был увенчан, и не позволял мне им пользоваться. Впрочем, я и теперь сохранил почетный титул доктора философии – меня облек этим званием Гарвардский университет, выдвинув обоснование, которое мне хотелось бы, господин Декан, довести до Вашего сведения.
В переводе с латинского на немецкий документ этот гласит: «…Мы, ректор и сенат, с одобрения высокочтимых университетских инспекторов, на торжественном заседании избрали и назначили Томаса Манна – широко известного писателя, который является учителем жизни для многих наших соотечественников и в то же время вместе с очень немногочисленными современниками сохранил высокое достоинство немецкой культуры, – почетным доктором философии и присвоили ему все права и почести, связанные с этим званием».
Вот в каком удивительном противоречии с современной немецкой точкой зрения оказывается взгляд на мою деятельность, которого придерживаются свободные и образованные люди по ту сторону океана, – и, смею добавить, не только там. Мне никогда не пришло бы в голову похваляться тем, что сказано в этом документе; но при данных обстоятельствах я не только вправе, я обязан привести эти строки. И если Вам, господин Декан (я ведь не знаю обычаев), пришлось вывесить посланное мне извещение на черную доску Вашего университета, я хотел бы выразить пожелание, чтобы такая же честь была оказана и этому моему ответу; быть может, какой‑нибудь студент или профессор, прочитав его и подавив страшное предчувствие, на миг удивится и задумается, быть может, это письмо будет для него чем‑то вроде беглого взгляда, который он, из этой насильственно навязанной ему изоляции, из этого мрака своего неведения, украдкой бросит в мир свободной духовной жизни.
На этом я мог бы кончить. Но мне кажется, что в настоящий момент желательны или, во всяком случае, уместны еще некоторые разъяснения. Я молчал по поводу лишения меня юридического гражданства, молчал – несмотря на многочисленные запросы; но факт лишения меня гражданства академического я рассматриваю как подходящий повод для краткого заявления личного характера; причем прошу Вас, господин Декан, – ведь я даже не знаю Вашего имени, – считать себя лишь случайным адресатом этого послания; в сущности, оно предназначено вовсе не Вам.
Четыре года я провел в изгнании, которое лишь эвфемистически можно назвать добровольным, потому что, если бы я остался в Германии или туда возвратился, меня бы, вероятно, уже не было в живых; и все это время я не переставал думать над превратностью моей судьбы и ложностью моего положения. Я никогда не предполагал и, думаю, мне на роду не было написано, что на старости лет я буду обесчещен и проклят у себя на родине, что мне придется быть эмигрантом и вести политическую борьбу, необходимость которой я глубоко ощущаю. С тех пор как я вступил в духовную жизнь, я чувствовал, что меня связывает с моим народом счастливое понимание его сокровенных свойств, его духовных традиций. Я гораздо больше приспособлен к тому, чтобы быть выразителем умонастроений народа, чем мучеником, принести в мир хоть немного высокой радости, чем разжигать борьбу, раздувать ненависть. Должно было произойти нечто в высшей степени ложное, чтобы жизнь моя сложилась так ложно, так противоестественно. Слабыми своими силами я пытался остановить эту зловещую ложь, и своими действиями я уготовил себе судьбу, которую теперь должен научиться примирить с моей натурой, – по существу все это ей глубоко чуждо.
Разумеется, я вызвал ярость нынешних заправил не только в последние четыре года, когда жил вне пределов их досягаемости и мог свободно выражать свое отвращение. Я сделал это гораздо раньше и не мог не вызвать их бешенства, ибо увидел, прежде чем немецкое бюргерство, которое теперь охвачено отчаянием, кто и что надвигается на нас. Когда же Германия действительно оказалась у них в руках, я хотел молчать; я полагал, что жертвами, которые принесены мною, я завоевал право на молчание; я надеялся, что мне удастся сохранить то, что имеет для меня глубокое душевное значение – контакт с моими немецкими читателями на родине. Я размышлял так: книги мои написаны для немцев, прежде всего для них; прочий «мир» и его ко мне интерес всегда были для меня лишь приятным дополнением. Эти книги – плоды взаимного воспитания души, связывающего народ и автора, и они написаны с расчетом на те условия, созданию которых в Германии я и сам способствовал. Это нежные, хрупкие отношения, и нельзя допустить, чтобы политика грубо уничтожила их. Может быть, и найдутся у нас нетерпимые соотечественники, у которых тоже рот заткнут кляпом, но которые не захотят простить сохранившему свободу писателю его безмолвия; и все же, как я надеялся, огромное большинство поймет мою сдержанность и даже будет мне признательно за нее.


Братья и сестры: Генрих, Томас, Юлия, Карла

Родители Томаса – Юлия Манн и Иоганн Томас Генрих Манн

Любек, город детства. Мариенкирхе (справа), где крестили Томаса, и вокзал, откуда в 1894 году он уехал в Мюнхен, навстречу новой жизни

В гимназии «Катариниум», которая была для него «жестокой докукой», Томас дважды оставался на второй год, но так ее и не закончил: после смерти отца семья была разорена


В Италии, в захолустном городке Палестрине, затерявшемся в Сабинских горах, куда Томас Манн приехал со старшим братом Генрихом, он нашел себе «место, где можно было бы поговорить один на один со своей жизнью, со своей судьбой»

Почти тридцать лет спустя после выход* романа (1901] Томас Манн был награжден Нобелевской премией в области литературы

Философия Ницше, музыка Вагнера – вот главные творческие ориентиры автора «Будденброков», «Смерти в Венеции» и «Волшебной горы»

Томас Манн любил повторять слова Гете: «Чтобы что‑то создать, надо чем‑то быть»

Генрих Гейне – любимый поэт молодого Томаса Манна

Философия Ницше, музыка Вагнера – вот главные творческие ориентиры автора «Будденброков», «Смерти в Венеции» и «Волшебной горы»

Портрет Льва Толстого, «яснополянского Гомера… несшего на себе исполинские глыбы эпоса», висел над письменным столом Томаса Манна. На снимке – Л. Н.Толстой и А. П. Чехов

В июне 1936 года Манн с болью напишет: «Умер великий русский писатель Максим Горький…»

Катя Принсгейм долго не давала согласия стать женой Томаса Манна.

Их старший сын Клаус пошел по стопам отца и дяди – его роман «Мефистофель» был переведен на многие языки и экранизирован

«Глупенькая Катя! – писал он Генриху. – Говорить совершенно серьезно, что она… не стоит меня, это меня‑то, который после каждой встречи испуганно спрашивает себя: «Соответствую ли я? Разве я не слишком неуклюж, не слишком «поэт»?
В МОЛОДОСТИ ТОМАС МАНН ДЕКЛАРИРОВАЛ СВОЮ АПОЛИТИЧНОСТЬ, ПОЛАГАЯ, ЧТО ГЛАВНОЕ ПРИЗВАНИЕ ХУДОЖНИКА – ЖИТЬ ИСКУССТВОМ.
НО РАБОТУ НАД КНИГАМИ ПРЕРВАЛА ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

«С Богом, за короля и Отечество!» Немецкий плакат начала Первой мировой войны

«…ненависть и вражда между народами Европы – заблуждение, ошибка», – говорил Томас Манн. Немецкие солдаты после капитуляции Германии в ноябре 1918 года

«Я вслух заявил о своем ужасе перед надвигающимся бедствием нацизма», – говорил Томас Манн

Нацисты сжигали книги запрещенных ими авторов, в том числе Томаса и Генриха Маннов

Конгресс в защиту культуры глазами неизвестного карикатуриста. Париж, 1935 год
В ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ, С ПРИХОДОМ К ВЛАСТИ ГИТЛЕРА, БРАТЬЯ МАННЫ БЫЛИ ЛИШЕНЫ ГРАЖДАНСТВА, ПОКИНУЛИ ГЕРМАНИЮ И СТАЛИ ДУХОВНЫМИ ВОЖДЯМИ АНТИФАШИСТСКОЙ ЭМИГРАЦИИ.

Томас Манн в Санари – сюр – Мер. В 1933 году здесь нашли пристанище Фейхтвангер, Брехт, Арнольд Цвейг

Бертольд Брехт и Лион Фейхтвангер
ЧТО ОН ПРИНЕС НАЦИСТАМ БОЛЬШЕ БЕД, ЧЕМ ЦЕЛАЯ АРМИЯ, А ТОМАСА НАЗВАЛ ИЗМЕННИКОМ РОДИНЫ И *ОСКВЕРНИТЕЛЕМ РОДНОЮ ГНЕЗДА»

Стефан Цвейг и его жена Лотта, отчаявшись дождаться победы над фашизмом, ушли из жизни

В США Альберт Эйнштейн был причислен к иностранцам из вражеского государства, что накладывало ряд ограничений на жизнь немцев, итальянцев, японцев

Другой изгнанник – Герман Гессе
«Я ДУМАТЬ НЕ ДУМАЛ, ЧТО НА СТАРОСТИ ЛЕТБУДУ ЭМИГРАНТОМ, ЛИШЕННЫМ ИМУЩЕСТВА И ОБЪЯВЛЕННЫМ ВНЕ ЗАКОНА НА РОДИНЕ…»

В 1946 году он перенес тяжелейшую болезнь. «У меня отняли ребро, так же не спрашивая моего разрешения, как бог Адама». В госпитале в Чикаго с детьми

С внуком в Пасифик Пэлисейдз, Калифорния

Теодор Адорно, философ, музыковед и социолог, был безотказным консультантом писателя

«КНИГА МОЕГО СЕРДЦА*, *САМАЯ СУМАСШЕДШАЯ КНИГА», «ПОДВЕДЕНИЕ ИЮЮВ МОЕЙ ЖИЗНИ» – ТАК ГОВОРИЛ ПИСАТЕЛЬ О СВОЕМ РОМАНЕ «ДОКТОР ФАУСТУС. ЖИЗНЬ НЕМЕЦКОЮ КОМПОЗИТОРА АДРИАНА ЛЕВЕРКЮНА»

Кадр из фильма «Доктор Фаустус» Франца Зайтца, Германия, 1984

В июне 1955 года, в канун своего 80–летия, Томас Манн приехал с женой в родной Любек.
У «дома Будценброков»

Бюст Томаса Манна. Скульптор – Густав Зайтц

Таковы были мои намерения. Но оказалось, что они неосуществимы. Я не мог бы жить, не мог бы работать, я бы задохся, если бы хоть изредка, как говорят старики, не «изливал душу», если бы время от времени не выражал прямо и недвусмысленно своего отвращения ко всем гнусным речам и гнусным делам, которые наводняли Германию. Не знаю, заслужил я это или нет, но случилось так, что мир связывает мое имя с понятием немецкого духа, который повсюду пользуется любовью и уважением; и в той среде свободных художников, к которой я теперь так хотел примкнуть, тревожно и глухо звучало требование, чтобы именно я поднял голос против грязной фальсификации этого немецкого духа. Трудно было отвергнуть такое требование тому, кто всегда умел выразить себя, объективировать свое чувство в слове, тому, для кого переживание всегда составляло единство с очистительной святыней языка, хранителя национальных традиций.
Велика тайна языка; ответственность за язык и его чистоту носит символический и духовный характер, она имеет не только эстетический, но и общий нравственный смысл, это – ответственность как таковая, человеческая ответственность в чистом виде, и в то же время ответственность за свой народ, за сохранение чистоты его индивидуальных черт перед лицом человечества, и в ней воплощается единство человечности, целостность гуманистической проблемы, которая не позволяет никому – по крайней мере в наши дни – отделять духовно – эстетическое начало от политико – социального и уединяться в аристократическую область чистой «культуры»; это та самая истинная целостность, которая и есть гуманизм и на которую преступно покусился бы тот, кто попытался бы абсолютизировать одну только часть этого человеческого единства – например, политику, государство.
Могли молчать немецкий писатель, которого ответственность за язык приучила к ответственности за общество? Мог ли молчать немец, патриотизм которого (может быть, по наивности) связан с верой в необычайную этическую важность всего того, что происходит в Германии? Мог ли он хранить полное безмолвие, видя непоправимое зло, которое в моей стране изо дня в день причиняли и продолжают причинять телам, душам и умам людей, праву и истине, людям и человеку? Видя грозную опасность, которую несет Европе этот человеконенавистнический режим, коснеющий в невежестве, ничего не понимающий в требованиях истории? Нет, молчать было невозможно. И тогда я, вопреки своей программе, позволил себе такие высказывания, такие недвусмысленные действия, которые и повлекли за собой нелепый, постыдный акт лишения меня национального гражданства.
Достаточно подумать о том, кто эти люди, которые по воле случая обладают жалкой и чисто формальной властью лишить меня германской национальности, чтобы понять, насколько смехотворен этот акт. Высказываясь против них, я, если верить им, оскорбил государство, оскорбил Германию. Они отождествляют себя с Германией – какая неслыханная дерзость! Быть может, близка минута, когда немецкий народ будет готов любыми средствами доказать, что его нельзя отождествлять с ними.
До чего они довели Германию за неполных четыре года! Они разорили, духовно и физически опустошили ее подготовкой к войне, которой они угрожают всему миру, держат весь мир в напряжении и мешают ему выполнять его истинные задачи, огромные и настоятельные задачи установления всеобщего мира.
Никем не любимая, окруженная соседями, которые взирают на нее со страхом и холодной неприязнью, Германия стоит на краю экономической катастрофы, и испуганно тянутся к ней руки ее «врагов», пытаясь удержать на краю пропасти это важнейшее звено будущей всемирной общности народов, пытаясь помочь ей вернуть на путь разума, на путь понимания действительных потребностей исторического момента народ, которому ханжески внушают мысли о его бедствиях. Да, те, кому Германия угрожает и кому мешает развиваться, считают необходимым ей помогать, чтобы она не увлекла в бездну весь мир, не ввергла его в войну, на которую она все еще смотрит как на ultima ratio [95]95
Последний довод (лат.).
[Закрыть]. Зрелые и цивилизованные государства (причем я под «цивилизованностью» разумею понимание той основополагающей истины, что война больше недопустима) обращаются с этой великой державой, чреватой гибелью для самой себя и для окружающих, или, вернее, с безответственными вожаками, в руки которых она попала, как врачи с больным: с величайшей осмотрительностью и осторожностью, с неиссякаемым – хотя и мало почетным для нее – долготерпением. А те считают, что могут вести по отношению к ним «политику», политику силы и гегемонии. Неравная игра. Если одна страна ведет «политику», в то время как другие думают вовсе не о политике, а о мире , то она может добиться известных временных преимуществ. Разумеется, антиисторическое игнорирование той истины, что войну в настоящее время допускать нельзя, может принести некоторые скоропреходящие «успехи» за счет тех, кто эту истину понимает. Но горе народу, который, зайдя в тупик, в конце концов и в самом деле попытается искать для себя выхода в проклятых богом и людьми ужасах войны. Этот народ обречет себя на гибель. Он будет так разгромлен, что никогда уже не сможет подняться.
Национал – социалистская государственная система имеет и может иметь только одну – единственную цель: беспощадно подавляя, уничтожая, истребляя всякое сопротивление, подготовить немецкий народ к «предстоящей войне»; превратить его в беспредельно покорную, лишенную и тени критической мысли, слепую и фанатически невежественную военную машину. Система эта не может иметь никакой другой цели, никакого другого смысла и оправдания ; она без колебаний взяла на себя право принести в жертву свободу, справедливость, человеческое счастье, совершать бесчисленные преступления, тайные и явные, и все это во имя одной идеи – во имя необходимости воспитать народ для войны. Как только отпала бы идея войны как самоцель, вся система тотчас оказалась бы просто – напросто живодерней для людей – она бы оказалась совершенно бессмысленной и никому не нужной.
Будем откровенны: она уже оказалась и бессмысленной и ненужной. Не только оттого, что ей не позволят развязать войну, но и еще по другой причине: преследуя осуществление своей главной идеи, абсолютную и «тотальную» подготовку к войне, она достигает обратного тому, к чему стремится. Нет сейчас ни одного народа на земном шаре, который был бы так мало способен выдержать войну, был бы так совершенно непригоден для ведения войны, как немецкий народ. Первое, и самое, впрочем, малозначительное, обстоятельство заключается в том, что у него не будет союзников, ни единого союзника во всем мире. Германия была бы одинока, она бы утратила всех своих друзей, но одиночество ее было бы особенно страшным потому, что она бы утратила при этом и самое себя. Она бы вступила в войну духовно обнищавшей и униженной, нравственно опустошенной, полной глубокого недоверия к своим вожакам и ко всему тому, что они вдолбили ей за эти годы, внушающей самой себе неодолимый ужас и хотя ничего и не ведающей, но полной тяжелых предчувствий; она бы вступила в войну не Германией 1914 года, но – если даже говорить только о ее физическом состоянии – такой, какой она была в семнадцатом, в восемнадцатом. Десяти процентов населения, тех, кто получал непосредственную выгоду от нацистской системы (да и их число сократится наполовину), было бы недостаточно, чтобы выиграть войну, в которой большинство остального населения видело бы только удобную возможность, чтобы скинуть с себя позорный гнет, так долго тяготивший немцев, войну, которая, таким образом, после первого же поражения переросла бы в войну гражданскую.
Нет, эта война невозможна. Германия не может ее вести, и если ее властители не вовсе лишились разума, то их уверения в своем миролюбии отнюдь не являются тактическими ходами, как они, лукаво подмигивая, пытаются убедить своих приверженцев; нет, в таком случае эти уверения порождены тревогой, трезвым пониманием именно этой невозможности воевать. Но если война не может и не должна быть – зачем же тогда разбойники и убийцы? Зачем отъединенность, ненависть ко всему миру, бесправие, духовное оскудение, мрак невежества и нужда во всем необходимом? Почему тогда Германии не вернуться в лоно Европы, не примириться с нею, почему Германии не войти в мирную систему европейских государств, которые встретили бы всеобщим ликованием и колокольным звоном немецкий народ, вновь обретший свободу, право, благосостояние и человеческое достоинство? Почему нет? Только потому, что режим, на словах и на деле отрицающий человеческие права, стремящийся лишь к одному – остаться у власти, потому что этот режим, лишенный возможности вести войну, пришел бы к самоотрицанию и самоуничтожению, если бы он должен был утверждать мир? Но какой же это довод?..
Право, господин Декан, я совсем забыл, что все еще обращаюсь к Вам. Впрочем, меня успокаивает сознание, что Вы давно уже перестали читать мое послание. Вас, наверное, привели в ужас речи, от которых Германия успела отвыкнуть за эти годы; Вы, наверное, содрогнулись от того, что кто‑то еще дерзает пользоваться оружием немецкого слова с былой независимостью… Поверьте, я говорю все это не из дерзкого высокомерия, а из мучительной тревоги, от которой не смогли меня освободить ваши главари, хотя они и издали приказ, что я уже больше не немец; я говорю это от невыносимой боли, которая терзает мне душу и мысли в каждый час моего существования вот уже четыре года и которую мне ежедневно приходится мучительно преодолевать, садясь за письменный стол. Германия на краю гибели. И подобно тому, как человек из набожной стыдливости не в силах всуе назвать или начертать на бумаге имя всевышнего, и только в минуты глубокого потрясения решается произнести это имя, всего полнее выражающее его душевную муку, так и я – ведь все равно всего не скажешь – закончу этот ответ мой словами молитвы:
Да поможет Господь нашей омраченной и истерзанной стране, да научит ее умиротворению с другими народами и с самой собою.
Кюснахт на Цюрихском озере
1 января 1937
Фрейд и будущее
Что дает право писателю выступать с торжественной речью в честь великого исследователя? Или, если он волен свалить этот вопрос совести на других, на тех, кто счел нужным переложить на него такую роль, – как объяснить, что ученая корпорация, в данном случае Академическое общество медицинской психологии, поручает отметить словом «праздник» своего мэтра не одному из своих членов, не представителю науки, а писателю, то есть человеку, чья стихия не столько, по сути, знание, дифференциация, понимание, познание, сколько спонтанность, синтез, деланье, наивное творчество, человеку, который, следовательно, может быть, если угодно, объектом полезного познания, но по своей природе, по своей направленности не годится для роли его субъекта? Быть может, сочли, что писатель как художник, художник притом духовный, умственный, вообще больше подходит для духовных празднеств, для торжеств, что он от природы более праздничный человек, чем тот, кто познает, кто служит науке?.. Не стану возражать против такого мнения. Верно, писатель знает толк в праздниках жизни; он даже знает толк в отношении к жизни как к празднику – но вот уже в первый раз тихо и предваряюще прозвучал мотив, которому в хвалебной духовной музыке этого вечера суждена, может быть, роль некоей темы… Впрочем, праздничный смысл этого чествования заключен, по замыслу его устроителей, скорее, пожалуй, в самой сути дела, то есть в торжественной и беспрецедентной встрече объекта и субъекта, предмета познания и познающего – в сатурнальном сдвиге, когда познающий толкователь снов и мечтаний становится праздничным объектом мечтательного познания, – и против этой мысли тоже я возразить не могу, не могу хотя бы потому, что и в ней тоже уже звучит мотив, имеющий значительную симфоническую будущность. Он вернется в более полной инструментовке и в более понятном виде, ведь либо глубоко заблуждаюсь, либо именно соединение субъекта и объекта, их втекание друг в друга, их тождество, проникновение в таинственное единство мира и Я , судьбы и характера, случающегося и совершаемого, то есть в тайну действительности как создания души, – либо, повторяю, именно это и есть альфа и омега всякого психоаналитического начинания…
Во всяком случае, если произнести похвальное слово гениальному исследователю решаются доверить писателю, то это кое‑что говорит и о первом, и о втором. Это характерно для обоих. Особое отношение чествуемого к миру поэзии, литературы вытекает из этого точно так же, как своеобразная причастность поэта, писателя к сфере познания, творцом и мастером которой предстает перед миром тот, чей юбилей мы сегодня отмечаем. И опять – так» особенна и замечательна эта взаимосвязь, эта близость друг к другу тем, что обе стороны долгое время не знали о ней, что она оставалась в области «бессознательного» – в той, стало быть, области души, разведка и раскрытие которой суть для гуманности истинное призвание как раз этого познающего ума. Близость литературы и психоанализа давно осознана обеими сторонами. А торжественность этого часа состоит, по крайней мере на мой взгляд и по моему ощущению, в первой, пожалуй, публичной встрече обеих сфер, в манифестации этого сознания, в демонстративном признании его.
Я сказал, что взаимосвязи, что глубокие симпатии долгое время оставались неведомы обеим сторонам. И ведь в самом деле известно, что тот, кого мы сейчас чествуем, Зигмунд Фрейд, основатель психоанализа как терапии и общенаучного метода, прошел тяжкий путь своих открытий совершенно один, совершенно самостоятельно, только как врач и естествоиспытатель, не ведая о тех средствах утешения и утверждения, какие могла бы предоставить ему большая литература. Он не знал Ницше, у которого повсюду встречаются молниеподобные предвосхищения фрейдовских открытий; не знал Новалиса, чьи романтически – биологические грезы и озарения так поразительно близки аналитическим идеям; не знал Кьеркегора, чье христианское мужество при психологических крайностях очень понравилось бы ему и пошло бы на пользу; не знал он, конечно, и Шопенгауэра, этого грустного симфониста философии страстей, жаждущей и избавления, и возврата назад… Так, наверное, и должно было случиться. На собственный страх и риск, не зная интуитивных предвосхищений, он, наверное, и должен был методически завоевывать свои открытия: ударная сила его познания, вероятно, возросла благодаря такой неблагоприятности, и вообще одиночество неотделимо от его строгого образа – то одиночество, о котором говорит Ницше, когда в своем восхитительном эссе «Что означают аскетические идеалы?» называет Шопенгауэра «истинным философом, воистину самостоятельным умом, мужчиной и рыцарем с металлическим взглядом, человеком, имеющим мужество быть самим собой, способным выстоять в одиночестве, не прятаться ни за чью спину, не ждать указки свыше»…
В образе этого «мужчины и рыцаря», рыцаря между смертью и чертом, я и привык видеть психолога бессознательного, с тех пор как его духовная фигура вошла в поле моего зрения.
Произошло это поздно; гораздо позднее, чем того можно было ожидать при родстве поэтическо – писательского импульса вообще и моей натуры в частности с этой наукой. Создают такое родство прежде всего две тенденции: во – первых, любовь к правде, чувство правды, чуткость и восприимчивость к прелести и горечи правды, проявляющиеся главным образом в психологической чувствительности и зоркости, причем до такой степени, что понятие правды почти поглощается понятием психологического восприятия и познания; а во – вторых, понимание болезни, некая уравновешенная здоровьем близость к ней и чувство ее продуктивного значения.
Что касается любви к правде, болезненно – моралистской любви к правде как психологии, то она идет от высокой школы Ницше, у которого и в самом деле бросается в глаза совпадение правды и психологической правды, познающего с психологом. Его гордость за правду, само его понимание честности и интеллектуальной чистоплотности, его мужество знания и его печаль знания, его самопознавательство, самоистязательство – все это имеет психологический смысл, носит психологический характер, и мне никогда не забыть той воспитательной поддержки, того углубления, какое получили мои собственные задатки от зрелища психологической страсти Ницше. Слова «омерзение познания» есть в «Тонио Крёгере». У них вполне ницшеанский чекан, и юношеская их грусть указывает на гамлетовскую черту в натуре Ницше, в которой, как в зеркале, отразилась моя собственная натура, призванная к знанию, но, в сущности, не рожденная для него… Я говорю сейчас о юношеских болях и горестях, зрелые годы сделали их светлее, спокойнее. Но склонность понимать правду и знание психологически, отождествлять их с психологией, ощущать волю к психологической правде как волю к правде вообще, а психологию как правду в самом прямом и самом отважном смысле слова – эта склонность, которую следует, пожалуй, назвать натуралистической и приписать воспитанию литературным натурализмом, у меня осталась и составляет предпосылку для интереса к той естественной науке о душе, что носит название «психоанализ».
Вторая тенденция, повторяю, – это понимание болезни, вернее – болезни как средства познания. Тенденцию эту тоже можно было бы возвести к Ницше, который, наверно, знал, чем он обязан своей болезни, и на каждой странице как бы учит, что никакого глубокого знания без опыта болезни не бывает и всякое высшее здоровье должно было пройти через болезнь. И это понимание, стало быть, тоже можно было бы вывести из встречи с Ницше, если бы оно не было соединено тесными узами с сутью духовного человека вообще и писателя в особенности, более того, с сутью всякой человечности, всякого человеколюбия, ведь писатель лишь крайнее их проявление. «Человечность, – сказал Виктор Гюго, – утверждается болезнью», – слова эти с гордой откровенностью признают хрупкую конституцию всякой высокой человечности и культуры, их осведомленность в области болезни. Человека назвали «больным животным» из‑за обременительной напряженности и отличительных тягот, которые возлагает на него его положение между природой и духом, между животным и ангелом. Надо ли поражаться, что со стороны болезни науке удались самые глубокие прорывы в темноту человеческой природы, что болезнь, особенно невроз, оказалась первейшим средством антропологического познания?
Писатель – последний, кто этому поразился бы. Скорее его удивило бы, что при такой сильной общей и личной предрасположенности он столь поздно обнаружил симпатические связи своего существования с психоаналитическими исследованиями и трудом жизни Фрейда – только тогда, когда это учение давно уже состояло не просто в некоем – признанном или спорном – методе лечения, когда оно давно переросло чисто медицинские пределы и стало всемирным движением, захватившим всевозможные области духа и науки: литературои искусствоведение, историю религии и первобытную историю, мифологию, этнографию, педагогику и прочее – благодаря расширительным и прикладным стараниям приверженцев, которые создали вокруг его психиатрически – медицинского ядра эту ауру всеобщего воздействия. Было бы даже преувеличением сказать, что пришел к психоанализу: он пришел ко мне. Через дружественный интерес, который он через отдельных своих последователей и представителей снова и снова, от «Маленького господина Фридемана» до «Смерти в Венеции», до «Волшебной горы» и романа об Иосифе, оказывал моей работе, он дал мне понять, что у меня есть с ним что‑то общее, что я тут по – своему в какой‑то мере «кумекаю», заставил меня, как ему и подобало, осознать скрытые, «подсознательные» симпатии. А занятия аналитической литературой позволили мне узнать за одеждой научной точности в мыслях и языке многое архизнакомое по прежнему духовному опыту.
Позвольте мне немного продолжить в автобиографическом стиле и не ставьте мне это в вину, если я, вместо того чтобы говорить о Фрейде, говорю как бы о себе! Говорить о нем я не берусь. Что нового могу я надеяться сказать о нем миру? Я говорю в его честь, говорю и тогда, и как раз тогда, когда говорю о себе и рассказываю вам, как глубоко и своеобразно был подготовлен образовательными впечатлениями своей юности к идущим от Фрейда открытиям. Не раз, в воспоминаниях и признаниях, повествовал я о том потрясающем, опьяняющем и удивительно в то же время воспитательном событии, каким было знакомство с философией Артура Шопенгауэра для юноши, который воздвиг ему памятник в своем романе о Будденброках. Бесстрашное мужество правды, составляющее нравственность аналитической глубинной психологии, впервые явилось мне в пессимизме уже обладавшей хорошей естественно – научной оснасткой метафизики. В мрачном бунте против веры тысячелетий эта метафизика провозглашала примат влечения перед умом и рассудком, она признавала волю ядром и сутью мира, человека и всех прочих творений, а интеллект вторичным и побочным, неким слугой воли, тусклым светильником. Делала она это не из антигуманной злобности, которая является скверным мотивом нынешних враждебных духу учений, а из строгой любви к правде, любви века, боровшегося с идеализмом из идеализма. Он был так правдив, этот XIX век, что даже ложь, «ложь жизни» готов был признать необходимой устами Ибсена… и понятно, конечно: это большая разница – принимать ложь из мучительного пессимизма и горькой иронии, из‑за духа – или из ненависти к духу и правде. Эта разница ясна сегодня не всякому.








