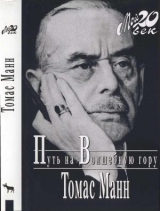
Текст книги "Путь на Волшебную гору"
Автор книги: Томас Манн
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 35 страниц)
Очень скоро ко мне в душу закралось тайное предчувствие, что расширение рамок рассказа чревато опасностями, что в этом материале есть нечто значительное, открывающее безбрежные просторы для мысли. Теперь я уже не мог утаить от самого себя, что он представляет собой опасный перекресток, где сходится много важных для меня ассоциаций. Я не раз недооценивал трудность осуществления того или иного замысла, но это случалось, наверно, не только со мной. Когда разрабатываешь план нового произведения, оно предстает в очень простом и практическом свете, и никаких подводных камней не видно. Кажется, что работа над ним не потребует больших усилий, что осуществить замысел не так уж сложно. Мой первый роман, «Будденброки», был задуман по образцу скандинавских семейных хроник и повестей купеческого быта, как книга страниц на двести пятьдесят, а между тем он разросся до двух толстых томов. «Смерть в Венеции» мыслилась мне как короткий рассказ и предназначалась для мюнхенского журнала «Симплициссимус». То же самое случилось с серией романов об Иосифе, которые представлялись мне вначале в виде новеллы примерно такого же объема, как «Смерть в Венеции». Точно так же дело обстояло и с «Волшебной горой», – как видно, в этих случаях имеет место неизбежный творческий самообман. Если бы автор заранее уяснил себе все возможные повороты темы и все трудности осуществления задуманного, если бы он знал, чего от него это произведение потребует, – а оно зачастую своевольно тянет автора совсем не туда, куда ему хочется, – тогда у него, пожалуй, опустились бы руки, и он не нашел бы в себе мужества взяться за дело. У иных произведений есть не только своя воля, но и свое собственное честолюбие, которое может намного превосходить честолюбие автора, и это хорошо. Ведь честолюбие не должно быть личным, оно не должно заслонять собой произведение, наоборот, произведение само должно порождать честолюбие и вынуждать автора быть честолюбивым. Мне думается, что именно так и возникли великие произведения, во всяком случае, не из того честолюбия, которое заранее ставит себе целью создать нечто значительное.
Короче говоря, я уже очень рано заметил, что в этой давосской истории что‑то есть и что ее мнение о самой себе сильно отличается от моего. Это сказывалось даже во внешней стороне дела: сдобренный английским юмором неторопливый стиль повествования, на котором я отдыхал от суровой строгости «Смерти в Венеции», требовал места и соответствующего времени. Затем пришла война, которая тотчас же подсказала мне конец романа и непредвиденно обогатила книгу жизненным опытом, но зато на долгие годы прервала мою работу над ней.
В те годы я писал «Рассуждения аполитичного» – кропотливый, стоивший мне огромных усилий труд, плод самопознания и вживания в европейские противоречия и спорные проблемы, книгу, ставшую для меня непомерно затянувшимся, поглотившим целые годы периодом подготовки к моему следующему художественному произведению, которое потому только и смогло стать произведением искусства, то есть игрой, пусть очень серьезной, но все же игрой, что предшествовавшая ему аналитико – полемическая работа разгрузила его от излишне трудного идейного материала. «Эти очень серьезные шуточки», – сказал однажды Гёте о своем «Фаусте», и его слова могут служить определением для любого произведения искусства, в том числе и для «Волшебной горы». Но я не мог бы шутить и играть, если бы проблематика романа не была мне так по – человечески близка, если бы я не выстрадал ее, чтобы затем подняться над ней как свободный поэт. Эпиграф «Рассуждений» гласит: «Que diable allait il faire dans cette galere?» Ответ гласит: «Это все “Волшебная гора”».
Добровольно отслужив в годы войны действительную службу с интеллектуальным оружием в руках, как художник, я вынужден был заново учиться ходить, и моими первыми шагами были две идиллии: «Песнь о ребенке» и рассказ о животных «Хозяин и собака»; затем я, наконец, снова взялся за «Волшебную гору», но и теперь работа то и дело прерывалась критическими эссе, которые я писал попутно с ней; три из них, самые важные, а именно «Гёте и Толстой», «О немецкой республике» и «Оккультные переживания», являлись по содержанию прямыми духовными отпрысками и ответвлениями этого большого романа, возникшими в ходе его создания.
Наконец осенью 1924 года вышли в свет те два тома, в которые превратилась задуманная мною некогда новелла и которые продержали меня в своем волшебном плену в общей сложности уже не семь, а целых двенадцать лет; что же касается оказанного им приема, то он превзошел бы все мои ожидания и поверг бы меня в изумление, будь он даже намного холоднее, чем он был на самом деле. Закончив работу над произведением и расставаясь с ним, я обычно пожимаю плечами и смиренно признаюсь себе, что я нисколько не верю в его жизнеспособность. Привлекательность работы для меня, ее исполнителя, притягательная сила, некогда исходившая от нее, – все это давно уже иссякло, довести дело до конца меня побуждала лишь творческая этика и художническая дотошность, по сути дела, упрямство, да и вообще мне кажется, что в моей долголетней одержимости этой работой слишком много упрямства, что она слишком напоминает личное увлечение, имеющее сомнительную ценность для других, и поэтому я не вправе рассчитывать на то, что плоды этой причуды, которой я так долго отдавал всю первую половину дня, могут хоть в какой‑то мере заинтересовать более или менее широкий круг людей. Когда же, как это не раз случалось в моей жизни, книга все‑таки вызывает внезапную, даже, пожалуй, бурную вспышку читательских симпатий, они каждый раз сваливаются на меня как снег на голову, а на этот раз на мою голову обрушилась целая лавина приятных неожиданностей. Мог ли я надеяться, что материально стесненный и издерганный читатель захочет следить за причудливыми переплетениями этой композиции мыслей, развернутой на тысяче двухстах страницах? («Тот ковер необозримый, что соткал поэт прилежный, – двести тысяч строк стихов» – это место из «Фирдоуси» Генриха Гейне я особенно любил повторять про себя во время работы, – наряду с Гётевским «Не знаешь ты конца, и тем велик».) Наберется ли при нынешних обстоятельствах – спрашивал я себя – хоть несколько тысяч людей, готовых выложить шестнадцать – двадцать марок за это сомнительное удовольствие, которое не имеет, пожалуй, почти ничего общего с чтением романов в общепринятом смысле слова? Мне было ясно одно: еще каких‑нибудь десять лет назад эти два тома нельзя было написать, и они не нашли бы себе читателей. Для этого нужны были события, которые автор пережил вместе со своим народом, события, которым он должен был дать отстояться и созреть для искусства, чтобы выступить со своим детищем, – а предлагать его публике было делом рискованным, – в благоприятный момент, как это уже однажды случилось с другим его произведением. Проблемы, затронутые в «Волшебной горе», по самой своей природе не были актуальны для широких масс, но для массы образованных людей они имели жгучую остроту, а всеобщие бедствия подвергли восприимчивость широкой публики той самой алхимической «активизации», к которой, собственно говоря, и сводится суть всех приключений, происшедших с Гансом Касторпом. Да, немецкий читатель, несомненно, узнал себя в простом, но «плутоватом» герое романа; он мог следовать и охотно следовал ему.
В самом деле, «Волшебная гора» – очень немецкая книга, настолько немецкая, что ее зарубежные критики явно недооценивают возможности ее распространения за пределами Германии. Один выдающийся шведский критик заявил публично и в самой категорической форме, что никто и никогда не решится переводить эту книгу на какой‑либо другой язык, так как она абсолютно непригодна для этого. Его пророчество не сбылось. «Волшебная гора» переведена почти на все европейские языки, и, насколько я могу судить, ни одна из моих книг не вызвала такого интереса к себе, как эта, причем не только вообще за границей, но – я рад это отметить – в особенности в Америке.
Что же мне сказать о самой книге и о том, как ее надо читать? Начну с весьма самонадеянного требования: ее следует прочесть дважды. Разумеется, я готов тотчас же отменить это требование для тех, кто скучал, читая ее в первый раз. Искусство не должно быть докучливым школьным уроком, не должно быть занятием contre coeur [100]100
Не по сердцу (фр.
[Закрыть] , оно хочет и должно приносить людям радость, давать пищу их уму и вдохновлять их, и тому, на кого то или иное произведение этого действия не оказывает, лучше вовсе оставить его и заняться чем‑нибудь другим. А тем, кто уже однажды дочитал «Волшебную гору» до конца, я советую перечитать ее, так как эта книга сделана не совсем обычно: она носит характер композиции, и поэтому во второй раз читатель поймет роман глубже, а следовательно, получит больше удовольствия; ведь и музыкой можно наслаждаться по – настоящему лишь тогда, когда знаешь ее заранее. Я не случайно употребил слово «композиция», закрепленное, как правило, за музыкой. Музыка издавна активно воздействовала на мое творчество, помогая мне вырабатывать свой стиль. Большинство писателей являются, по сути дела, не писателями, а чем‑то другим, они – оказавшиеся не на своем месте живописцы, или графики, или скульпторы, или архитекторы, или же еще кто‑нибудь. Себя я должен отнести к музыкантам среди писателей. Роман всегда был для меня симфонией, произведением, основанным на технике контрапункта, сплетением тем, в котором идеи играют роль музыкальных мотивов. Вы, наверное, уже встречали кое – где высказывания о том влиянии – я и сам указывал на него, – которое оказало на мое творчество искусство Рихарда Вагнера. Я отнюдь не отрицаю этого влияния, в частности, я считаю себя последователем Вагнера в использовании лейтмотива, который я перенес в искусство повествования, но не так, как это делали Толстой и Золя и как это делал в свое время я сам в моем юношеском романе «Будценброки», где лейтмотив применяется лишь в целях натуралистического подчеркивания характерной детали, так сказать механически, а по – другому – в духе музыкальной символики. Первую попытку в этом направлении я сделал в «Тонио Крёгер». Техника, которую я там использовал, применена в «Волшебной горе» в гораздо более широких рамках, здесь она максимально усложнена и пронизывает весь роман. Отсюда‑то и вытекает мое высокомерное требование прочитать «Волшебную гору» дважды. Понять до конца этот комплекс взаимосвязанных по. законам музыки идей и по – настоящему оценить его можно лишь тогда, когда тематика романа уже знакома читателю и он может толковать для себя смысл перекликающихся друг с другом символических формул не только ретроспективно, но и забегая вперед.
Здесь я возвращаюсь к тому, о чем я уже однажды упоминал, – я имею в виду таинство времени, которое трактуется в романе в нескольких разных аспектах. «Волшебная гора» является романом о времени в двояком смысле слова: с одной стороны, потому, что в ней я пытался обрисовать внутреннюю картину определенной эпохи – довоенного периода в Европе, и это делает ее романом историческим, с другой стороны, потому, что в ней идет речь о времени как таковом, в его чистом виде, причем эта тема подается не только через опыт героя книги, но и в самой ткани романа, через нее. Сама книга тождественна тому, о чем в ней рассказывается, ибо, рисуя ощущения своего юного героя, наглухо запертого в зачарованном, лишенном времени мире, она и сама стремится с помощью своих художественных средств выключить время, она пытается достичь этого, подчеркивая на каждом шагу вездесущность того целостного мира живущих по законам музыки идей, который заключен в ней, и установить магическую nunc stans [101]101
Сущую неподвижность (лат.).
[Закрыть]. Однако присущее ей честолюбивое стремление до конца согласовать между собой содержание и форму, сущность и явление, и в то же время всегда быть тем, о чем в ней говорится и что составляет ее содержание, – это честолюбивое стремление заходит еще дальше. Оно распространяется на еще одну основную тему, тему активизации, которой часто сопутствует прилагательное «алхимическая». Вспомните: молодой Ганс Касторп – герой весьма заурядный, балованный сынок из богатой гамбургской семьи и средней руки инженер. Однако, оказавшись наглухо изолированным в лихорадочной атмосфере Волшебной горы, это несложное по составу вещество претерпевает активизацию, и теперь Ганс Касторп способен на моральные, духовные и чувственные похождения, какие ему и во сне не снились в том, другом мире, который обитатели Волшебной горы с неизменной иронией называют «равниной». История Касторпа – это история активизации человеческой личности, ее взлета, но это в то же время и активизация в самой себе, активизация самого рассказа, самого повествования. Конечно, повествование оперирует средствами реалистического романа, но оно не является реалистическим романом, оно постоянно выходит за рамки реалистического, символически активизируя, приподнимая его и давая возможность заглянуть сквозь него в сферу духовного, в сферу идей. Это сказывается уже в подходе к персонажам, – ведь читатель чувствует, что каждый из них представляет собой нечто большее, нежели то, чем он кажется на первый взгляд: все они – гонцы и посланцы, представляющие духовные сферы, принципы и миры. Надеюсь, что от этого они не превратились в бесплотные тени и ходячие аллегории. Это тревожило бы меня, если бы я не знал, что эти герои – Иоахим, Клавдия Шоша, Пеперкорн, Сеттембрини и все прочие – живут в воображении читателя как реальные лица, о которых он вспоминает как о своих добрых знакомых.
Таким образом, за счет активизации эта книга далеко переросла первоначальные намерения автора как в смысле объема, так и в смысле внутреннего содержания. Из короткого рассказа получилась двухтомная махина – несчастье, которое никогда бы не стряслось со мной, если бы «Волшебная гора» осталась тем, что многие люди видели в ней вначале и видят еще и досих пор: сатирой на жизнь санаториев для легочных больных. Книга наделала в свое время немало шуму в медицинском мире, вызвала там сочувствие одних и негодование других и произвела небольшую бурю в газетах для врачей. Но критика санаторной терапии – это только передний план, один из передних планов романа, для которого по самой его сути так характерен именно второй, задний план. Роль наставника, предостерегающего о моральной опасности постельного режима и всей зловещей обстановки санатория, предоставлена, в сущности, господину Сеттембрини – резонеру, рационалисту и гуманисту, который является всего лишь одним из многих персонажей, персонажем забавным и симпатичным, порой даже рупором автора, однако это отнюдь не сам автор. Для автора и смерть, и болезнь, и все жуткие приключения, через которые он заставляет пройти своего героя, – это лишь педагогическое, да, именно педагогическое средство, с помощью которого достигается огромной силы «активизация», приподнимание заурядного героя над его первоначальным уровнем. Они расцениваются – именно потому, что служат воспитательным средством, – как нечто весьма положительное, хотя, проходя через посланные ему испытания, Ганс Касторп оставляет позади врожденный благоговейный страх перед смертью и постигает ту разновидность гуманизма, который не отвергает мысль о смерти и все темные, таинственные стороны жизни, не пытается с рационалистическим презрением забыть о них, а включает их в себя, не давая им, однако, духовно взять верх над собой.
Усвоенные им уроки сводятся к тому, что всякое здоровье в высоком смысле этого слова должно сначала пройти школу глубокого познания болезни и смерти, точно так же, как познание греха является предварительным условием спасения души. «К жизни, – говорит в одном месте Ганс Касторп мадам Шоша, – к жизни есть два пути: один из них – путь обычный, прямой и честный. Другой – недобрый, он ведет через смерть, и это – путь гения». Это понимание болезни и смерти как необходимого этапа на пути к мудрости, здоровью и жизни делают «Волшебную гору» романом о посвящении в таинства (initiation story).
Этот термин я выдумал не сам. Критика подсказала мне его задним числом, и, собираясь говорить с вами о «Волшебной горе», я решил воспользоваться им. При этом я охотно прибегаю к критической помощи со стороны, ведь думать, будто автор лучше всех знает свое произведение и может дать к нему самый лучший комментарий – значит впадать в ошибку. Пока он создает его и живет в нем, все это, может быть, и правильно. Но произведение, над которым он перестал работать, которое отошло для него в прошлое, все больше отделяется от него и начинает жить самостоятельной жизнью, так что наконец приходит время, когда критики со стороны знают о нем больше и разбираются в нем лучше, чем сам автор, и нередко могут напомнить автору кое о чем, что он уже забыл или, быть может, даже никогда ясно не осознавал. Вообще человеку необходимо, чтобы время от времени кто‑нибудь напоминал ему о нем самом. Человек отнюдь не всегда является полным хозяином своего «я»; мы далеко не всегда держим под рукой все то, из чего это «я» складывается, – в этом заключается одна из слабостей нашего самосознания. Лишь в редкие мгновения душевной ясности, сосредоточенности и прозрения человек действительно знает, кто он такой, и скромность замечательных людей, которая часто кажется нам поразительной, во многом объясняется, пожалуй, именно тем, что они, как правило, мало знают о самих себе, редко думают о своем «я» и по праву чувствуют себя обыкновенными людьми.
Но как бы то ни было, есть известная прелесть в том, что критика разъясняет тебе твои собственные мысли, учит тебя понимать некогда написанные тобой произведения и вновь переносит тебя в их атмосферу; мало кто не испытал при этом чувство, которое можно было бы наиболее точно передать французской фразой: «Possible que j’ai eu tant d’esprit?» [102]102
Неужели я в самом деле так умен? (фр.)
[Закрыть]. Что касается лично меня, то, принося благодарность за подобные проявления теплых чувств к моей особе, я обычно пользуюсь следующей стандартной формулировкой: «Я весьма признателен Вам за то, что Вы так любезно напомнили мне обо мне самом». Именно в этих словах я, наверное, ответил и профессору Йельского университета Герману Дж. Вейганду, когда он прислал мне свою книгу о «Волшебной горе» – наиболее полную и фундаментальную критическую работу из всех, посвященных этому роману. Тем из вас, кто более пристально интересуется им, мне хотелось бы горячо порекомендовать этот действительно очень вдумчивый комментарий.
Недавно у меня оказалась в руках рукопись на английском языке, автором которой является один молодой ученый Гарвард – ского университета. Она озаглавлена: «The Quester Него. Myth as Universal Symbol in the Works of Th. М.» [103]103
«Герой-искатель. Миф как всеобъемлющий символ в произведениях Томаса Манна» (англ.).
[Закрыть], и чтение этой работы очень хорошо помогло мне вспомнить и по – новому понять коечто о самом себе. Ее автор ставит «Волшебную гору» и ее простодушного героя в рамки большой традиции – традиции не только немецкой, но и мировой литературы; он возводит ее к тому типу литературных произведений, который он называет «The Quester Legend» [104]104
«Сказания об искателях» (англ.).
[Закрыть]и который имеет свою долгую историю в литературе многих народов. Самой известной формой, в которую он вылился в Германии, является «Фауст» Гёте. Но за Фаустом, этим вечно Взыскующим, стоит целая группа произведений, носящих общее название «Сказаний о святом Граале». Их герой, будь то Говэн, Галахад или Парсифаль, это и есть the Quester – Взыскующий и Вопрошающий, герой, прошедший в своих скитаниях небо и ад, дерзнувший бросить им вызов и заключивший договор с тайными силами, с болезнью, с дьяволом, со смертью, с потусторонним, оккультным миром, с той сферой, которая названа в «Волшебной горе» «достойной любопытства», герой, отправившийся на поиски Грааля, то есть высшей цели, жаждущий знания, познания, приобщения к тайнам, ищущий философский камень, aurum potabile [105]105
Питьевое золото (лат.).
[Закрыть], эликсир жизни.
К числу таких героев – искателей, заявляет автор, – и разве он не прав? – принадлежит также и Ганс Касторп. Взыскующего героя, в особенности ищущего Грааль Парсифаля, в начале его странствий часто называют «простаком», «великим простецом», «безобидным простаком». Это соответствует «простоте», простодушию и заурядности, которые постоянно приписываются герою моего романа, как будто бы какое‑то смутное ощущение преемственности заставляло меня настойчиво подчеркивать это его свойство. А Гётевский Вильгельм Мейстер, – разве он не такой же «безобидный простак», постоянно остающийся, несмотря на свою почти полную тождественность с личностью автора, объектом его иронии? Теперь мы видим, что великий роман Гёте, входящий в высокую родословную «Волшебной горы», тоже стоит в одном ряду с «легендами об искателях», продолжая их традиции. Да и что такое немецкий «роман воспитания», к жанру которого относятся и «Вильгельм Мейстер» и «Волшебная гора», не является ли он в сущности сублимированным и облагороженным мыслью вариантом романа приключений? Прежде чем достичь священной горы, искатель Грааля должен пройти ряд страшных и таинственных испытаний в лежащей на его пути часовне, которая называется «Atre perilleux» [106]106
«Очаг опасностей» (фр.).
[Закрыть]. По всей вероятности, эти необычайные испытания были первоначально ритуалами приобщения к тайнам, доступным лишь избранникам, условием познания этих тайн, – ведь идея мудрости и познания всегда связана с потусторонним миром, со смертью и мраком. В «Волшебной горе» много говорится о «перевоспитании» в духе алхимиков и герметиков, о «преодолении вещественности»; и здесь, сам того не зная, как один из ищущих Грааль «безобидных простаков», я опять‑таки втайне руководствовался традицией: ведь это – те самые слова, которые так часто употребляются, когда речь идет о связанных с Граалем таинствах. Не случайно и то, что в «Волшебной горе» такое большое место занимает масонство и его обряды: ведь масонство происходит по прямой линии от ритуалов посвящения в таинства. Одним словом, Волшебная гора – это видоизмененный храм Приобщения, арена опасной борьбы за право проникнуть в тайну бытия, и Ганс Касторп, совершающий «путешествие в целях образования», оказывается таким образом обладателем славного генеалогического древа, потомком мистических героев – рыцарей; он – типичный новообращенный, который с любопытством подлинного неофита добровольно, быть может, даже с излишней готовностью, спешит в объятия болезни и смерти, ибо первое же соприкосновение с ними сулит ему ясновидение, прозрение, чудесный взлет его «я», – разумеется, если он не побоится пойти на связанный с этим большой риск.
Мне положительно нравится этот дельный и остроумный комментарий, к помощи которого я прибег, чтобы истолковать вам (а кстати, и самому себе) мой роман, – это запоздалое, по – современному усложненное, сознательно задуманное и в то же время бессознательно возникшее звено в длинной цепи традиции. Ганс Касторп – искатель Грааля! Уж, наверное, это не пришло вам в голову, когда вы читали его историю, а если это приходило в голову мне самому, то это было нечто меньшее, чем осознанное намерение, и нечто большее, чем безотчетное ощущение. Может быть, вы захотите прочесть книгу еще раз, – под этим углом зре – ния. Тогда вы найдете разгадку того, что такое Грааль: мудрость, приобщение к тайнам, та наивысшая цель, к которой стремится не только простодушный герой, но и сама книга. В частности, вы найдете эту разгадку в главе под названием «Снег», где заблудившийся ца гибельных горных кручах Ганс Касторп грезит о Человеке. Грааль наш герой, правда, так и не нашел, но незадолго до того, как разразившаяся в Европе катастрофа увлекает его с достигнутых им высот в свою пучину, Грааль все же предстает перед ним в грезах, которые он видит в своем глубоком, похожем на смерть сне; Грааль – это идея Человека, первое предчувствие новой, грядущей человечности, прошедшей через горнило глубочайшего познания болезни и смерти. Грааль – это тайна, но и человечность – это тоже тайна. Ведь и сам человек – это загадка, и в основе человечности всегда лежит преклонение перед этой загадкой.








