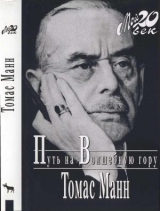
Текст книги "Путь на Волшебную гору"
Автор книги: Томас Манн
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 35 страниц)
Однако иное вознаграждало меня и ободряло. Большая статья в «Нувель литерэр», где на редкость тонко были оценены громадный труд, который проделала Луиза Сервисан, осуществив перевод «Лотты в Веймаре», и роман как таковой обрадовали меня гораздо больше, чем огорчили упомянутые неприятности. Эрика прислала мне этот номер из Мондорфа (Люксембург) вместе с описанием своего посещения нацистских главарей, временно содержавшихся там в ожидании суда в какой‑то полугостинице – полутюрьме. Когда эти низвергнутые страшилища узнали, кто такая американская военная корреспондентка, у них побывавшая, волнение их выразилось в самых различных градациях, от бешеной ярости до сожаления, что не пришлось с ней толком поговорить. «Я бы ей все объяснил! – воскликнул Геринг. – Вопрос о Манне был решен неверно. Я бы поступил иначе!» Интересно, как же? Разумеется, он предложил бы нам замок, миллионный капитал и по бриллиантовому перстню на брата, если бы мы поладили с Третьей империей. Ну что ж, пропади пропадом, веселый душегуб! Ты по крайней мере наслаждался жизнью, в то время как твой господин и наставник нигде никогда и не жил, кроме как в аду.
Почти одновременно я получил интересную статью Георга Лукача, помещенную к моему семидесятилетию в «Интернациональной литературе». Этот коммунист, дорожащий «буржуазным наследием» и умеющий увлекательно, с большим пониманием дела писать о Раабе, Келлере или Фонтане, уже в своей серии очерков о немецкой литературе эпохи империализма отзывался обо мне очень умно и лестно, обнаружив необходимую всякому критику способность различать между мнением писателя и его бытием (или рожденной бытием деятельностью) и принимать за чистую монету не первое, а только второе. Мнения, которых я держался, когда мне было сорок лет, не помешали ему самым решительным образом сопоставить меня с моим братом и написать: «Ибо “Верноподданного” Генриха Манна и “Смерть в Венеции” Томаса Манна можно уже считать знаменательными предтечами этой тенденции, сигнализировавшими о преисподней варварства как естественном производном современной немецкой цивилизации». Этими словами предвосхищено даже соотношение между упомянутой венецианской новеллой и «Фаустусом». И это очень хорошо потому, что понятие «сигнализировать» имеет первостепенное значение во всей мировой литературе и в познании литературы. Поэт (да и философ) как индикатор, как сейсмограф, как восприимчивый посредник, не обладающий ясным сознанием этой своей органической функции и потому сплошь да рядом способный к превратным суждениям, – такая точка зрения представляется мне единственно верной. Этот новый юбилейный эссей «В поисках бюргера», будучи беспрецедентным по своей широте разбором моей жизни и деятельности, вызывал у меня глубокую благодарность, в частности, и потому, что критик не только рассматривал мое творчест – во «исторически», но и связывал его с будущностью Германии. Странно только, что при самых доброжелательных оценках его критическая сфера последовательно опускает, обходит «Иосифа». Причиной тому косность и слишком уж общие соображения. «Иосиф» – это «миф», а стало быть, увертка и контрреволюция. Жаль. И вдобавок это совсем неверно. Но так как католическая церковь тоже терпеть не может «Иосифа» за его релятивистское отношение к христианству, моя книга вынуждена довольствоваться обществом гуманистов, смело одобряющих то сочувствие всему человеческому, которое и составляет светлую душу этого произведения.
Не следует, впрочем, думать, будто все доброе и отрадное приходило ко мне только из ненемецкого мира. Клаус писал мне из Рима, что в Берлине он повсюду видел афиши, сообщавшие о лекциях об «Иосифе» и чтениях из «Лотты». Мне говорили, что по новому немецкому радио передаются различные мои работы. Лагерная газета военнопленных «Дер Руф» (выходящая ныне в Мюнхене) напечатала приветливо – дружелюбную статью обо мне. Вопреки Тису и компании, мое имя сочувственно упоминалось в немецких газетах. Одним словом, если уж осуждение не было единодушным, то разве можно было ждать единодушного одобрения? Всегда приходится черпать спокойствие в старинном изречении, которое я еще в юности прочел на одном из фронтонов Любека: «На всех не угодишь». Да ведь и вся суть не в том, чтобы кому‑то угодить, а в общем итоге твоих действий, в который в конце‑то концов оформляются все недоразумения, споры и муки. Правда, такое оформление есть нечто весьма близкое к смерти или даже происходящее после нее. Жизнь – это мучение, и только покуда мы страдаем, мы и живем…
Теперь стали приходить письма от старых друзей, ибо Германия снова открылась миру: от Преториуса, от Рейзигера, из более молодых – от Зискинда; ничего не давал о себе знать Эрнст Бертрам, о котором я не раз справлялся, но получал в лучшем случае полууспокоительные ответы. Приходили письма и от тех, кого мы уже привыкли считать зловещими фигурами и кому, хотя они сами утверждали противное, не так‑то легко было ответить, – например, от Кирхнера из «Франкфуртер цейтунг» и Блунка, бывшего президента гитлеровской имперской палаты по делам прессы. Кроме того, из Германии поступало множество писем, авторы которых, жалуясь мне на победителей, не желающих отличать козлищ от агнцев и стригущих всех немцев под одну гребенку, умоляли меня пустить в ход мое огромное влияние и немедленно изменить существующее положение.
«Вооружившись старыми дневниками, занялся дальнейшим ходом романа (начало войны). Усердно писал XXX… Ночью нездоровилось, озноб, возбуждение, простуда, нарушен сон. Ощущение приближающейся болезни… Английский вариант “Письма в Германию” для “Лондон ньюс кроникл”… Несколько часов за письмами… “Марионетки” Клейста. Книга Франка Гарриса о Шекспире. Беседовал с К. о неистовстве этого года; какой‑то град потрясений, среди них – множество смертей: теперь еще Бела Барток, Рода – Рода, Беер – Гофман и Сибрук, который покончил с собой. Ничего не было бы удивительного, даже если бы я еще больше устал. Но интерес к роману оживился за эти дни. Смущает нероманность, странно реальная и все‑таки выдуманная биографичность. Заблаговременно забочусь о далеких разделах, хотя немало трудностей гораздо ближе: написал Вальтеру в Нью – Йорк и попросил его предоставить мне во временное пользование мое письмо о Фридо, имея ввиду Непомука Шнейдевейна… Речь, посвященную памяти Франка, закончил к вечеру».
Да, теперь настал ее черед, этой чаши, этой жертвы, принесенной мною, правда охотно, но все‑таки с тихим ропотом на столь безжалостную настойчивость. Траурное заседание состоялось 29 сентября в голливудском Плей – хаузе. Большой зал был полон, собралась вся «Германская Калифорния». Мой брат, хоть он и редко выходит из дому, в этот раз тоже был с нами. Выступали декламаторы, опытные чтецы, которым, однако, не удавалось справиться с некоторыми акустическими неудобствами, так что публика, сидевшая в дальних рядах, то и дело досаждала им несносным возгласом «громче!». Далее последовали отрывочные, слишком отрывочные сцены из чудесной комедии «Буря в стакане воды». Я говорил последним, перед фортепьянной концовкой – с напряжением, предельно измученный, от всей души. По мнению Генриха, это было волнующе, слишком волнующе. На следующий день, по телефону, Лизель Франк сказала, что на такие церемонии, как вчерашняя, меня вообще не следует звать, что я отдаю им слишком много сил и что это был, конечно, последний подобный случай… А что, если теперь состоится вечер, посвященный памяти Франца Верфеля?
Я занимался XXXI главой, где речь идет о конце войны, об «услужливых женщинах» и об обращении Адриана к кукольной опере, а «по вечерам подолгу читал “Gesta Romanorum”. Самая прекрасная и самая поразительная из этих историй – рассказ о рождении святейшего папы Григория. Он избран папой благодаря тому, что рожден плотской связью брата с сестрой и сотворил кровосмесительный грех с собственной матерью, что, впрочем, искупил невероятным семнадцатилетним мученичеством на пустынной скале. Крайняя греховность, крайнее раскаяние – только такое чередование ведет к святости…» Я ничего не знал о многочисленных разновидностях этой легенды и, в частности, не имел представления о средневерхненемецкой поэме Гартмана фон Ауэ. Но легенда мне настолько понравилась, что у меня тотчас же зародилась мысль когда‑нибудь отнять этот сюжет у моего героя и самому сделать из него маленький архаический роман.
9 ноября была начата, а через двадцать дней закончена XXXII глава, содержащая томительный разговор между Инесой и Цейтбломом. Сразу же стал готовиться к следующей, которая, имея дело снова с «двумя временными планами», должна была ввести мотив русалочки и сочувственно раскрыть эльфическикокетливую натуру Швердтфегера. Однако состояние здоровья, сильный насморк и кашель, обострившийся катар дыхательных путей и скверный вид снова заставили меня обратиться к врачу, и результат этой консультации вполне соответствовал моим собственным ощущениям: были установлены дальнейшее уменьшение веса, скопление мокроты в бронхах, пониженное кровяное давление и прописаны лекарства, усиливающие питание организма. Итак, снова за роман, вооружившись большими красными капсюлями с витаминами, глотать которые трижды вдень было весьма трудно. В декабре я начал разрабатывать XXXIII главу, ободренный сознанием, что никакая серьезная опасность мне не грозит й что мое сердце снова оказалось совершенно здоровым. Вот только плохо было, что как раз теперь, когда с каждым днем на меня все явственнее надвигалась самая трудная из задач – убедительное, достоверное, прямо‑таки иллюзорно – реалистическое описание апокалипсической оратории Леверкюна, которое нельзя было дать иначе, как в серии из трех глав, ибо я сразу решил ввести в анализ этого злосчастного эсхатологического опуса картину до ужаса сходных переживаний доброго Серенуса (архифашистские беседы у Кридвиса), – плохо было, что как раз теперь этот вечный катар в дыхательном горле и бронхах так сокращал, а подчас и совсем истощал мои силы. Не очень хорошо было и то, что снова и снова приходилось лично участвовать во всяких официальных заседаниях. В Ройс – Холле, Уэствуд, в присутствии представителей русского консульства, я прочитал в виде доклада специально для этого переделанную статью о Достоевском, вызвав, к своему удовольствию, особый интерес к ней у Клемперера, который тоже там был. В роли застольного оратора мне пришлось также выступить на банкете Independent Citizen Committee [241]241
Комитета независимых граждан (англ.).
[Закрыть], куда входили профессора Шепли и Дайкстра, миссис Дуглас – Гахаген из House of Representatives [242]242
Палаты представителей (англ.).
[Закрыть]и полковник Карлсон. Гвоздем вечера оказалась речь либерального (ныне уже умершего в генеральском чине) colonel’a [243]243
Полковника (англ.)
[Закрыть] , с большим мужеством бичевавшего злоупотребления наших войск в Китае, где им решительно нечего было искать, тем более что единственная часть этой страны, где был порядок, управлялась по – коммунистически… Как непохожи на этот банкет по – своему любопытные вечерние приемы у отпрыска Гогенцоллернов графа Остгейма, на которые нас иногда приглашали, – у этого веймарского престолонаследника, заблаговременно лишенного права на трон за антимилитаризм и другие дисквалифицирующие убеждения – у него и у его жены, американки. Там можно было найти разношерстное интернациональное общество и услышать от высокородных русских белоэмигрантов утверждения насчет возможности соглашения со сталинским правительством об их выдаче. Как бы там ни было, я не в состоянии поверить, что кто‑либо в Москве считает этих господ опасными. Но, собственно говоря, как они попали в салон «красного принца»? Впрочем, это как раз можно понять. Изгнание объединяет, и различие причин, его вызвавших, не очень существенно. Будь то «краснота» или ее прямая противоположность – общность судеб и классовая солидарность оказываются важнее, чем оттенки в убеждениях, и так‑то вот люди и сходятся…
«Продолжал главу». «Кое‑что прибавил к главе». «Подхожу к концу XXXIII». 27 декабря: «Закончил XXXIII. – Читал вслух. – Возможно, что из‑за своей усталости я все‑таки слишком критически отношусь ко всему сделанному. Читал Апокалипсис, задет за живое словами: “Ты не много имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не отрекся имени Моего”».
XII
Уже в начале декабря я принял и выполнил одно решение – вручить Адорно отпечатанную на машинке копию всего до сих пор написанного, чтобы дать ему полное представление о «Фаустусе», познакомить его с моими замыслами и призвать на помощь его воображение при работе над предстоявшими мне музыкальными главами. Затем, в конце года, вместо обычного утреннего урока я написал ему на десяти страницах объяснительное письмо, где прежде всего попытался оправдать свои «опасно – неопасные» посягательства на его философию музыки: они допущены, писал я, в надежде, что все эти заимствования, все эти реминисценции приобретут в контексте моего сочинения какую‑то самостоятельную роль, заживут какой‑то символической собственной жизнью, нисколько не вредя своему критическому первоисточнику. Далее я говорил ему о том, как нужны мне будут при моем «посвященном невежестве» точные профессиональные знания для предстоящей работы. «Роман, – писал я, – дошел до того места, где Леверкюн, тридцати пяти лет, в приливе эвфорического вдохновения, в устрашающе короткий срок, создает свое главное, или, вернее, свое первое главное произведение “Apocalypsis cum flguris” [244]244
«Апокалипсис с иллюстрациями» (лат.).
[Закрыть], отправляясь от пятнадцати гравюр Дюрера или даже непосредственно от текста Иоаннова Откровения. Здесь требуется с известной убедительностью выдумать, наделить реальны – ми чертами, охарактеризовать какой‑то музыкальный опус (он представляется мне очень “немецким” произведением, ораторией с оркестром, хорами, солистами и чтецом), и сейчас, посылая Вам это письмо, я, собственно, не отступаюсь от дела, взяться за которое у меня еще не хватает смелости. Мне нужно несколько конкретных, мнимо – реальных деталей (можно обойтись очень немногими), способных дать читателю какую‑то ясную, более того – убедительную картину. Не согласились бы Вы вместе со мною поразмыслить над тем, как вдохнуть жизнь в это произведение – я имею в виду произведение Леверкюна, – как написали бы его Вы, если бы Вы состояли в сделке с чертом, и сообщить мне те или иные музыкальные приметы, создающие необходимую иллюзию? Мне видится нечто сатанинско – религиозное, демонически – благочестивое, но в то же время нечто очень строгое, слаженное и прямо‑таки преступное, порою даже какое‑то глумление над искусством, возврат к примитивно – элементарному (ассоциация с Кречмаром – Бейселем), отказ от деления на такты [245]245
Т.Манн в своем романе очень точно подметил основные элементы языка музыкального экспрессионизма, манифестирующего отказ от завоеваний многовековой музыкальной культуры и возвращение к примитивным формам (натуральные лады, отсутствие устойчивой ритмической организации и т. д.)
[Закрыть], даже от организованной последовательности звуков (глиссандо тромбонов); нечто едва ли практически осуществимое: старинные церковные лады, нетемперированные хоры a capella, ни один звук или интервал которых вообще недоступен фортепьяно – и так далее. Но легко сказать “и так далее”…»
Эти нетемперированные хоры были моей нелепо – навязчивой идеей, и я за нее упрямо держался, хотя мой консультант и слышать о ней не хотел. Я так пленился своей выдумкой, что тайком от Адорно посоветовался по этому поводу с Шёнбергом, который ответил: «Я бы не стал этого делать. Но теоретически это вполне возможно». Несмотря на такое разрешение самой высшей инстанции, я в конце концов все‑таки отказался от своей затеи. Равным образом я сохранил деление на такты, придав, однако, этому завоеванию культуры иронический смысл. Зато я выпятил варварское начало инструментальных и вокальных глиссандо. Сначала, впрочем, было еще одно рождество, дождливое рождество, когда у нас гостило маленькое семейство из Сан – Франциско – Милл Воллей, и мы, из‑за отсутствия елочных украшений, в канун праздника разрезали на узкие полоски скопившуюся у нас фольгу, чтобы порадовать мальчишек. «Встреча с Фридо – я был счастлив». Во время праздников я еще писал XXXIII главу, куда дополнительно вставил странно обстоятельные рассуждения Адриана о красоте и реальности русалок и которую закончил в самые последние дни года. На нее ушло двадцать семь дней. Адорно сообщил мне, что он все прочитал и сделал кое – какие заметки для обсуждения… «Правил главу. Страшно устал на прогулке, весь остаток дня чувствовал какую‑то сонливость и слабость, но уснуть не удалось. Принял доктора Шифа. (Дотоле я пользовался услугами доктора Вольфа, но при таких недомоганиях, как у меня, обычно не раз меняют врачей; впоследствии пришла еще очередь доктора Розенталя, врача моего брата.) Он установил катар дыхательного горла и воспаление лобных пазух, предположительно инфекционное, и прописал всякие успокаивающие, смягчающие и тонизирующие средства». Так записано в дневнике. Ну что ж, жара у меня не было, я был не болен, а только полуболен, и поэтому я придерживался своего обычного режима, этого привычного чередования работы, чтения, прогулок к морю, писем, диктуемых на машинку, и писем, собственноручно написанных. «Почему все, кто хочет иммигрировать или ищет job [246]246
Работу (англ.).
[Закрыть], обращаются ко мне!» Но это ведомо одному лишь Господу Богу… Подготовка к трехчастной XXXIV главе началась сразу же с новым 1946 годом, он открывается в моем дневнике записью, относящейся ко всему «Фаустусу» в целом и сделанной по поводу «Мемуаров» Макса Осборна, к которым автор попросил меня написать предисловие. Я читал в этой книге о Менцеле, Либермане, Клингере, Лессере – Ури, Боде, о людях хрестоматийно – образцовых. «Все как один – личности! Кажется, о себе я этого не могу сказать. Меня будут так же редко вспоминать, как, например, Пруста». И вдруг: «Как много в “Фаустусе” от моего умонастроения! По сути, это не что иное, как самая откровенная исповедь. Вот почему эта книга с самого начала оказалась для меня такой встряской».
В один из следующих дней, под вечер, я побывал у Адорно. Он и его жена одновременно прочли мою рукопись, передавая друг другу листки, и я, исполненный сомнений, с жадностью слушал их рассказ о том, с каким интересом, увлечением, волнением они ее читали. То, что автор «Философии современной музыки» благосклонно отнесся к историко – критическим арегcu [247]247
Суждениям (фр.).
[Закрыть] , которыми мой враждебный творчеству черт, пользуясь выраже – нием Адриана, «примазывается к искусству», было большим облегчением для моей совести. Наедине с Адорно, в его кабинете, я услышал от него много справедливых и умных замечаний о величии и трудности этого замысла. Часть написанного была ему знакома благодаря моим чтениям, но многое открылось впервые, и он особенно отметил «гуманность», проявившуюся в разделе об услужливых женщинах, и «опыт», сказавшийся в страстных саморазоблачениях Инесы Родде перед «добрым», не вызывающим эмоций Серенусом. Его не очень привлекала идея, с которой я давно уже прочно сжился, – построить ораторию на дюреровских иллюстрациях к Апокалипсису, и мы сошлись на том, что внутренняя сфера этого произведения будет по возможности расширена общими эсхатологическими мотивами и, вобрав в себя всю «апокалипсическую культуру», явится своего рода квинтэссенцией всех предвещаний конца. Об этом я и раньше подумывал, ибо в Апокалипсисе Иоанна с Патмоса имеются явные заимствования из других экстатических видений, и мне казалось соблазнительным подчеркнуть то психологически любопытное обстоятельство, что в данной сфере издавна существует преемственность, традиция, наделяющая одержимых уже сложившимися образами и эмоциями, что, как сказано в тексте, «налицо известная повторяемость наитий прошлого, несамостоятельность, заимствованность, шаблонность исступлений». Я знал, почему меня так занимал этот феномен. Тут было некое совпадение с моей собственной и, как я выяснил, отнюдь не сугубо индивидуальной склонностью видеть во всяком проявлении жизни продукт культуры и сколок мифа и предпочитать цитату «самостоятельному» сочинению. «Фаустус» дает немало тому свидетельств.
В тот раз Адорно еще не подготовил музыкальных советов и указаний по поводу опуса Леверкюна, но он заверил меня, что усиленно этим занимается, что у него уже появились кое – какие идеи и что он вскоре поделится ими со мной. Если бы я не рассказал о том, как он сдержал свое слово, эти воспоминания были бы очень неполными. В последующие недели я не раз сиживал у него за рюмкой хорошей домашней наливки и, вооружившись блокнотом и карандашом, быстро, с полуслова, фиксировал поправки и уточнения к прежним музыкальным разделам и отличительные подробности оратории, им намеченные. Досконально вникнув в общий замысел книги и в частные задачи этой главы, он всеми своими советами и предложениями добивался самого существенного – описать ораторию так, чтобы ее действительно можно было осудить и за кровавое варварство, и за бескровную интеллектуальность.
Подготовка к столь важному разделу, включавшая в себя чтение Данте, изучение апокрифов и любезно предоставленных в мое распоряжение различных трудов об антично – христианских эсхатологических учениях и апокалиптике, продолжалось долго. Я начал писать его в середине января 46–го года и отдавал ему все свои силы до начала марта, то есть в течение полутора месяцев, – а это не такой уж большой срок, если принять во внимание, что силы мои все убывали и в дневнике множились скупые заметки о головной боли, о кашле по ночам, об истощении нервной системы, об «абсурдной» усталости. К тому же всегда было много каких‑то дополнительных неотложных дел и обязанностей: то нужно было выступить на митинге, посвященном «Defense of Academic Freedom» [248]248
Защите академических свобод (англ.).
[Закрыть], то продиктовать радиоречь ко дню рождения Рузвельта; к этому же времени относится «Рассказ о моем брате» – работа, приятная для меня и документально важная. В отрадных впечатлениях, способных вывести меня из состояния вялости, не было недостатка… В Гётеборге (Швеция) вышла книга Кэте Гамбургер об «Иосифе и его братьях» – обстоятельный филологический комментарий, читая который, я прямо‑таки с завистью вспоминал годы этой веселой мифологической игры, почти невозможной, совсем невозможной в теперешнем моем зловещем творении. Я корил его за неэпичность, за отсутствие юмора, за безрадостность, за художественную бесталанность. И все‑таки на него откликнулись, все‑таки я услыхал голоса первых читателей незавершенного романа, утешительные голоса, взволновавшие меня в своем письменном воплощении гораздо больше, чем всякие устные похвалы, которые, надо признать, тоже уже выпадали на мою долю. В Принстоне Эрих Кал ер, оказывается, брал по кускам у переводчицы Элен Лoy – Портер имевшуюся у нее порцию машинописного текста, и уже теперь этот человек, ставший впоследствии автором великолепного аналитического очерка о моей книге, озаглавленного «Секуляризация черта», написал мне о прочитанном им фрагменте в таком тоне, что счастье мое было пропорционально всем заботам и сомнениям, которые уготовил мне этот мучительный опус. На сей раз мне написала и сама Лоу – Портер, преданная моя переводчица, обычно из чистой скромности очень сдержанная в высказываниях о порученной ей работе. «I strongly feel, – писала она, – that in this book you will have given your utmost to the German people» [249]249
Я отчетливо ощущаю, что в этой книге вы хотите отдать немецкому народу все до конца (англ.).
[Закрыть].
К чему же еще мы всегда стремились, как не к тому, чтобы отдать все до конца? Все, что смеет называться искусством, свидетельствует об этой воле к предельному усилию, об этой решимости идти до границы возможностей, носит на себе печать, носит на себе кровавые приметы такого «utmost» [250]250
Здесь– воздаяния (англ.).
[Закрыть]. Именно этим, волей к беззаветно – отчаянной авантюре, покорил меня посмертный утопический роман Верфеля «Звезда нерожденных», который я теперь читал. Переводчик, Густав Арльт, дал мне машинопись оригинала. Одну из глав романа, о гимнастическом полете учеников хронософского класса в межпланетное пространство, покойный, желая сделать мне подарок ко дню рождения, отдал в июньский номер «Нейе рундшау». Она заканчивается мистическим парадоксом, что какая‑то величина может превосходить по величине самое себя, что энергия какого‑то светила может быть больше себя самой и что отсюда происходит всякое чудо, всякая любовная жертва, всякое саморазрушение «через глорификацию». Нравственно – поэтическая сторона этой мысли (если это можно назвать мыслью) удивительно меня тогда взволновала, и Верфель сказал мне, что он умышленно выбрал эту главу для меня. Такой же трансцендентностью отличался, как мне теперь показалось, и весь роман, написанный как бы после смерти автора и без участия сердца, целиком спиритическое произведение, смелость которого, по сути, уже не имеет никакого отношения к жизни и в художественном плане не удавшееся. В облике, в речи, в психологии этих людей, живущих через сотни тысяч лет после нас на сверходухотворенной и технически сверхоснащенной земле, есть что‑то – повторяю – спиритически пустое и выхолощенное, и некоторые совершенно невообразимые изобретения, призванные показать эту бесконечно далекую земную жизнь, например звездная световая реклама или путешествия без передвижения, а с помощью некоего инструмента, технически – спиритуальным способом, напоминают причудливые выдумки сна, которые, пока спишь, кажутся превосходными и полезными, но, как только проснешься, представляются сущим вздором. По – видимому, здесь не суждено было наступить критическому пробуждению, и если бы не отдельные юмористические места этой книги, например о простодушно – неправильной речи собак, всегда говорящих «ихний» вместо «их», читатель, наверно заскучав, отвернулся бы от ее уже неживых страниц. И все‑таки в этом сверхсмелом эпосе смерти встречаются чудесные колдовские озарения, несравненные находки, плоды уже сбившегося с пути, но именно потому гениального воображения. Гротескно – жуткие сцены и приключения в преисподней, внутри полого шара земли, с ее душной, гнетущей атмосферой, по силе фантазии не имеют себе равных в литературе, а ведь это произведение странно привлекало, волновало и впечатляло меня именно своими тайными связями с мировой литературой, тем, что оно, пусть на свой лад, пусть косвенно, но все‑таки продолжало какие‑то традиции, будучи явно «романом о путешествии». Поэтому оно напоминает и как бы включает в себя Дефо, а также Свифта и Данте, последнего – с особенной настойчивостью, но с наименьшей выгодой для себя, ибо, в отличие от Данте, все‑таки лишено подлинной выразительности… Я читал эту книгу дважды, второй раз – «с карандашом» – и подумывал о том, чтобы прочесть о ней лекцию. Но из этого так ничего и не вышло.
2 февраля в лос – анджелесской филармонии давал концерт Губерман. Мы не испугались долгой езды и слушали, как этот безобразный маленький чародей, в котором было что‑то от обольстительного демонизма Фидлера, играл Бетховена, Баха (чаконну, добиваясь от своей скрипки прихотливо – органного звучания), очень приятную сонату Цезаря Франка и еще какие‑то цыганские мелодии в придачу. Затем мы были у него в артистической уборной, битком набитой людьми. Он просиял, когда нас увидел. Давнишнее знакомство и давнишняя приязнь друг к другу поддерживались нашими встречами в Мюнхене, Зальцбурге, Цюрихе, Гааге (где мы вместе жили в доме германского посла) и Нью – Йорке. Пятого числа он был у нас на званом обеде и пригласил нас погостить у него на даче вблизи Веве, когда мы, как предполагалось, приедем в Европу. Его уже не было в живых, когда мы вернулись в Швейцарию…
Другим нашим достопамятным гостем был канадский фотограф – художник Карш, тот самый, который создал знаменитый портрет Черчилля с задумчиво – ехидной улыбкой. Черчилль уделил фотографу пять минут, и Карш хвастался, что заставил его на этот срок расстаться с сигарой. У меня он мог устроиться удобнее. Вооружившись мощной осветительной аппаратурой, то и дело вызывавшей короткое замыкание, он работал со мной около двух часов над серией снимков, некоторые из коих, благодаря удачно схваченному «сходству» и пластическим световым эффектам, действительно оказались не только самыми совершенными моими изображениями, но и самыми совершенными фотографиями, какие мне когда‑либо случалось видеть. Жаль только, что, позируя, я был тогда в такой скверной форме и что на этих вообще‑то несравненных портретах запечатлелись бледность лица и саркастическая «одухотворенность», не очень соответствующие действительности.
Фотографические эксперименты более серьезного рода, рентгеновские снимки моих легких, обнаружили в этом органе какое‑то «потемнение», о котором доктор сказал, что за ним полезно было бы наблюдать и впредь. Пока что он рекомендовал мне полечить носоглотку у врача по фамилии Манчик, французского поляка, очень искусного специалиста, каковой и сделал все возможное, чтобы смягчить симптомы, носившие, как это все яснее вырисовывалось, вторичный характер. У меня давно уже, хотя я не до конца в этом себе признавался, во второй половине дня и по вечерам немного повышалась температура; повысилась она и в тот вечер, когда я, закончив ораторию, отправился вместе с братом на концерт чтеца Эрнста Дейча в студию Уорнера. Я уже пропустил одно аналогичное выступление этого выдающегося актера и образцового декламатора и на сей раз никак не мог не принять его сердечного письменного приглашения. На концерте было много знакомых, и я от души радовался этому вечеру, находясь в том особом, полувялом – полуприподнятом состоянии, какое бывает при небольшом жаре. Я поздно лег – и несколько дней не вставал с постели, ибо к ней меня приковало гриппозное заболевание, ежевечерне поднимавшее температуру до 39°. Пенициллиновые таблетки, которые я в течение суток принимал через каждые три часа, не оказали вообще никакого действия. Гораздо больше помогала смесь эмпирина с кодеином. Я много спал, даже днем, и немало читал, главным образом Ницше, ибо лекция о нем должна была быть моей ближайшей работой. Затем наступили дни, проведенные в дремоте и чтении, когда я, несколько оправившись, но при все еще подскакивавшей температуре, начал вставать с постели и только по утрам соблюдал постельный режим. В эти дни в ООН разыгрался кризис из‑за Ирана, а также в связи с англо – американским военным союзом – этой черчиллевской затеей, вызвавшей словесную дуэль между ним и Сталиным. Черчилль говорил довольно элегантно, Сталин резко, и, на мой взгляд, оба не были неправы. Впрочем так всегда и бывает, и лишь однажды в жизни, себе в назидание, мне случилось испытать иное. У Гитлера было одно особое качество: он упрощал чувства, вызывая непоколебимое «нет», ясную и смертельную ненависть. Годы борьбы против него были в нравственном отношении благотворной эпохой.








