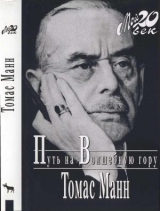
Текст книги "Путь на Волшебную гору"
Автор книги: Томас Манн
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 35 страниц)
Многозначительная неразделимость прямого и косвенного смыслов почти каждого кирпичика этого монументального и замысловатого, цельного и эклектического здания из слов заявляет о себе не то что на первой странице романа, а уже на титульном листе, в заглавии и подзаголовке «Доктор Фаустус. Жизнь немецкого композитора Адриана Леверюона, рассказанная его другом». Слова «Доктор Фаустус» сразу напоминают о сделке с дьяволом и о Гёте, чьим преемником Томасу Манну всегда нравилось видеть себя. «Немецкий композитор» – это, как откроется при дальнейшем чтении, указание не столько на профессию героя, сколько на две главные темы романа – тему Германии и тему искусства. А «друг» – рассказчик – не просто первое лицо, «я», от которого ведется рассказ, не просто Серенус Цейтблом, но и частица души автора, не то чтобы его второе «я», а скорее прием отстранения от материала, способ дискретного самовыражения.
Эпиграф из Данте столь же многозначителен и так же подчинен поэтике романа, как его название и подзаголовок. Эпиграф имеет, конечно, и прямой смысл, как призыв к музам и благородному разуму помочь автору на его тягостном пути. Но когда в XIX главе Данте и его поэма будут упомянуты в связи с леверюоновскими песнями на ее стихи, читатель, уже догадавшись, что в этом тексте нет случайных подробностей, соотнесет это новое упоминание Данте с эпиграфом и найдет в выбранных Леверкюном стихах нечто приложимое к самому тексту романа. «…Но еще больше осчастливило меня, – говорит друг Леверкюна, – чудесно удавшееся Адриану воплощение девяти стихов, где поэт обращается к своей аллегорической песне, настолько косноязычной и темной, что мир так никогда и не поймет скрытого ее смысла. Пусть же, обращается Данте к поэме, она упросит людей оценить если не глубину свою, то хоть свою красоту. “Вы поглядите, как прекрасна я”. Трогательное разрушение тяжеловесности, нарочитой сумбурности, отпугивающей затрудненности первых строф мягким сиянием этого возгласа сразу же меня покорило, и я не утаил своего восторга».
О «затрудненности дыхания» первых строк своего рассказа говорит в первых же строках сам Цейтблом. Но мотив Данте вторично возникает здесь, в XX главе, думается нам, не ради того, чтобы попросить прощения за «косноязычие» и «темноту». Томас Манн косвенно, как и многое прочее, выражает здесь другую просьбу – обратить особое внимание на форму его романа. О том же, в сущности, он просил и читателей «Волшебной горы», советуя им прочесть книгу дважды, но в чикагском докладе он просил, так сказать, прямым текстом, а в «Фаустусе» сделал и самую просьбу объектом своего «музицирования».
Роман вышел вскоре после страшной мировой войны, и под впечатлением от пережитого многие читатели, даже самые искушенные и чуткие, книги этой не приняли или по меньшей мере не одобрили, потому что от Томаса Манна, идейного представителя «доброй Германии», «совести нации», «властителя дум» ждали, что он и как художник откликнется на случившееся яснее, прямее.
Он и откликнулся как художник, но представлял он в «Докторе Фаустусе» не какую‑то «добрую» часть Германии, не какую‑то демократическую или вообще политическую силу, хотя «аполитичным» давно уже себя не считал. Германия показана в романе не только эпохой, современной автору, но и Средневековьем, которое еще живо в облике городов и в человеческих душах. Тема Германии, заявленная в подзаголовке наряду с темой искусства, сплетается в структуре романа с этой второй темой настолько тесно, что трудно сказать, какая из них главенствует. И в ту, и в другую вплетена нить, связывающая обе с вселенской драмой, с трагедией бытия, – это мотив взрыва.
Все линии романа связаны воедино по принципу контрапункта. То есть роман о композиторе построен как музыкальная композиция. Роман комментирует сам себя. Самым существенным его автокомментарием представляется нам упоминание «магического квадрата» – и как детали гравюры Дюрера «Меланхолия» (1514), и как такового. Магический квадрат разделен на равное число столбцов и строк, в полученные таким образом клетки вписаны числа, дающие в сумме по каждому столбцу, каждой строке и двум большим диагоналям одно и то же число. Эта математическая закономерность теоретически пока не объяснена. Так вот, развязка у всех тематических линий романа одна и та же, как сумма цифр по вертикалям, горизонталям и диагоналям магического квадрата. Музыкальная линия кончается «Плачем доктора Фаустуса», которым Леверюон, кончающий безумием и гибелью, хочет отнять у людей Девятую (с текстом из оды Шиллера «К радости») симфонию Бетховена. Семейная линия – самоубийством и убийством, тема Вселенной (в рассказах об океанских глубинах и космосе) находится под влиянием «эффекта Доплера», то есть продолжающегося, но не ощущаемого нами из‑за нашей несоизмеримости с мирозданием взрыва. Что же касается отчизны, Германии, то над ней – рассказ ведется в 1943 году – стоит грохот взрывов. Магический квадрат, символизирующий тождественность этих развязок, наверное, имеет отношение и к главному для Цейтблома вопросу: «Каково будет принадлежать к народу, история которого несет в себе гнусный самообман?»
О том, как писался этот последний большой роман, – в какой точке земли, в какие годы, при каких мировых событиях и личных обстоятельствах, – Томас Манн рассказал в большом очерке «Роман одного романа», который вошел в этот сборник. Очерк определен автором как pars pro toto – часть вместо целого. На примере «Доктора Фаустуса» он показал свой способ писать, свою литературную мастерскую.
О своей философской лаборатории, о том, к чему он пришел в конце жизни в своих размышлениях о человеке, о мире, о вере, подробного и связного рассказа он не оставил. Об итогах этого рода мы можем судить лишь по отдельным высказываниям, разбросанным по его письмам и статьям последних лет. «Моя жизнь и ее плоды на виду» – это его собственные слова. «На виду» она в части прощального взгляда на мир, заметим, прежде всего благодаря его письмам, их DruckBertigkeit, потенциальной готовности к печати. В них нет чрезмерной распахнутости, нет запальчивости, есть глубина, есть серьезность, есть сознание, что даже очень частное, очень «домашнее» письмо будет когда‑нибудь опубликовано. Так и случилось.
«Вера? Вы хотели бы знать, какая вера хранится в моем шкафу, но ничего не можете увидеть. Если проэкзаменовать себя, результат получится в высшей степени тривиальный: я верю в доброту и духовность, в правдивость, свободу, смелость, красоту и праведность – одним словом, в суверенную веселость искусства, великого растворителя ненависти и глупости. Этого, наверное, недостаточно. Возможно, что кроме того нужно верить в Господа Бога или в Atlantic Pact. Но мне хватает другого» (письмо от 21.XII.1953). «Реализм и чуткость к изменению жизни в “диалектике событий” – прекрасные вещи, но они таят в себе также зародыш цинизма и комично – иезуитской маневренности в переменах идеологии, тактики, риторики. Человеческую совесть не следовало бы перекладывать на политбюро, не правда ли?» (Письмо от 9.II.1948.)
В ответ на вопрос, знакомо ли ему религиозное чувство, Томас Манн ответил однажды, что его ненависть к духу Третьей империи сравнима по интенсивности, по горячности с чувством религиозным. Вера в искусство была для него именно верой, то есть убежденностью интуитивной, органической, способной противостоять рациональным сомнениям. Искусство – неоднократно повторял писатель – это игра. Но позволительна ли, спрашивал он, игра перед лицом беды или серьезных испытаний? До игры ли тут? Он спрашивал это и косвенно – например, в «Фаустусе», устами Леверкюна, который изверился в искусстве и назвал его «сатанинским блудом», а себя за то, что им занимался, – «великим грешником» – и прямо, например, в очерке о Чехове (1954), где есть такое, очень важное для того, о чем сейчас идет речь, признание: «Слава Чехова как писателя все росла и росла, но он относился к ней скептически, она смущала его совесть. “Не обманываю ли я читателя, – спрашивал себя Чехов, – не зная, как ответить на важнейшие вопросы?” Ни одно из его высказываний не поражало меня так, как это». Да, размышляя о праве художника на художество, Томас Манн нашел родственную душу в Чехове, тоже сомневавшемся в этом праве, а не в божестве своей молодости Толстом, который к концу жизни отбросил сомнения и отказался от «игры», стал проповедником.
Томас Манн умер в Цюрихе 12 августа 1955 года, через два с лишним месяца после своего восьмидесятилетия.
С. Апт
«В зеркале»
Высокочтимая редакция, то, что я увидел в вашем зеркале, в равной мере неожиданно и непристойно, – не спорю, мне лично все это даже по душе, но я решительно утверждаю, что в высшем, нравственном смысле никак не могу с этим согласиться.
У меня темное, зазорное прошлое, и мне крайне неловко распространяться о нем перед вашими читателями. Начнем с того, что я гимназист – недоучка. Не то чтобы я провалился на выпускных испытаниях – утверждать это было бы прямым бахвальством. Я вообще не дотянул до последнего класса и уже во втором был стар, как вестервальдский [3]3
Вестервальд – часть Рейнских сланцевых го
[Закрыть]заповедник. Закоренелый лентяй, не знающий ничего святого, ненавистный учителям старинного и почтенного учебного заведения – достойным мужам, которые с полным правом и вполне обоснованно единодушно предрекали мне верную гибель, – я только в силу какого‑то, мне самому неясного, преимущества стяжал почтительную приязнь некоторых моих соучеников. Так я просидел несколько лет на школьной скамье, пока с грехом пополам не сдал экзамена на вольноопределяющегося.
С этим свидетельством я улизнул в Мюнхен, куда переселилась моя мать после смерти отца, сенатора в Любеке [4]4
Высшим органом управления вольного города Любека был сенат, членом которого был отец Т. Манна
[Закрыть]и владельца хлеботорговой фирмы. Здесь я откровенно и беззастенчиво принялся за прежнее, снова повел праздную жизнь и наконец поступил – «покуда», как я говорил себе, – стажером в страховое общество. Но вместо того чтобы усердно вникать в дело, я, сидя на своем вращающемся стуле, исподтишка сочинял в стихах и в прозе любовную повестушку, которую вскоре пристроил в одном ежемесячном журнале сугубо бунтарского направления, что не преминул поставить себе в особую заслугу.
Я поспешил расстаться со страховым обществом прежде, чем меня успели оттуда выгнать. Заявив, что хочу стать журналистом, я несколько семестров без видимой пользы слушал в высших учебных заведениях Мюнхена пеструю мешанину лекций по истории, искусствоведению, художественной литературе и экономике. Затем внезапно, как истый бродяга, бросил все и отправился за границу, в Рим, где прошатался и сплошь пробездельничал целый год. Я проводил свои дни в бумагомарании и поглощении чтива, именуемого беллетристикой, занятии, которому порядочные люди предаются только в часы досуга, по вечерам, да пил пунш и играл в домино. Средств моих хватало ровно на то, чтобы как‑то жить и неумеренно, до полной одури, накуриваться сладкими итальянскими сигаретами, по сольдо за штуку.
Загоревший, тощий, изрядно обносившийся, вернулся я в Мюнхен, где мне пришлось, воспользовавшись своим правом на прохождение военной службы вольноопределяющимся, предстать перед военными властями. Но если кто питает надежду, что на воинском поприще я оказался менее непутевым, чем на остальных, он потерпит разочарование. Уже через четверть года, иначе говоря, еще до Рождества, я был уволен в бессрочный отпуск, ибо мои ноги не желали привыкнуть к той идеально мужественной поступи, которая зовется церемониальным маршем, почему я постоянно хворал растяжением и воспалением сухожилий. Но ведь тело в известной степени подвластно духу, и если бы я испытывал хоть некоторую любовь к шагистике, мне, несомненно, удалось бы побороть и этот недуг.
Итак, я покинул военную службу, чтобы уже в штатском платье продолжать свое беспутное существование. Некоторое время я был соредактором «Симплициссимуса» – как видите, я скатывался все ниже, со ступени на ступень. Мне шел уже четвертый десяток.
А нынче? А сегодня? С остекленевшим взором, в шерстяном шарфе вокруг шеи, я сижу в обществе столь же никчемных малых в анархистском кабачке? Или валяюсь в канаве, как и следовало бы этого ожидать?
Ничуть не бывало! Я окружен роскошью. Ничто не сравнится с моим счастьем. Я женат, у меня удивительно красивая молодая жена, принцесса, а не так себе женщина! Поверьте, ее отец – профессор королевского университета [5]5
математик Альфред Прингсхейм, в 1886–1902 гг. профессор Мюнхенского университета, отец жены Т. Манна – Кати.
[Закрыть], она и сама получила «аттестат зрелости», и все же отнюдь не смотрит на меня свысока, у меня двое цветущих, многообещающих детей. Я снимаю большую квартиру в избранной части города, с электрическим освещением, со всеми удобствами новейшего времени; она уставлена превосходной мебелью, убрана коврами и дорогими картинами. Мой домашний быт обставлен роскошно, у меня в подчинении три дебелых служанки и одна шотландская овчарка; уже за завтраком я уписываю хрустяшее печенье и почти всегда ношу лакированные башмаки. Что еще? Я совершаю триумфальные поездки. По приглашению ревнителей изящной словесности я посещаю разные города, выступаю во фраке, и стоит мне появиться на эстраде, как публика оглушает меня аплодисментами. Я побывал и в моем родном городе. Все билеты большого зала казино были распроданы, мне вручили лавровый венок, и мои сограждане дружно хлопали в ладоши. Мое имя повсюду произносят не иначе как высоко подняв брови, лейтенанты и молодые девицы в почтительнейших выражениях выпрашивают у меня автографы, и если я завтра получу орден, я, поверьте, даже не поморщусь.
Каким образом все это так сложилось, за какие такие заслуги? Я ничуть не переменился, ни в чем не исправился. Я продолжал вести себя точно так, как вел себя, когда был последним учеником, то есть грезить, читать чужие книги и сочинять свои. И вот за это‑то я теперь и окружен таким блеском. Последовательно ли это? Заслужил ли я своим образом жизни подобную награду? Если б стражи моей юности увидали меня в достигнутом мною великолепии, все их моральные устои рухнули бы, и они усомнились во всем, во что так свято верили.
Те, кому доводилось перелистывать мои сочинения, вероятно, помнят, что я всегда крайне настороженно и недоверчиво относился к писателям, вообще к художникам. Я так никогда и не перестану удивляться тому, что общество почитает людей этой сомнительной специальности. Я‑то знаю, что такое писатель; ведь в некотором роде я и сам писатель. Писатель – это, коротко говоря, человек, решительно не пригодный к какой‑либо иной добропорядочной деятельности, способный разве что валять дурака, субъект, для государства не только бесполезный, но и вредный, бунтарски настроенный; к тому же он не должен отличаться особыми умственными преимуществами, а может быть таким, каким всегда был и я, – тяжелодумом, не слишком блещущим остротою суждений; вообще же он малый ребячливый, склонный к всякому беспутству, – словом, во всех отношениях подозрительнейший шарлатан, которого общество должно было бы клеймить, да, по существу, и клеймит одним лишь презреньем. Но это не мешает тому же обществу предоставлять возможность этой породе людей добиваться высших почестей и благосостояния.
По мне, понятно, пусть будет так, я‑то здесь не в накладе. Однако куда это годится? Ведь поощряя порок, оскорбляешь тем самым добродетель.
Рассуждения аполитичного
Пролог
Когда в 1915 году я вручил публике свою небольшую книжечку «Friedrich und die grosse Koalition» [8]8
Friedrich und die grosse Koalition» – публицистическая книга Томаса Манна 1915 года, состоящая из трех статей: «Gedanken im Krieg» («Мысли во время войны»), «Friedrich und die grosse Koalition» («Фридрих и Большая коалиция») и «Ап die Redaktion des “Svenska Dagbladet” Stockholm» («В редакцию “Svenska Dagbladet” Стокгольм»). Главное место в книге заняло эссе о Фридрихе II и развязанной им против «Большой коалиции» европейских стран Семилетней войне. Эссе носило подзаголовок «Очерк на злобу дня» («Ein Abriss fur den Tag und Stunde»)
[Закрыть] [9]9
«Фридрих и Большая коалиция» (нем.).
[Закрыть], я уж было решил, что отдал долг «злобе дня» и могу в неистовстве современности вновь посвятить себя тому художническому предприятию, каковое было начато мной перед войной. Я заблуждался. Со мной произошло то же, что и со многими другими, с сотнями тысяч других, вышибленных войной из колеи, на долгие годы оторванных от собственных профессий и дел; только я был призван не государством и армией, но самим временем. Да, я был призван временем к более чем двухгодичной службе на фронте мысли, для которой моя духовная конституция подходила так же мало, как у многих моих товарищей по несчастью конституция физическая для действительной военной или тыловой службы; сегодня я возвращаюсь не в самом лучшем состоянии к своему осиротевшему рабочему столу – инвалид войны, так это можно назвать.
Плод этих лет – но нет, я не могу это назвать «плодом», лучше я буду говорить о «Residiume», об осадке, следе, и если уж быть совсем честным, о следе боли, страдания – итак, «остаток»этих лет (если бы только гордое понятие «оставаться» не накладывало бы чересчур гордый, выпрямляющий отпечаток на образованное от него существительное) – лежащий перед вами том, каковой я опять‑таки по основательным причинам поостерегусь называть книгой или произведением. Двадцатилетнее, не вовсе бессмысленное занятие искусством внушило мне слишком большое уважение к таким понятиям, как произведение, композиция, чтобы я посмел ими воспользоваться для обозначения меморандума, инвентаря, дневника или хроники. Ведь речь здесь идет о чем‑то подобном, о дневниковой, хроникальной работе, – хотя бы этот том по некоторым причинам и мог быть признан композиционно выверенным произведением. По некоторым причинам: ибо органическая, присущая всему целому, основная мысль обнаружилась бы довольно легко, если бы только вместо нее не выступало постоянно зыблющееся чувство; вот им‑то и пронизано все целое. Можно было бы говорить о «вариациях на тему», если бы только тема была выражена поточнее. Книга? Нет, об этом не может быть и речи. Эти поиски, борения, прощупывания сути, сущности, нащупывания причин некоей муки, это диалектическое фехтование в тумане противэтих причин, – да нет, никакая это не книга. Потому‑то в тексте и ощутим противохудожественный, не привычный мне недостаток владения материалом, от чего постоянно раздражается ясное и стыдливое сознание, инстинктивно скрывающее этот недостаток легким и независимым стилем… Впрочем, уж если художественное произведение может выглядеть хроникой (это я знаю из собственного писательского опыта [10]10
Речь идет о первом романе Томаса Манна «Будценброки. История гибели одного семейства» (1901), сразу поставившего молодого писателя в первый ряд не только германской, но и европейской литературы
[Закрыть]), то почему бы и хронике не выглядеть как художественное произведение? Так что этот конволют порой охвачен тщеславием и амбициями художественного произведения: это нечто среднее между произведением искусства и сердечными излияниями, композицией и писаниной, – и если бы точка существования этого конволюта не находилась бы точно посередине между художественным и нехудожественным, а была бы больше на нехудожественной стороне, то, несмотря на скомпонованные главы, было бы лучше воспринимать этот текст чем‑то вроде дневника, чьи ранние части датируются началом войны, а финал концом 1917–го – началом 1918 года.
Но если эти заметки ни в коем случае не произведение искусства, то вовсе не потому, что в слишком большой мере произведение художника, произведение человека искусства, – в этомто смысле они, пожалуй, могут быть восприняты именно таким образом. Они могут восприниматься, к примеру, как результат совершенно определенной, но в полном смысле этого слова неописуемой возбудимости художника, направленной против тенденций современности; это все те же раздражительность, тонкокожесть, невроз восприимчивости, с которыми я был знаком, из которых я в качестве художника смог (как мне кажется) извлечь немало пользы. Но эта тонкокожесть издавна демонстрировала сомнительный побочный эффект, непосредственно писательски, критически, полемическиреагировать не на внешние раздражители, но на те, что присущи моей писательской душе: типично литературная полемичность, типично литературная страсть спора, которая покоится на потребности в равновесии и потому слишком часто вырождается в озлобленную односторонность, – в этом случае критический опыт оказывается недостаточно сознательным, недостаточно зрелым для слова, для анализа, для того, чтобы можно было всерьез рассчитывать на эссеистически стройное и строгое решение проблемы. Вот так, я полагаю, и возникают произведения людей искусства, но не произведения искусства.
Произведением человека искусства эти заметки являются также и в своей несамостоятельности, в своей постоянной потребности в подпорке извне, в страсти к бесконечному цитированию, к помощи авторитетов, – этому выражению благодарности за совершенное благодеяние и детского желания растолковать читателю словами все то, что составило для тебя самого утешение и радость, вместо того, чтобы это составило немой спокойный фундамент собственной речи. Впрочем, мне кажется, что при всей необузданности этого стремления в моей работе был соблюден музыкальный такт и не нарушен вкус: цитирование воспринимается здесь как некое искусство, подобно диалогу в рассказе, заставляющему читателя напрягаться, подвергающему читателя тому же ритмическому воздействию…
Произведение человека искусства, сочинение человека искусства… Это говорит тот, кто не привык говорить сам, но кто привык позволять говорить людям и вещам, и кто тем самым «позволяет» говорить другим даже там, где, как ему кажется, он говорит сам. Остаток роли, адвокатства, игры, актерства, над – всеми – вещамистояния, остаток отсутствия всяких убеждений, остаток той поэтической софистики, каковая предоставляет право правоты тому, кто говорит в эту минуту и кем в эту минуту являюсь я, – такой остаток, без сомнения, имеется во всей книге, едва ли он осознавался мной полностью, – и все же каждое мгновение, в которое я писал свои «Рассуждения»; то, что я писал, было в самом деле суждением моего духа, чувством моего сердца. Не мое дело распутывать смешение диалектики и подлинной мучительной воли к истине. Для меня важно то, что в этом смешении – смысл существования моей книги.
Мне бы очень хотелось, чтобы ее фельетонный тон никого не обманул: годы, в которые я громоздил эти очерки, были тяжелейшими годами моей жизни. Произведение человека искусства, но ни в коем случае не произведение искусства, поскольку оно происходит из потрясенного в самих своих основах состояния художника, из поставленного под вопрос, из угрожаемого, разрушаемого ежеминутно состояния художника, каковое оказывается неспособно к иному способу самовыражения, чем тот, который представлен в этой книге. Сознание, из которого выросло это произведение; сознание, которое сделало его необходимым, было прежде всего таким: любое другое произведение было бы интеллектуально перегружено – меткое суждение, которое, однако, не слишком справедливо; ибо в действительности тщательная работа над подобными вещами раз за разом обнаруживала свою невозможность из‑за духовного состояния современности; подвижности всего того, что было незыблемо; потрясения всех культурных основ; оттого‑то и возник неизлечимый разлад в мыслях художника; голой невозможности сделатьчто‑либо на фундаменте одного только бытия, расщепление, растворение и проблематизация самого этого бытия; из‑за необходимости понять, уяснить и защититьэто бытие, поставленное под вопрос, загнанное в угол, не покоящееся твердо, инстинктивно, как нечто само собой разумеющееся; итак, тщательная работа была невозможна из‑за неизбежности ревизии всех основ жизни художника, самопознания и самоутверждения, без которых невозможна его деятельность, его воздействие и радостное исполнение своих задач.
Но почему это должно было случиться именно со мной? Почему только меня погнало на эту галеру, в то время как другие остались совершенно свободны? Я ведь знаю, что художники, работники всех видов искусств настолько, насколько их физическое бытие было пощажено войной, а также те, кого кризис и смена времен застали в том же возрасте, что и меня, не были затруднены в выпуске своей духовной продукции ни войной, ни самим кризисом. В эти четыре года создавались произведения как беллетристики, так и музыки, живописи, эти произведения публиковались, исполнялись, демонстрировались, приносили своим создателям славу, благодарность и счастье. Появились молодые художники и были вознаграждены вниманием публики. Но и художники другого поколения, порой старше, чем я, довели до конца то, что задумывали еще до войны, сделали привычные для них, характерные для их культуры и таланта, произведения; казалось, что эти произведения принимаются публикой тем радостнее, тем благожелательнее, чем меньше они затронуты современностью, чем меньше они об этой современности напоминают. Поскольку потребность публики в искусстве даже возросла, благодарность за свободное, живое произведение искусства стала горячее; готовность к любому роду вознаграждения художника – больше. Все то, что я сейчас говорю, captatio benevolentiae [11]11
Просьба о благосклонности (лат.)
[Закрыть] , – и я не делаю из этого секрета. В самом деле, я пытаюсь помириться с этой книгой, продемонстрировав, сколько отказов и отречений заключено в ней. Самые задушевные свои планы, осуществление которых многие – пусть они воспримут это как шутку или как похвалу – ожидали не без нетерпения, я отставил в сторону, чтобы заняться работой, о внутренней и внешней обширности которой я (боюсь, что и до сих пор) не имел никакого понятия, – едва ли в какоенибудь другое время я бы взялся за это. Я припоминаю, что поначалу мое рвение было очень значительным, знаковым, значащим, мною двигала вера в то, что я смогу сказать себе и другим много хорошего и важного. Но вслед за тем, какое растущее беспокойство, какая ностальгия по «свободе в определенных границах», какая мука из‑за невыразимо компрометирующего и дезорганизующего существа всех моих речей, какая гложущая забота о проходящих зазря месяцах и годах! Но коли уж перейден тот пункт, до которого было еще возможно возвращение, то «продвижение вперед» становится скорее экономическим, чем моральным императивом, – если, конечно, воля к изготовлениюне непременно героична в тех случаях, когда невозможно и помыслить о становлении. Для действий и писаний такого рода имеется только один девиз, объясняющий всю их нелепость, жалкость,но не отбрасывающий их с презрением. Этот девиз сформулирован Томасом Карлейлем в его истории Французской революции [12]12
Цит. по: Карлейль Т. Французская революция. История. Пер. с англ. В.И.Яковенко. СПб., 1907. С. 38.
[Закрыть]: «Знай, что эта Вселенная есть то, чем она кажется и чем хочет быть: нечто бесконечное. Не пытайся поглотить ее для логического переваривания, будь доволен, если, поставив один или два прочных столба в этом хаосе, ты помешаешь ему поглотить тебя».
Спрошу еще раз, почему мне выпал такой жребий, что, говоря словами клоделевской Виолены, «плоть моя приняла муки вместо распадающегося христианства»? [13]13
Цит. по: Клодель П. Благая весть Марии. Мистерия в четырех действиях с прологом. Пер. Л.Цывьяна. М., 2006. С. 180. Над этой мистерией Клодель работал почти пятьдесят лет (1912–1948 гг.). Героиня этого мистического произведения, Виолена, заболевает проказой
[Закрыть]Неужели моя духовная ситуация была особенно тяжела, так что мне пришлось защищаться специальными объяснениями, рассуждениями, речами? Сорок лет, конечно, критический возраст, ты больше не молод, ты знаешь, что твое собственное будущее – уже не всеобщее будущее, а только – твое. Теперь тебе предстоит вести свою жизнь к концу – она будет отставать от всеобщей гонки, и ее финал – будет твоим личным финалом. Новое поднимается на горизонте, оно просто отрицает тебя; оно не утверждает, что все было бы так, как оно есть, даже если бы тебя не было – оно просто зачеркивает тебя. Сорок лет – пункт поворота всей жизни; и это немало, если поворот, перелом всей твоей жизни сопровождается громом поворота всего мира, – такое страшит сознание. Однако другим тоже стукнуло сорок, и ничего – обошлось. Я что же – слабее, уязвимее, ранимее? Неужели мне не достало гордости и внутренней твердости для того, чтобы в полемике с новым не потерять самого себя, защищаясь от того, что содействует моему собственному разрушению? Или мне придется приписать себе особо возбудимое чувство солидарности с моей эпохой, особую остроту, восприимчивость, уязвимость моему чувству современности?
Пусть бы источник этих заметок был бы каким угодно, я назову его самым простым именем: добросовестность– свойство, которое образует столь значительную часть моего бытия как художника, что можно было бы коротко сказать, что все мое художническое бытие одним этим свойством и определяется: добросовестность, нравственно – артистическое качество, которому я обязан всем своим влиянием; качество, которое теперь сыграло со мной шутку. Ведь я слишком хорошо знаю, как близка добросовестность к педантичности, так что тот, кто назовет эту книгу воплощенной детско – ипохондрической педантичностью, будет не так уж не прав; мне самому в иные часы именно так и кажется. Не раз и не два передо мной вставал вопрос первого эпиграфа, будто сопровождаемый громовым раскатом хохота, словно бы я делаю нечто несообразное, ни в какие ворота не лезущее; потому‑то сквозь все мои экспликации, эксплорации, экспектации, связанные с попытками разрешить ту или иную политическую проблему, прорывается нечто вроде беспокойства, которое не позволяет обмануться ни мне, ни читателю. «Какого черта ему все это нужно?» Но вот как раз мнеэто и нужно, это касается меня куда как глубоко, и мне кажется необходимым со всей моей доброй волей, знаниями и талантом разобраться с этими проблемами. Ибо так уж устроено наше время, что больше нельзя провести границу между тем, что касается одного – единственного человека, и тем, что его некасается; все – взбаламучено, все – возбуждено, проблемы слипаются воедино, они влипают друг в друга, их более не разлепить, не разъединить; проявилась всеобщая взаимосвязь, единство всех духовных явлений; встал вопрос о человеке как таковом, и ответственность перед этим вопросом захватила также и политику, и волевые решения… В том‑то и состоит величие, тяжесть и безграничность нашего времени, что для добросовестного и ответственного – не важно, за что и перед кем – человека, для человека, всерьез относящегося к самому себе, вообще не осталось ничего, что можно было бы счесть неважным, несерьезным. Любая мука, связанная с той или иной вещью, с той или иной проблемой, суть самомучение; и только тот, кто всерьез относится к самому себе, может по – настоящему мучить себя. Мне будут прощены всякие педантичность и инфантильность, если мне будет прощено то, что я всерьез отношусь к самому себе, – факт, который становится особенно очевиден там, где я говорю непосредственно о себе самом, конечно, это та самая особенность, которая может считаться источником всякой педантичности; та самая особенность, что может восприниматься как нечто достойное осмеяния. «Бог ты мой! Как же серьезно он относится к самому себе!» – для такого иронического восклицания моя книга дает все основания. Этой иронии мне нечего противопоставить, кроме того, что я не смог бы жить, не относясь к самому себе серьезно; нечего противопоставить, кроме того знания, что все то, что мне кажется прекрасным и благородным: дух, искусство, мораль – происходит из серьезного отношения человека к самому себе; кроме того понимания, что все то, чего я достиг, в самомалейших своих составляющих частях, каждой строчкой и каждым оборотом своего дела – как бы мало или велико оно ни было – все это зиждилось и зиждется на том, что я чересчур серьезно относился к самому себе.








