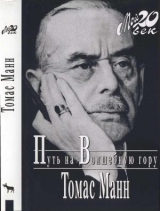
Текст книги "Путь на Волшебную гору"
Автор книги: Томас Манн
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 35 страниц)
Обращает внимание бюргерски – надбюргерский характер его тяготения к великому и общемировому, – характер, особенно ярко проявляющийся в определениях, которые Гёте дает этому стремлению выйти за пределы своего «я». Он говорит о «свободной торговле понятиями и чувствами», – характерное перенесение либерально – экономических принципов в сферу духовной жизни. Но это самоосвобождение и экспансия имеют место не только в пространстве, но и во времени: «в далеких эпохах», говорит Гёте, искал он достойный материал для творчества. Он – гражданин не одного только своего века.
До сих пор мы говорили о том, что связывало и роднило его с прошлым. Сейчас мы хотим показать его принадлежность настоящему и будущему, его устремленность к нам и в грядущие времена, причем символичны для этой устремленности встречи великого жизнелюбца с Артуром Шопенгауэром. Както раз, уже в преклонном возрасте, Гёте, мальчиком видевший Моцарта, прибыв на званый вечер, прямо подходит, ни на кого не глядя, к молодому философу, чью докторскую работу о четверояком корне закона достаточного основания он недавно прочел, и поздравляет его с этим замечательным творением. В своей руке он держит руку того, кто уже пишет «Мир как воля и представление», – катехизис европейского пессимизма второй половины высокобюргерского девятнадцатого столетия, оказавший столь решающее влияние на Вагнера, с одной стороны, и Ницше – с другой. Это – изумительный случай в истории духа. Гёте, Шопенгауэр, Вагнер, Ницше – вот они, немеркнущие звезды на небе нашей юности, Германия и вместе с тем Европа, наше происхождение, которым мы гордимся, ибо всякое происхождение, всякое сознание духовного происхождения аристократично. «Художник должен иметь происхождение, должен знать, откуда он взялся», – сказал Гёте. Мы – питомцы великого отечественного мира, бюргерского духовного мира, который в то же время, именно как духовный мир, имеет надбюргерский характер и благодаря Ницше, ученику Гёте, является преддверием новых, послебюргерских, еще безыменных миров будущего. Бюргерское обладает некоей духовной трансцендентностью, в силу которой оно изживает самое себя и приобретает новую сущность. Слова Гёте:
Цвет просвещенья – разве он
Не духом бюргерства рожден? —
и посейчас сохраняют более глубокий смысл, нежели тот, который присущ столь старомодно звучащему в наши дни слову «просвещение». Я спрашивал и спрашиваю еще раз: чем рождены великие освободительные подвиги раскрепощения духа, если не бюргерством? Воля и призвание к высшему акту дебюргеризации, к крайне опасным авантюрам дерзающей мысли – вот та отпускная грамота, которую сам дух вручает бюргеру. А тот сын и внук протестантского священства, в котором романтика XIX века преодолела самое себя и чья жертвенная смерть на кресте мысли положила начало несказанно новому, сам Фридрих Ницше, – куда же уходят его корни, если не в почву бюргерского гуманизма? И подобное же самопреодоление бюргерства силой духа мы находим в романе Гёте поры его старости – в «Годах странствий».
Действительным содержанием этой книги является самопреодоление индивидуалистического гуманизма и ясновидчески смелый отход от него ради человеческих и воспитательных принципов и волевых импульсов, которые характерны, собственно говоря, лишь для нашего времени и лишь в наши дни овладели общественным сознанием. В ней сверкают зарницы идей, далеких от всего, что подразумевается под бюргерским гуманизмом, далеких от классического и бюргерского понятия культуры, формированию и утверждению которого в первую очередь способствовал сам Гёте. Идеал всестороннего развития личности отбрасывается, провозглашается век односторонностей. Нам демонстрируется ограниченность индивидуума, господствующая в наши дни; лишь все люди в совокупности являются носителями человечности, личность становится функцией, выдвигается понятие общинности, коммунности; и иезуитски – милитаристский дух «педагогической провинции», хотя и поэтически приукрашенный, по сути дела, не оставляет камня на камне от бюргерского идеала – «либерализма» и индивидуализма.
Этот пророчески смелый загляд престарелого Гёте в новый, послебуржуазный мир был столь же замечателен, столь же величествен, сколь и его все возрастающий интерес к утопически грандиозным проблемам технического прогресса, его восторженное отношение к таким проектам, как прорытие Панамского канала, о чем он говорит столь проникновенно и обстоятельно, словно для него это дороже всякой поэзии, как оно в конце концов и было. Та радость и надежды, которые вызывал у него технический прогресс цивилизации и все, что было направлено на развитие мировых путей сообщения, не должны удивлять нас в творце Фауста, который обретает величайшее счастье бытия в осуществлении своей утилитаристической мечты, в осушении болот, – своеобразный вызов одностороннему эстетски – философскому направлению эпохи. Гёте не устает вникать в различные проекты соединения Мексиканского залива с Тихим океаном, не устает восхищаться неисчислимыми благами, которые подобное предприятие принесет всему цивилизованному и нецивилизованному человечеству. Он советует Соединенным Штатам Америки взять это дело в свои руки и фантазирует о процветающих торговых городах, которые со временем вырастут на Тихоокеанском побережье, где природа заранее озаботилась созданием обширных гаваней. С нетерпением ожидал он, пока сбудется эта мечта человечества, – эта и другая – прорытие канала между Дунаем и Рейном, которому предстояло стать титаническим предприятием, переросшим все предварительные планы; и, наконец, третье, наиболее грандиозное, постройка Суэцкого канала для англичан. «Чтобы увидеть все это, – восклицает он, – право, стоило бы протянуть еще лет пятьдесят». Он стремился охватить взором весь земной шар, его взгляд не был прикован к одной своей стране, его радость перед будущим не знала национальных границ, ей нужны были мировые просторы, и улучшение жизни, счастье или горе чужого народа он принимал так же близко к сердцу, как и судьбу своего собственного. То был империализм любви, империализм высоко вознесшегося духа, который свободу отождествлял с величием и, исходя из этого, возвещал эпоху «мировой литературы».
Благодаря технико – рационалистическому утопизму бюргерское принимает всемирно – общественный, можно сказать, если понимать это слово достаточно широко и не догматически, – коммунистический характер. Это пафос трезвый. Но в наши дни и требуется коренным образом отрезвить мир, погибающий от атрофии душевности, парализующей жизнь. Кто сказал, что следовало бы запретить немцам в течение пятидесяти лет произносить слово «настроение»? Бюргер пропадет, погибнет для нового, рождающегося мира, если не сумеет отрешиться от губительного душевного комфорта, от враждебной жизни идеологии, во власти которой он еще находится, и мужественно принять будущее. Новый мир, социально упорядоченный единым планом, который освободит человечество от унизительных, ненужных, оскорбляющих достоинство разума страданий, – этот мир придет, и он явится плодом того великого отрезвления, к которому уже теперь стремятся все заслуживающие внимания умы, которым претит прогнившая мелкобуржуазная душевность эпохи. Он придет, ибо должен быть создан, или, в худшем случае, введен путем насильственного переворота разумный внешний миропорядок, соответствующий ступени, достигнутой человеческой мыслью, для того чтобы душевное вновь могло получить право на жизнь и человечески чистую совесть. Великие сыны бюргерства, духовно переросшие его, – вот свидетельство того, что в бюргерстве заложены неограниченные возможности, возможности беспредельного самоосвобождения и самопреодоления. Эпоха призывает бюргерство вспомнить об этих прирожденных возможностях, духовно и нравственно решиться использовать их. Право на власть оправдывается той исторической миссией, которой облечен, или считает себя облеченным, ее носитель. Кто отказывается взять на себя эту миссию или не справляется с нею, тот должен будет погибнуть, отступить, освободить место человеку нового типа, свободному от предрассудков, ограниченности и эмоциональных оков прошлого, которые, как ни прискорбно иной раз это отмечать, делают европейскую буржуазию неспособной к государственно – экономическому переходу в новый мир. Не подлежит сомнению, что кредит, еще оказываемый историей буржуазной республике, этот весьма краткосрочный кредит зиждется на остатках веры в то, что демократия тоже способна на то, на что претендуют ее рвущиеся к власти враги, а именно – взять на себя осуществление этого перехода в новое будущее. Бюргерство должно показать себя достойным своих великих сынов, не только помпезно кичась ими. Величайший из них, Гёте, взывает к нему:
Отбросьте мертвый хлам веков, Возрадуйтесь живому!
1932
Нобелевскому комитету по присуждению премий мира. Осло
В швейцарской печати можно прочесть, что наиболее вероятными кандидатами на Нобелевскую премию мира этого года являются президент Чехословацкой республики Масарик [93]93
Масарик, Томаш-Гарриг (1850–1937) – чешский буржуазный политический деятель, с 1918 по 1935 г. – бессменный президент Чехословацкой республики. Масарик и его ближайший сотрудник
[Закрыть]и немецкий писатель Карл Осецкий [94]94
Карл Осецкий (1889–1938) – немецкий прогрессивный публицист, редактор органа передовой интеллигенции «Вельтбюне», в котором он обличал антидемократическую политику правящих кругов Веймарской республики и предостерегал от прихода к власти нацистов и от их агрессивных планов. В 1932 г. был обвинен в государственной измене и заключен в тюрьму, а в 1933 г., с приходом Гитлера к власти, – в концлагерь. В 1936 г. ему была присуждена Нобелевская премия мира. Осецкий после освобождения умер от последствий лагерного режим
[Закрыть].
Трудно судить, насколько этот слух – плод желаний и домыслов, а насколько он соответствует действительным намерениям комитета. Будьте снисходительны к моему, может быть, неуместному рвению, если я позволю себе заметить Вам по этому поводу следующее.
Выбор уважаемого президента Чехословацкой республики, несомненно, вызвал бы самое сердечное одобрение всех друзей мира. Сам по себе это был бы самый удачный выбор из возможных. Трудно выразить словами, но я все же хочу, чтобы Вы представили себе, какая волна радости и удовлетворения прошла бы по всему интеллектуальному миру, если бы комитет принял, может быть, менее безупречное и бесспорное, но зато морально более важное решение и присудил премию мученику идеи мира Карлу Осецкому, три года томящемуся в концентрационном лагере. Первый выбор был бы, конечно, и правилен и хорош, это был бы безупречный поступок, он не вызвал бы ничьей неприязни и никого не удивил бы. Но второй выбор был бы великим, свободным и сильным моральным деянием ослепительной яркости, освободительным деянием во всех значениях этого слова, и оно вселило бы утешение, стойкость и новую веру в силу добра не только в сердце того человека, на которого пал бы этот выбор, айв миллионы измученных сердец, готовых во мраке и одичании нашего времени усомниться в силе добра, – это было бы благодеяние в самом полном и самом высоком смысле слова. Иметь власть, чтобы совершить это благодеяние, – счастье, которым никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя пренебрегать, и никогда человечество не забудет тех людей, которые совершили бы его вопреки все возрастающей моральной апатии, отупению и усталому примиренчеству.
Вот что я хотел сказать. Я не знаю, конечно, какие прагматические сомнения и раздумья могут побудить комитет предпочесть более нейтральное и морально менее акцентированное решение. Присуждение премии мира, как известно, не должно иметь политической окраски и никоим образом не должно быть оскорбительным для правительства всеми признанного и суверенного европейского государства. Но, награждая этой премией, комитет неизбежно и при всех обстоятельствах осуществляет политический акт, само ее учреждение было таким актом, а вручению ее всегда будет присущ открытый, публичный характер: характер демонстрации в пользу политической идеи, объединяющей политику и мораль, идеи мира между народами, демонстрации в пользу ее победоносных или страдающих борцов. Не всегда было возможно, и не всегда будет возможно давать премии главам государств и членам правительств, таким как Бриан и Штреземан. Сама природа идеи мира, а может быть, и сама природа правительств такова, что идеи мира обычно находятся в оппозиции, и в этих случаях те, кому надлежит присуждать премию, должны волей – неволей выступать за оппозицию, против правительств.
Однако правительство, о котором здесь идет речь, исповедует, как всем известно, ясно выраженные пацифистские взгляды. Всем памятны речи, в которых фюрер германского государства, к общей радости и облегчению, заверил всех, что он и его помощники стремятся к миру и что германское вооружение, как материальное, так и моральное, имеет сугубо мирный характер. В германском официозе «Фелькишер беобахтер» можно прочесть статьи, которые подобны огнеметам, извергающим пламя против мировой военной промышленности и происков, которые могут когда‑нибудь привести к тому, что молодежи Европы еще раз придется истекать кровью на полях сражений. Каковы бы ни были человеческие, духовные, политические разногласия между германским рейхсканцлером и писателем, выдвинутым на премию мира, в решающем и главном – в общем отвращении к войне – оба они придерживаются одних взглядов. Тот факт, что, несмотря на это, Осецкий вместе со многими пацифистами содержится в бессрочном и страшном заключении, принадлежит к тем противоречиям и логическим несуразностям националсоциализма, с которыми мы сталкиваемся в жизни и которые не только не смущают, но даже преисполняют гордости его приверженцев. И что же, оскорблением для германского правительства было бы, если бы борец за мир Осецкий – он, кстати, не коммунист и не еврей – получил премию мира? Нет, оскорблением для германского правительства будет, если мы усомнимся в правдивости его речей и, считаясь лишь с тем, что нам представляется его истинными взглядами, отвернемся от такой обоснованной кандидатуры, как кандидатура Осецкого. Это мое мнение, и мне кажется, что иного мнения здесь быть не может. Лишить бедного Осецкого премии из‑за того, что германское правительство могло бы выразить недовольство по поводу его награждения, – вот что было бы оскорбительным недоверием к клятвенным заверениям этого правительства, вот что было бы нарушением дипломатического этикета.
Награждение Осецкого премией за борьбу всей его жизни я назвал освободительным деянием. Как хотелось бы, чтобы оно было освободительным в первую очередь для самого Осецкого. Ведь в самом деле могло бы случиться, что оказанная ему честь помогла бы освободить несчастного и вернула его миру. К сожалению, этой надежде, по – видимому, не суждено сбыться по той простой, хотя и немного страшной причине что человека нежной и сложной, душевной организации нельзя показывать миру после того, как он три года провел в концентрационном лагере. Сведения о состоянии этого Флорестана не проникают во внешний мир, но, по всей вероятности, Осецкий теперь физически и духовно сломленный человек, и его, будь он даже лауреатом Премии мира, все равно, во избежание неприятных впечатлений, не выпустят из заключения до его уже недалекой кончины. Но разве печальное предположение, что этот луч света не спасет самого Осецкого, должно помешать Нобелевскому комитету принять свое решение? Конечно, нет. Ибо дело ведь не в одном человеке, он – одна из тысяч жертв, он – жертва той исторической динамики, излюбленным девизом которой являются слова о щепках, которые летят, когда рубят лес; этой динамике в бесконечной ее жестокости летящие щепки гораздо важнее самой рубки леса, и она требует все новых жертв, чтобы утвердиться в своем великолепии. Нет, не отдельный человек, как бы ни скорбело о нем сердце, важен для духа и мысли. Здесь речь идет об устройстве мира, о положении человека вообще, судьба которого в мрачной своей безнадежности так страшно напоминает судьбу узника Флорестана и тех, кто вместе с ним наполняет тюрьмы Писарро. Какой радостью и избавлением было бы, если бы неожиданно с какой‑нибудь высокой башни прозвучал сигнал, возвещающий о прибытии добра и справедливости, облеченных королевским авторитетом. Присуждение премии мира мученику Германии было бы для миллионов современников, томящихся во тьме и страхе, таким сигналом. Дайте же, – именем их всех я от всего сердца прошу Вас об этом, – дайте миру этот сигнал!
1935
Письмо Эдуарду Корроди
Кюснахт– Цюрих, 3. II. 1936
Дорогой доктор Корроди,
Ваша статья «Немецкая литература в эмигрантском зеркале», появившаяся во втором воскресном выпуске «Н[ойе] Щюрхер] Щайтунг]» от 26 января, привлекла к себе большое внимание, о ней много спорили, ее цитировала – чтобы не сказать: эксплуатировала – пресса самых различных направлений. Кроме того, она имела известное, хотя и косвенное, отношение к заявлению, с которым я вместе с несколькими друзьями счел нужным выступить в защиту нашего старого литературного пристанища – издательства С. Фишера. Поэтому я считаю себя вправе сделать еще несколько замечаний по ее поводу и, возможно, даже высказать несколько возражений против нее.
Вы правы: издатель «Нового дневника» допустил явную полемическую ошибку, утверждая, что вся или почти вся современная литература покинула Германию, что она, как он выразился, «перенесена за границу». Я прекрасно понимаю, что это непозволительное преувеличение должно было разозлить такого нейтрального наблюдателя, как Вы. Господин Леопольд Шварцшильд – блестящий политический публицист, хороший боец, сильнейший стилист; но литература – не его область, и я полагаю, что он – быть может, по праву – считает, что при нынешних обстоятельствах политическая борьба – куда более важное, достойное и полезное дело, чем какая бы то ни было поэзия. Во всяком случае, ограниченность кругозора и недостаток художественной объективности, которые он обнаружил своим заявлением, не могли не вызвать возражения у такого литературного критика, как Вы, и некоторые приводимые Вами имена внутригерманских авторов опровергают его слова начисто.
Остается, правда, под вопросом, не предпочел ли бы иной из носителей этих имен тоже быть за границей, если бы это удалось устроить? Я не хочу ни к кому привлекать внимание гестапо, но во многих случаях действуют причины не столько духовного, сколько чисто технического характера, и поэтому границу между эмигрировавшей и неэмигрировавшей немецкой литературой провести нелегко: в духовном смысле она не просто совпадает с границей Германии. Немецким писателям, живущим вне этой границы, не следует, думается мне, глядеть со слишком неизбирательным презрением на того, кто волей или неволей остался на родине, и связывать свои художественные оценки с местопребыванием автора. Они страдают: но внутри Германии тоже страдают, и они должны остерегаться самодовольства, которое часто бывает порождением страдания. Они не должны, например, упрекать товарища по перу, хотя и отказавшегося ради своих европейских взглядов и ради своих представленией о немцах от дома и родины, от почетного положения и состояния; хотя и не внявшего весьма прозрачным намекам, что он пригодится, а на его непонятное, но уж так или иначе сложившееся мировоззрение посмотрят сквозь пальцы; хотя и оставшегося там, где он был, чтобы и расцвет, и гибель Третьей империи переждать на свободе, но ни в коем случае – сохранится ли нынешний немецкий режим или не удержится – не желавшего сжечь все мосты, связывавшие его с родиной, и лишить себя всякой возможности говорить с ней, – такого человека писатели эмиграции не должны сразу же обвинять в предательстве и в измене, если в вопросах переселения немецкой культуры он по каким‑то, может быть, основательным и не вполне учитываемым ими причинам держится иного мнения, чем они.
Оставим это. Отождествление эмигрантской литературы с немецкой невозможно уже потому, что к немецкой литературе относится также австрийская и швейцарская. Из авторов, пишущих на немецком языке, мне лично особенно близки и дороги двое: Герман Гессе и Франц Верфель, оба одновременно романисты и достойные восхищения лирики. Они не являются эмигрантами, так как один из них швейцарец, а другой – чешский еврей… Трудным, однако, искусством остается нейтралитет даже при такой долгой исторической тренировке, какой можете тут похвастаться вы, швейцарцы! Как легко нейтральный наблюдатель, выступая против одной несправедливости, впадает в другую! В тот самый миг, когда Вы возражаете против приравнивания эмигрантской литературы к литературе немецкой, Вы сами допускаете столь же несостоятельное отождествление; ведь любопытно, что злит Вас не сама эта ошибка, а тот факт, что ее совершает писатель – еврей; и делая из этого вывод, что в данном случае снова, в подтверждение старого отечественного упрека, с немецкой литературой спутали литературу еврейского происхождения, Вы сами путаете эмигрантскую литературу с литературой еврейской.
Надо ли говорить, что это никуда не годится? Мой брат Генрих и я – не евреи. Леонгард Франк, Рене Шикеле, солдат Фриц фон Унру, коренной баварец Оскар Мария Граф, Анетта Кольб, А. М.Фрей, а из более молодых, например, Густав Реглер, Бернгард фон Брентано и Эрнст Глезер тоже не евреи. Что в общей массе эмигрантов много евреев – это в порядке вещей: это следствие надменной жестокости национал – социалистской расовой философии, а с другой стороны, особого отвращения еврейской интеллектуальности и нравственности к некоторым государственным мероприятиям наших дней. Но мой список, не претендующий, как и Ваш внутригерманский, на полноту, список, который я не стал бы составлять по собственному почину, показывает, что о целиком или хотя бы только преимущественно еврейском характере литературной эмиграции говорить нельзя.
Прибавлю имена поэтов Берта Брехта и Иоганнеса Р. Бехера – поскольку Вы сказали, что не можете назвать ни одного эмигрировавшего поэта. Как вы могли так сказать, ведь я же знаю, что Вы цените в Эльзе Ласкер – Шюлер настоящую поэтессу? Эмигрировали, утверждаете Вы, «романная промышленность» и «несколько настоящих мастеров и творцов романов». Что ж, «промышленность», «индустрия» – значит «прилежание», и люди, оторванные от родной земли, которых экономически стесненный и потому не слишком великодушный мир терпит повсюду лишь через силу, – такие люди и впрямь должны быть прилежны, если хотят выжить; было бы довольно жестоко ставить им это в упрек. Но жестоко и спрашивать их, не воображают ли они, что составляют национальное богатство немецкой литературы. Нет, об этом не помышляет никто из нас, ни промышленники, ни творцы. Но ведь есть же разница между всем нам дорогой сокровищницей немецкой национальной литературы, сокровищницей, обогатить которую суждено будет лишь немногому из того, что возникает сегодня, – и как раз этой нынешней, выпускаемой живыми людьми продукцией, которая в целом и по сравнению с прежними эпохами, как везде, не так уж блиста – тельна, но в которой, опять же как и во всем мире, роман играет особую, можно даже сказать главную роль – роль, не вполне оцененную Вами, если Вы говорите, что эмигрировала не поэзия, а всего – навсего проза, роман. В сущности, это неудивительно. Чистые стихи – чистые в том смысле, что держатся на почтительном расстоянии от общественных и политических проблем (что лирика делала далеко не всегда), – подчиняются иным законам жизни, чем современная прозаическая эпопея, роман, который из‑за своей аналитической интеллектуальности, сознательности, из‑за природного своего критицизма вынужден бежать от социального и государственного уклада, при котором те могут притаиться в сторонке и процветать без помех в прелестном уединенье. Но именно эти его прозаические качества, сознательность и критицизм, а также богатство его средств, его способность свободно и оперативно распоряжаться показом и исследованием, музыкой и знанием, мифом и наукой, его человеческая широта, его объективность и ирония делают роман тем, чем он является в наше время: монументальным и главенствующим видом художественной литературы. Драма и лирика по сравнению с ним – архаические формы. Он преобладает везде, в Европе и в Америке. Он преобладает с некоторых пор и в Германии – и поэтому, дорогой доктор, Ваше утверждение, что немецкий роман эмигрировал, никак нельзя назвать осторожным. Если бы так было на самом деле – а утверждаю это не я, – тогда пришлось бы признать, что прав, как ни странно, политик Шварцшильд, а не Вы, литературный критик, тогда центр немецкой литературной жизни и впрямь переместился бы за границу.
Еще недавно, в связи с биографией Вассермана, написанной Карлвейс, Вы, со свойственной Вам тонкостью и прозорливоетью, рассуждали о процессе европеизации немецкого романа. Говоря об изменении типа немецкого романиста, происшедшем благодаря таким дарованиям, как Якоб Вассерман, Вы замечали: под действием интернационального компонента еврея немецкий роман стал интернациональным. Но ведь к этому «изменению», к этой «европеизации» мой брат и я причастны не меньше, чем Вассерман, а мы не евреи. Может быть, на нас повлияла капля латинской крови (и швейцарской – со стороны бабушки). «Интернациональный» компонент еврея – это средиземноморский европейский компонент, а таковой является и немецким; без него немцы были бы не немцами, а не нужными миру лодырями.
Это‑то и защищает сегодня в Германии преследуемая – что возвращает ей уважение воспитанника протестантской культуры – католическая церковь, когда заявляет: только приняв христианство, немцы вошли в ряд ведущих культурных народов. Нельзя быть немцем, будучи националистом. Что же касается немецкого антисемитизма, или антисемитизма немецких правителей, то духовно он направлен вовсе не против евреев или не только против них; он направлен, как все яснее и яснее обнаруживается, против христианско – античных основ европейской цивилизации: он представляет собой – символизированную, кстати сказать, выходом из Лиги наций – попытку сбросить узы цивилизации, грозящую ужасным, гибельным разрывом между страной Гёте и остальным миром.
Твердая, каждодневно питаемая и подкрепляемая тысячами человеческих, нравственных и эстетических наблюдений и впечатлений убежденность, что от нынешнего немецкого режима нельзя ждать ничего хорошего ни для Германии, ни для мира, – эта убежденность заставила меня покинуть страну, с духовными традициями которой я связан более глубокими корнями, чем те, кто вот уже три года никак не решится лишить меня звания немца на глазах у всего мира. И я до глубины души уверен, что поступил правильно и перед лицом современников, и перед лицом потомков, присоединившись к тем, к кому можно отнести слова одного по – настоящему благородного немецкого поэта:
Но тех, кто к злу исполнен отвращеньем,
Оно и за рубеж погнать смогло бы,
Коль скоро дома служат злу с почтеньем.
Умней покинуть отчий край свой, чтобы
Не слиться с неразумным поколеньем,
Не знать ярма слепой плебейской злобы.
Преданный Вам Томас Манн








