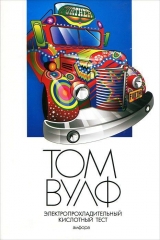
Текст книги "Электропрохладительный кислотный тест"
Автор книги: Том Вулф
Жанры:
Контркультура
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 28 страниц)
IV
Что вы скажете о моем будде?
Сегодняшняя фантазия… Уже поздний вечер, и большинство Проказников смоталось со Склада: кто принять душ в квартире Кишки, бывшего Ангела Ада, который держит психоделическую лавку под названием «Совместные авантюры», кто – туда, кто – сюда… На Складе остались лишь Кизи и еще человека два. Кизи стоит у дальней стены, во мраке Центральной Аппаратной, среди магнитофонных пленок, коробок с кинофильмом, маркированных липкой лентой, блокнотов, микрофонов, проводов, катушек, динамиков, усилителей. Архивы Проказников… а на записи монотонно, словно на спиритическом сеансе, бубнит потусторонний голос:
«…удачный контрудар… новое важное сообщение…»
Новое важное сообщение… Сегодняшняя фантазия… «Фантазия» – слово, которое Кизи все шире и шире употребляет для обозначения планов, авантюр, суждений о мире, честолюбивых замыслов. Это хорошее слово. Оно и ироническое, и нет. Означать оно может все что угодно; от того, как бы раздобыть грузовичок-пикап – «такая у нас фантазия на этот уик-энд», – до какой-нибудь жуткой нелепости на пороге чего-то… вроде сегодняшней фантазии, которую каким-то образом надо облечь в слова на Окончании Кислотного Теста. Но как ее высказать? Кизи роется в коробках с кинопленкой и рассортированных… Архивах… Разве можно попросту выйти и объявить сегодняшнюю фантазию – нет, этого нельзя было сделать даже в прежние времена, когда это казалось проще простого! Вот, к примеру, Голдхилл. который только что был здесь с истиной в глазах. Он пойдет дальше большинства прочих. Кизи смог это увидеть. Голдхилл был полностью открыт… он попал в самую точку. У него есть своя фантазия – Лига Ду-хов-но-го Раз-ви-тия, к тому же он как раз тот редкий тип, у которого может появиться желание действовать даже в соответствии с их фантазией – его и Проказников. На такое способен лишь редкий тип людей. Потому что неизбежно настает минута, когда необходимо передвинуть манеж цирка Проказников еще дальше в сторону Города-Порога. И в такой момент некоторые неплохие ребята непременно пугаются: «Эй, постойте!» К примеру, Ралф Глизон с его статьями в «Кроникл» и собственной хипповой командой. Глизон – один из тех людей… Кизи нетрудно припомнить каждого из них – людей, которые считали его великим до тех пор, пока его фантазия соответствовала их собственной. Но как только он продвигался дальше – а он постоянно продвигался дальше, – они приходили в замешательство и обижались… Пленка все наматывается:
«…удачный контрудар… сквозь конские затруднения и дружеские сношения… кровь, что пригодилась ему при сношении… наводит на мысль о его двадцатилетнем сидении в яблочном пюре…»
Только счастливчикам да Веселым Проказникам под силу разобраться в этих сверхзвуковых трелях!.. скорее всего…
«…удачный контрудар…»
…Сегодняшняя фантазия… Даже тогда, на Перри-лейн, где все были молоды, интеллигентны и обладали аналитическим умом, а пределом всему мнилось лишь небо, – и то он никоим образом не мог просто выйти и сказать; «Подойдите поближе, друзья…» На его счет у них имелась собственная фантазия; он был «неотшлифованным алмазом». Ну что ж-ж-ж, неотшлифованным алмазом быть не так уж плохо. В 1958 году он поступил на семинар по писательскому мастерству Стэнфордского университета, и на Перри-лейн его приняли, потому что он был первосортным неотшлифованным алмазом. На Перри-лейн обосновалась стэнфордская богема. Как говорят представители богемы, Перри-лейн была настоящей Аркадией – Аркадией по соседству с площадкой для гольфа. Она представляла собой скопление обшитых прогнившим гонтом двухкомнатных коттеджей в дубраве, но не просто средь зеленеющих деревьев, а средь вьющихся растений, усиков жимолости, множества почек, побегов, устремленных к земле усиков и щебечущих птиц, как на лучших иллюстрациях Артура Рэкама к «Медведю-лакомке». Мало того, место это было отмечено печатью истинной культуры. Некогда там жил Торстен Веблен. Жили и два лауреата Нобелевской премии, о которых знал каждый, хотя никто и не мог вспомнить, как их звали. Коттеджи сдавались всего за шестьдесят долларов в месяц. Поселиться на Перри-лейн было все равно что добиться членства в престижном клубе. Каждый из живущих там знал кого-то еще из живущих там, другой возможности пробраться туда попросту не было, а со временем между всеми, естественно, налаживалось очень тесное общение, и атмосфера, царившая там, напоминала атмосферу жизни в коммуне. Ни одна дверь на Перри-лейн не запиралась, за исключением тех редких случаев, когда возникала ссора.
Не жизнь была, а благоденствие. Перри-лейн представляла собой типичную богему пятидесятых. Все сидели и, покачивая головами, обсуждали то, как поколебали тамошнюю веру в Христа прошедшаяся по Европе механистическая американская цивилизация и однотипное жилищное строительство… и что из того, что не работает водопровод, главное – они овладели искусством жить. Изредка кто-нибудь устраивал оргию или просто трехдневную пьянку, но образцом жизни служил добрый старый романтизм в духе грека Зорбы с сандалиями, простотой и возвратом к изначальным ценностям. Время от времени они предпринимали паломничество на сорок миль к северу, в Норт-Бич, чтобы воочию увидеть, как это происходит на самом деле.
Главными знаменитостями Перри-лейн были два прозаика – Робин Уайт, который как раз в то время написал удостоенный Харперовской премии роман «Слоновья горка», и Гвен Дэвис, нечто вроде Дона Пауэлла Западного побережья. Так или иначе, все именитые обитатели Перри-лейн понимали, что Кизи до них далеко.
В нем с первого взгляда можно было признать провинциала типа джек-лондоновского Мартина Идена, провинциала со страстным стремлением к интеллектуальности. Родом он был из Орегона – какого черта, кто и когда хоть раз был родом из Орегона? – и обладал провинциальным орегонским протяжным произношением, чересчур развитой мускулатурой, мозолистыми руками, а лоб его, когда он долго думал, покрывался морщинами все это было просто великолепно.
Уайт взял Кизи под свое крылышко и раздобыл им на двоих с женой Фэй коттедж на Перри-лейн. Перри-лейнское общество одобрило эту идею не раздумывая. От Кизи в любую минуту можно было ждать великолепных поступков. Как в тот раз, когда они вместе обедали – совместные обеды устраивались там частенько, – а некий приезжий разглагольствовал о непередаваемой утонченности творений Джеймса Болдуина, Кизи, не переставая жевать, не преминул ввернуть словечко типа «ну-да, ну-да, малыш, не знаю, не знаю, я не со всем, что ты говоришь, согласен». Тогда гость аккуратно положил на стол нож и вилку и, обращаясь к остальным, говорит:
– Я буду счастлив выслушать любое мнение, которое сочтет нужным высказать мистер Кизи, – как только он научится есть с тарелки и не прижимать при этом большим пальцем мясо.
Великолепно! В средней школе в Спрингфилде, штат Орегон, он был признан «наиболее способным преуспеть», а потом окончил Орегонский университет, где целиком отдавался спорту и развлечениям студенческой братии – всему, чем полагается заниматься среднему молодому американцу. Он был на первых ролях в борцовских состязаниях в весе до 174 фунтов и в студенческих спектаклях. Окончив колледж, он даже отправился в Лос-Анджелес и какое-то время склонялся по Голливуду, всерьез подумывая заделаться кинозвездой. Однако стремление писать, творить, словно непостижимым образом расцветший портулак, прорвалось-таки сквозь весь его густой наносный среднеамериканский вздор, и он начал писать и даже закончил один роман о студенческом спорте под названием «Конец осени». Опубликован роман так и не был и, вероятно, уже никогда не будет, но Кизи долго не отпускало страстное желание написать эту вещь. Что же до его происхождения, то оно тоже было прекрасным. Перри-лейнское общество каким-то образом разузнало, что родители его были переселенцами, выбравшимися во времена Депрессии из района пыльных бурь и осевшими в Орегоне невозделанном, пропитанном влагой Орегоне, где они принялись обрабатывать неподатливую землю и охотиться на медведей, а реки были быстрыми, и лосось бился серебром в двужильных весенних реках.
Что касается его жены Фэй, то и она вышла из подобной семьи, только из Айдахо, полюбили они друг друга в средней школе в Спрингфилде и на первом курсе колледжа сбежали и поженились. Однажды у них зашел спор о том, кто из них двоих рожден в самой неприглядной собачьей конуре – он в своей развалюхе в Ла-Хунте или она в Айдахо. Он был абсолютно уверен, что Рандаун в этом смысле и в подметки Ла-Хунте не годится но стоило им добраться до Айдахо, как ему немедленно пришлось признать свое поражение. Разговаривала Фэй еще тише, чем Кизи. Да она попросту почти ничего и не говорила. Хорошенькая, необыкновенно привлекательная, она была настоящей мадонной тех холмистых мест. А их коттедж на Перри-лейн… кстати, все прочие коттеджи были тщательно, в духе богемы, доведены до жалкого состояния, до крайней простоты – круглые бумажные японские абажуры, грубая рогожа, светлые соломенные коврики, ножи и вилки из шведской нержавеющей стали и васильки в горшках собственного изготовления. Их же коттедж представлял собой попросту дешевую лачугу. На задней веранде постоянно ржавело что-нибудь типа сломанной стиральной машины, а двор зарастал амарантом, фукусом и гниющим горохом. Так или иначе, было просто… великолепно… иметь их с Фэй под рукой в качестве учеников во время перрилейнских софистических упражнений на темы жизни и искусства.
Прекрасно!.. сегодняшняя фантазия… Но как растолковать им?… как раскрыть такие доступные тайны, как Капитан Чудо Вспышка… как Жизнь… да и та же Супермолодежь…
«…новое важное сообщение… удачный контрудар…»…если они составили о нем четкое и ясное представление как о толстокожем неотесанном сыне западной земли, только что явившемся из Спрингфилда, штат Орегон? Отец его, Фред Кизи, и вправду приучил их с младшим братом Джо по прозвищу Чак к охоте, рыбалке и плаванию в том возрасте, когда все это у них еще едва получалось, к тому же он заставлял их заниматься боксом, бегом и борьбой, мчаться на надувных плотах из автомобильных камер средь порогов рек Уилламет и Маккензи – полноводных, с множеством камней и с верной смертью, пенящейся совсем рядом, внизу. Но все это делалось не для того, чтобы они смогли приручить зверей, леса, реки, дикий, мятущийся, содрогающийся Орегон. Главная цель состояла в том, чтобы дать им шанс добиться большего, чем отец, а отец добился очень многого всегда, как и подобает мужчине, требуя того, что полагается ему по праву, к тому же вовсе не на передовых рубежах продвижения переселенцев… Кизи-старший составлял часть хлынувшей в сороковых годах с Юго-Запада миграционной волны, но был он не из странствующих рабочих, а из тех предприимчивых протестантов, которые смотрели на Западное побережье как на страну деловых возможностей. Начав чуть ли не на голом месте, он создал в долине Уилламет торговый кооператив фермеров, разводящих молочный скот, – Кооперативное общество фермеров «Юджин», – влив его впоследствии в крупнейшую в округе компанию по розничной торговле молочным скотом «Дэригоулд». Он был одним из тех, кто крупно преуспел в послевоенные годы, и на склоне лет он поселился не в старой усадьбе с деревянной обшивкой и громоотводами, а в современном пригородном доме пастельных тонов, уютном и неброском, на улице под названием Дебора-лейн. Потрясающая послевоенная американская электропастельная волна, накатившая на пригороды! – она пронеслась по долине, оставляя за собой скоростные автострады, невиданные автомобили, торговые центры, взмывавшие на тридцать футов ввысь электрические супер-изваяния компании «Сайн-энд-Сигнал» – «Восемь Новых Плексигласовых Выставочных Экспонатов!» волна свободы и мобильности, волна автомобилей, денег, чтобы за них платить, и времени, чтобы ими наслаждаться; хочешь – плюй в потолок, утопая в роскоши собственных четырех стен, хочешь носись по стране технологических чудес на моторных катерах, а то и, как в случае с людьми вроде его отца, в личных самолетах…
Есть вещи, которые так или иначе заставляют его вспомнить вдруг родной городок, – вот, к примеру, стоит старый белый, обшитый досками дом, где они жили, а позади него. немного подальше, – вышка радиостанции «Кей-Оу-Ар-И» с мерцающим на верхушке красным огоньком – по ночам он опускался на колени помолиться и видел небо и мерцающий огонек, – и его нередко посещала мысль, что этому красному огоньку он и возносит свои молитвы. Как раз здесь поворачивало старое шоссе, и казалось, что кто-то постоянно едет мимо в три или четыре утра, борясь со сном, а им были видны огни в городке, там, где шло строительство, и дорога, казалось, ведет прямиком к этим огням, но они убегают в сторону от поворота, и Кизи с отцом выходили посмотреть, не нужно ли помочь этому малому выбраться из навозной жижи – бегом вдоль уличных фонарей! – вознося молитвы красному сигнальному огоньку радиовышки! – по короткой прямой к «Ресторану Грегга для автомобилистов», как он назывался тогда, теперь он называется «Ресторан Спока», на проспекте Франклина, у моста через реку. Это был большой ресторан для школьников на открытом воздухе – с громадной новейшей объемной рекламной вывеской пастельных тонов с бегущим светящимся курсивом, с прожекторами, подносами, снабженными зажимами, официантками в свободных синих брюках, гамбургерами, завернутыми в нечто вроде вощеной оберточной бумаги, – дымящимися, прессованными и поджаренными на рашпере, с луком, а также с горчицей и кетчупом, который выдавливался из пластиковых тюбиков. Субботние вечера, когда все наслаждаются путешествиями, – какой-то малый на стоянке у Грегга двинулся на своей машине не в ту сторону, отчего никто не может двинуться с места. Чем громче все сигналили, тем большую непреклонность этот малый проявлял. Словно бы это и был тест. Он поднимает стекла и запирает двери, так что теперь до него уже не доберется, и протискивается дальше своей дорогой. Этот малый против Кизи. Короче, Кизи идет на кухню, берет одну из картофелин, из которых там готовят картофель по-французски, выходит и затыкает малому выхлопную трубу, отчего глохнет двигатель, и теперь уже стоп, малыш, приехали. Малыш предъявляет Кизи обвинение в преднамеренной порче мотора, и Кизи попадает в суд для малолетних и пытается растолковать судье, что происходит в субботний вечер в ресторане Грегга: Жизнь… то чувство… Жизнь… Жизнь подростковой Америки конца сороковых – начала пятидесятых, автомобильно-ресторанная Жизнь – именно в этом она и заключалась… но разве это кому-нибудь растолкуешь?
Ну конечно же! – то чувство – ночной простор, свобода, работает мотор и прибывает адреналин, путешествие в неоновом великолепии новой американской ночи, верх блаженства – оказаться в первой волне самой необычной молодежи в мировой истории, всего лишь в 15, 16, 17 лет, облачившись в сверхмодные наряды в виде розовых рубашек из ткани «Оксфорд», брюк с безупречными стрелками, полудюймовых плетеных ремней, башмаков-скороходов… со всей этой шестью– и восемьюцилиндровой мощностью под ногами и со всем этим неоновым волшебством над головой, что так или иначе неотделимо от таких супергероических поэм технологического века, как реактивный двигатель, телевидение, атомные субмарины, ультразвуковая техника… Послевоенные американские городские предместья восхитительный мир!.. и пускай ко всем чертям катятся интеллектуальные хулители американской автомобильной цивилизации… Откуда им было знать, что это такое, а знали бы – давно взлелеяли бы его в себе… то чувство… принадлежности к подлинной Супермолодежи!.. к первому поколению чертенят… чувствующих себя защищенными от всех горестей и катастроф. Родители еще помнили болото всеобщего порядка, Войну и Депрессию – но Супермолодежь знала лишь волнующий прилив великого воздаяния, когда не осталось уже ничего всеобщего… Жизнь! Восхитительное место, восхитительная эпоха, скажу я вам! Подлинный Неоновый Ренессанс… А мифы, которые в то время брали за душу, не Геракл, не Орфей, Одиссей или Эней… а Супермен, Капитан Чудо, Бэтман, Человек-факел, Подводник, Капитан Америка, Пластмассовый Человек, Вспышка… ну конечно же! Там, на Перри-лейн, что это было, на их взгляд, – причуда? – когда он говорил о Супергероях комиксов как о настоящих американских мифах? Уже тогда этот мир фантазии, этот электропастельный мир мамы-папы-дружка-сестренки в предместье. Полюбуйтесь, вот они в семейном автомобиле, белом седане «понтиак-бонневиль» – семейный автомобиль! – начать с того, что это немыслимое, обладающее чудовищной мощностью творение фантазии, 327 лошадиных сил, а внешний вид двадцать семь ночей обольщения в гладкой роскошной карете… Ты уже там, в стране фантазии, так почему бы не сдвинуться с этой уютной, как стеганое одеяло, мертвой точки, почему бы не дать себе волю ну же, действуй, скажи этой машине: «Сезам!» – сделай ее такой, какой она жаждет стать давно: 327000 лошадиных сил, длиной во всю автостраду, пусть взмоет со свистом в сторону… Города-Порога и самых далеких фантазий, сегодняшних и грядущих… Билли Батсон сказал: «Сезам!» и превратился в Капитана Чудо. Джей Гаррик надышался в научно-исследовательской лаборатории полученным экспериментальным путем газом…
…и начал передвигаться и мыслить со скоростью света, как… Вспышка… сегодняшняя фантазия. Да. Фантазия насчет того, что Кизи неотшлифованный алмаз, долго не протянула. Что касается самого интересного человека на Перри-лейн. то им был не романист и не литераторинтеллектуал, а молодой аспирант-психолог по имени Ловелл. Ловелл напоминал молодого психоаналитика из Вены или по крайней мере его калифорнийско-аспирантский вариант. Худощавый, с растрепанными черными волосами, он обладал одновременно крайне холодным умом и взбалмошным характером. Он познакомил Кизи с фрейдистской психологией. Прежде Кизи никогда не сталкивался с подобной системой мышления. Ловеллу удалось на примере обитателей Перри-лейн очень убедительно показать, как обыкновенные земные черты характера и мелкие склоки вписываются в самую глубокую, самую сложную из когда-либо разработанных метафор, а именно – в метафору Фрейда… И еще немного газа, полученного экспериментальным путем… Да. Ловелл рассказал ему о некоторых экспериментах, проводимых Ветеранским госпиталем в Менло-парке с «психомиметиками» – препаратами, которые вызывают временное состояние, напоминающее психоз. Добровольцам там платили семьдесят пять долларов в день. Кизи вызвался добровольцем. Все было идеально, по-больничному, выбелено. В белой палате его укладывали на кровать и давали серию капсул, не сообщая, что это такое. Одна могла оказаться пустышкой, плацебо. Другая – диграном, который всегда вызывал страшно неприятные ощущения. Кизи не составляло труда предвидеть их возникновение, потому что шерсть на одеяле, которым он был укрыт, внезапно становилась похожей на поле, заросшее отвратительными, пораженными какой-то болезнью колючками, и тогда он засовывал себе в глотку два пальца и тужился, пытаясь вызвать рвоту. Но вот одна из капсул – первое, что он помнит после ее приема, это как за окном белка уронила с дерева желудь, только звук был необычно громким – таким, словно это происходило не за окном, а рядом с ним, прямо в палате, мало того, это был не просто звук, это было всеохватывающее присутствие: зримое, почти осязаемое; внезапно нахлынувшая… синева… она окутала его, и тут он перекочевал в ту область сознания, которая прежде ему и не снилась, и это был не сон, не бред, а часть воспринимаемой им реальности. Он смотрит на потолок. Потолок начинает шевелиться. Паника и в то же время никакой паники. Потолок движется – не кружится в сумасшедшем вихре а движется в собственных плоскостях в собственных плоскостях света и тени и поверхность вовсе не такая ровная и гладкая как задумал штукатур – Суперштукатур с непогрешимым пузырьком плотничьего уровня плавающим в матовой медово-сиропной трубке Каро не такой уж надежной как ты думал малыш и еще линии, линии похожие на гребни белых песчаных барханов в киношной пустыне и на каждом бархане снятый дальним планом компанией «Метро-Голдвин-Майер» силуэт араба идущего через гребень ведь только гнусный сарацин и разберет дорогу а ты и не знал сколько побочных сюжетных линий оставляешь там наверху Штукатур пытаясь разгладить в с е это – все до конца – своим пузырьком в медовой трубке плотничьего уровня, чтобы все мы здесь смотрели наверх и не видели ничего, кроме потолка, потому что потолок нам известен, потому что у него есть название «потолок», а значит, это и есть всего лишь потолок – и там, в Стране Уровня, нет места арабам, а, Штукатур? Вдруг он ощущает себя пинг-понговым шариком в потоке возбуждающих раздражителей, сердце бьется, кровь течет, дыхание учащается, зубы скрипят, руки мечутся над перкалевой простыней, над этими тысячами мельчайших переплетенных нитей ткани, словно пожар в подлеске, ярко светит солнце, и на стержне из нержавейки – световой блик, там, в этом блике, тоже показывают кино, объемное, цветное, выдернуть оттуда каждый цвет – все равно что пытаться поднять паровым экскаватором неоновые леденцы в Городке аттракционов, пинг-понговый шарик в потоке возбуждающих раздражителей, в общем-то обычных, но… открывающихся впервые и действующих… в Данный Момент… словно он впервые в жизни проник в некое мгновение и точно узнал, что происходит сейчас, в данный момент, с его органами чувств, и с каждым новым открытием кажется, что он и сам стал частью всего этого, со всем этим слился, киношная белая пустыня потолка становится чем-то значительным, личным, принадлежащим ему, неописуемо прекрасным, как оргазм внутри глазных яблок, а его арабы, арабы на полуприкрытых веках, фильмы на экранах век, им, да и много чему еще найдется место в стробоскопных синапсах, рассчитанных на пять миллиардов мыслей в секунду, – его арабские герои, замечательные, каждодневно подкручиваемые усы из конского волоса вокруг кольцевых мускулов их ртов…
Лицо! Снова входит доктор, и… – чудеса, док, несчастный подопытный кролик – Кизи теперь может заглянуть в него. Впервые он замечает, что у доктора с левой стороны дрожит нижняя губа, но он не просто видит дрожание, он может – и, кажется, не впервые! – разглядеть, как становится крестообразным каждое мышечное волокно, отпихивая влево слабое желе губы, как волокна устремляются друг за другом назад, в инфракрасные каверны тела, сквозь транзисторные внутренности нервных сплетений, каждое по сигналу воздушной тревоги, а внутренние крючочки несчастного дурачка отчаянно цепляются за этих корчащихся маленьких ублюдков, пытаясь удержать их и успокоить, я же доктор, передо мной опытный человеческий образец внутри несчастного дурачка показывают его собственное кино про пустыню, только каждый араб с усами из конского волоса представляет собой угрозу, лишь бы губа, лицо оставались на одном уровне, на том уровне, который гарантировал ему медовый пузырек Официального Штукатура…
Чудеса! Он впервые обрел способность заглядывать внутрь людей…
Ах да, та маленькая капсула, что блаженно скользнула вниз по пищеводу, содержала ЛСД.
Весьма скоро пришло время двигаться дальше, за пределы и этой фантазии, фантазии клиницистов из «Менло-парка». Фантазия клиницистов состояла в том, что добровольцы являются подопытными животными, требующими беспристрастного, научного подхода. Не составляло никакого секрета, что люди, добровольно подвергающиеся экспериментам с лекарственными препаратами, и без того склонны к неустойчивому поведению. Поэтому доктора появлялись в белых халатах, с журналами для записей, измеряли кровяное давление и частоту пульса, брали мочу на анализ, заставляли их решать простые логические и математические задачи вроде сложения цифр в столбик или оценки времени и расстояния, а кое-что и просили наговаривать на магнитофон. И все же доктора были совершенно не в курсе дела. Сами они ЛСД никогда не принимали, абсолютно ничего уразуметь не могли, да и в любом случае словами этого не выразить.
Иногда хотелось изобразить это крупно… Ловелл находится в клинике под действием ЛСД и принимается рисовать на стене громадного Будду. Каким-то образом Будда заключает в себе все… Белый Халат входит и даже не смотрит на рисунок, он принимается задавать все те же записанные в журнале вопросы, тогда Ловелл бесцеремонно его прерывает:
– Что вы скажете о моем Будде?
Какое-то мгновение Белый Халат смотрит на рисунок и говорит:
– Он слишком женоподобный. А теперь посмотрим, как быстро вы сложите этот столбик цифр…
Слишком женоподобный… Избавьте нас от тех штампов, что наглухо заперли снаружи мозги даже этих так называемых экспериментаторов, подобно ставням-гармошкам в витрине меховой лавки… и Кизи приходилось решать со своими мальчиками ту же проблему. Один из них был совсем молодой, с короткой приглаженной челкой и наисерьезнейшим лицом – наисерьезнейшим, наидобрейшим, самым гладким и отвратительным лицом, какое когда-либо удавалось выровнять медовому пузырьку Штукатура, так вот, он входил и на секунду широко раскрывал глаза, словно желая убедиться, что этот мускулистый медведь на кровати еще способен мыслить, а потом начинал говорить самодовольным голосом зубрилы, и голос этот рассыпался по палате, как испачканная мелом гигроскопическая вата с выбиваемых в Спрингфилдской средней школе тряпок для стирания с доски.
– Теперь я скажу «начали», а вы, когда, по-вашему, пройдет минута, скажете «готово». Вам это понятно?
Понятно-то понятно. Но Кизи летал под действием ЛСД, и чувство времени у него было утрачено, тысячи мыслей в секунду носились от синапса к синапсу, счет шел на доли секунды, так что какая тут к чертям собачьим минута – но в тот миг одна мысль там застряла, ее удалось на мгновение задержать… злоб-ную, чудес-ную. Он вспомнил, что каждый раз, как ему измеряли пульс, неизменно выходило семьдесят пять ударов в минуту, поэтому, когда д-р Туман произносит «начали», палец Кизи потихоньку соскальзывает на пульс; он считает до семидесяти пяти и говорит;
– Готово! Д-р Дым смотрит на свой секундомер.
– Поразительно! – говорит он и выходит из палаты.
Сказать-то ты сказал, малыш, но, как и большинство остальных, ты ничего не понимаешь. ЛСД; ну и что такого? – нынче, когда эти большие жирные буквы в любом газетном киоске выплескивают все секреты на головы представителей пиджачного племени… Однако было-то это в конце 1959-го – начале 1960 года, за целых два года до того, как мамаши-папаши-дружки-сестренки впервые услышали об этих наводящих ужас буквах и принялись беспокойно кудахтать, потому что доктора Тимоти Лири и Ричард Алперт с их помощью уже сдвигали набекрень мозги гарвардских студентов. Это было даже раньше, чем д-р Хамфри Осмонд выдумал термин «психоделический», который затем был исправлен на «психоделический», чтобы избавиться от ассоциации с дурдомом – «психо»… ЛСД! Да, тайна была раскрыта хоть куда!.. огромнейшая супертайна, в самом деле – замечательная победа подопытных кроликов! За короткое время они с Ловеллом перепробовали весь ассортимент препаратов: ЛСД, псилоцибин, мескалин, пейотль, ИТ-290 – суперамфетамин, дитран – бредятина, семена пурпурного вьюнка. Они были на пороге открытия, которого сами клиницисты из «Менло-парка» никогда бы… какая тонкая ирония: Белые Халаты якобы использовали их. На деле же Белые Халаты вручили им тот ключ, который искали сами. Ты же ничего не понимаешь, малыш… с помощью этих медикаментов твое восприятие изменяется настолько, что ты вдруг начинаешь смотреть на все совершенно другими глазами. У всех у нас накрепко заперта огромная доля разума. Мы отделены от нашего собственного мира. Ну, а лекарства эти и есть, кажется, ключ к этим закрытым дверям. Сколько? – не больше двух десятков человек во всем мире были близки к раскрытию этой потрясающей тайны. Одним из них был Олдос Хаксли, который принял мескалин и написал об этом в «Дверях восприятия». Он сравнил мозг с «редукционным клапаном». При нормальном восприятии органы чувств посылают в мозг огромный поток информации, а затем превращают этот поток в струйку, которую в состоянии выдержать, не погибнув в мире сплошной конкуренции. Человек сделался настолько рациональным, настолько утилитарным, что струйка эта становится все тоньше и слабее. Это имеет смысл лишь в целях выживания, однако одновременно лишает человека той самой чудесной части его потенциального жизненного опыта, о которой он не имеет ни малейшего представления. Мы отделены от нашего собственного мира. Некогда первобытный человек в полной мере испытывал обильный, пенящийся поток ощущений. Дети испытывают его несколько месяцев – до тех пор, пока «нормальное» воспитание и прочая обработка не захлопнут двери в тот, иной мир: обычно раз и навсегда. Так или иначе, утверждал Хаксли, наркотики открывают эти древние двери. И современный человек может наконец в них войти и вновь узнать правду о своем священном и неотъемлемом праве…
Однако это всё слова, старина! А словами этого не выразить. Белым Халатам нравилось облекать это в такие слова, как галлюцинация и диссоциативные явления. Их пониманию были доступны воспринимаемые зрением сигнальные ракеты. Стоило предоставить им убедительные доказательства превращения пепельницы в венерианскую мухоловку или глазного кино про хрустальные храмы, и они с упоением втискивали все это в теоретическую колею: «Клювер. ор. cit., стр. 43». Ну, и на здоровье. Только разве не ясно? – в случае с ЛСД зрительное восприятие было всего лишь декором. Мало того, можно было испытать все ощущения без единой настоящей галлюцинации. Все состояло из… ощущения… этого неизбежного непередаваемого чувства… Непередаваемого, потому что слова способны лишь пробуждать воспоминания, а если воспоминаний нет… Ощущение исчезновения грани между субъективным и объективным, личным и безличным, «я» и «не-я»… то самое чувство!.. Попробуй вспомнить, ведь ребенком ты видел, как кто-нибудь касается карандашом листа бумаги, чтобы нарисовать картинку… и линия начинает превращаться… – в нос! – и это не просто рисунок грифелем на бумаге, но само чудо сотворения, и собственные твои сны втекали тогда в эту волшебную… изменяющуюся… линию, и не картинкой это было, но чудом… переживанием… а теперь, когда ты воспаряешь под действием ЛСД, то чувство возникает вновь – только на этот раз происходит сотворение целой вселенной…
Тем временем на Перри-лейн был уже не тот Ученик-Провинциал, которого все знали и любили. Кизи вдруг… – ну, конечно, в нем сохранились мягкость и подобострастность, однако он появился на сцене с неисчерпаемым запасом жизненных сил. Мало-помалу вся Перри-лейн сконцентрировалась вокруг Кизи. Там, в Ветеранском госпитале «Менло-парк», Кизи отдал всего себя на благо науки – и оттуда на Перри-лейн начали каким-то образом просачиваться наркотики: главным образом ЛСД, мескалин, ИТ-290. Чтобы прослыть на Перри-лейн человеком с понятием, теперь надо было включать в свой обиход компонент, который еще недавно никому и не снился: несусветные, шокирующие медикаменты. Было подвергнуто испытанию хладнокровие некоторых старых перри-лейнских знаменитостей, и обнаружилось, что они вовсе не против. Противниками нового наркотического увлечения были лишь Робин Уайт и Гвен Дэвис. Особых проблем это не вызвало, потому что Кизи успел многих склонить на свою сторону и власть принадлежала Кизи. Перри-лейн приняла в свою среду человека с раздвоением личности, то есть Кизи. Поначалу все это походило на типичные шумные развлечения студенческой братии – в чудесный субботний осенний день все выходили на травку, в рассеянную тень деревьев и усиков жимолости и принимались играть в футбол или баскетбол с силовыми приемами. Однако через часок Кизи и его сторонники уже находились под воздействием того, о самом существовании чего в целом мире знали лишь они да несколько передовых исследователей в области нейрофармакологии, наркотиков будущего, центробежной утопии нейрофармакологов, грядущей эпохи…








