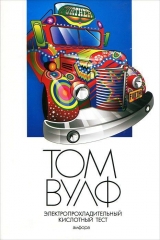
Текст книги "Электропрохладительный кислотный тест"
Автор книги: Том Вулф
Жанры:
Контркультура
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 28 страниц)
Том Вулф
Электропрохладительный кислотный тест
I
Черные начищенные туфли ФБР
Стоит подумать, Ветерок. Ветерок – парень с трех-четырехдневной щетиной, сидящий рядом со мной на штампованном металлическом дне открытого пикапа. Машина подпрыгивает на дороге. Опускается, поднимается и испытывает благодаря своим проржавевшим рессорам бортовую качку, словно корабль. Позади грузовичка подпрыгивает на склоне холма город Сан-Франциско – все его бесчисленные уступы с окнами-фонарями, трущобы с чудесным видом из окон. – подпрыгивает и стремительно уносится вниз, к подножью. Одна за другой – электрические рекламные вывески со светящимися неоновыми бокалами мартини – сан-францисским символом «бара», тысячи неоново-фуксиновых бокалов мартини подпрыгивают и уносятся вниз по склону холма, а под ними сотни, тысячи людей вертят головами, пытаясь разглядеть прикольный чудной грузовичок, в котором едем мы, их белые лица норовят оторваться от лацканов одежды и напоминают белый зефир, они подпрыгивают и уносятся вниз по склону холма… и, видит Бог, им есть на что посмотреть.
Потому-то и кажутся мне странными слова Ветерка, которые он очень серьезно произносит, пытаясь перекричать грохот колымаги:
– Даже не знаю… не знаю, стоит ли мне появляться у Склада, когда выйдет Кизи.
– А что?
– Да ведь там наверняка объявятся копы, да еще и злющие как собаки, а у меня условный срок, вот я и не знаю.
Да, стоит подумать, Ветерок. Не дразни ублюдков. Лучше не высовываться – вот как сейчас. А сейчас Ветерок испытывает такой страх перед полицией, что садится, выпрямившись, прямо на виду у тысяч и без того потрясенных сограждан, а на нем шляпа из тех, что носили в своем Дремучем Лесу семь гномов, к тому же утыканная перьями и расписанная флюоресцирующими красками. Напротив нас в кузове, тоже на виду у всех, стоит на коленях девушка, полуиндианка из племени оттава по имени Лоис Дженнингс: голова ее запрокинута, а лицо так и светится радостью. К тому же на лбу у нее сверкающий серебристый кружок, то вспыхивающий ярким светом, когда на него падает солнечный луч, то излучающий все цвета радуги благодаря заключенной в нем дифракционной решетке. И еще – да-да! – в руке у нее длинноствольный револьвер «кольт-45»; вот только ни одна живая душа на улице не догадывается, что стреляет он игрушечными пистонами, а она палит без разбору – пиф-паф! – во все эти зефирные лица, словно Дебора Пейджет в фильме… в фильме…
– Кизи выходит из тюрьмы!
Еще две вещи, которые все разглядывают, – это надпись на заднем бампере, гласящая: «Кастер умер за ваши грехи», и, за рулем, Лоисова страсть, Стюарт Бранд худой светловолосый малый с таким же сверкающим кружком на лбу и галстуком из индейских бус на шее. Рубашки, правда, нет, только галстук из индейских бус на голое тело да белая куртка мясника с орденами от шведского короля.
Тут появляется красавчик: атташе-кейс и все такое прочее, всегдашний возмущенный взгляд и… туфли – начищенные до блеска! – да кто они такие, эти дурацкие битники!.. и Лоис всаживает пулю прямо в его зефирную харю, и он уносится, подпрыгивая, вниз по склону холма…
А грузовичок вздымается на волнах, сверкая серебристым и красным и красками дневного свечения, и я серьезно сомневаюсь, Ветерок, сыщется ли сегодня во всем Сан-Франциско хоть один полицейский, который не знал бы, что этот сумасшедший автомобиль – партизанский дозор, высланный грозной ЛСД.
Копам известен уже весь антураж, даже стиль одежды: длинные иисусовы волосы, индейские бусы, индейские головные повязки, бисер, колокольчики, амулеты, мандалы, божественные взоры, флюоресцирующие жилеты, рога единорога, дуэльные рубахи в стиле Эррола Флинна, – но им пока еще ничего не известно о башмаках. Насчет башмаков у торчков пунктик. Хуже всего нечищенные черные туфли со шнурками. От них иерархия восходит вверх и, хотя практически все низкие ботинки считаются нехипповым фуфлом, заканчивается башмаками, которые нравятся торчкам, – легкими причудливыми башмаками, английскими башмаками из ассортимента стиляг, если больше ничего нельзя достать, но лучше – что-нибудь типа мексиканских башмаков ручной работы с пижонским носком «кальенте» в форме буквы А. Так что представьте себе ФБР… черные… начищенные до блеска… зашнурованные… туфли ФБР… когда ФБР схватило наконец Кизи…
С нами в кузове грузовичка еще одна девушка невысокая смуглая девушка с черными волосами по прозвищу Черная Мария. Она похожа на мексиканку, однако обращается ко мне на чистом вкрадчивом калифорнийском наречии:
– Когда у тебя день рождения?
– Второго марта.
– Рыба, – говорит она. И добавляет: – Никогда бы не подумала, что ты Рыба.
– Почему?
– По-моему, для Рыбы ты слишком… обстоятельный.
Но я понимаю, что она хочет сказать «уравновешенный». Я начинаю чувствовать себя уравновешенным. Знаешь, Черная Мария, у себя в Нью-Йорке я даже заработал себе репутацию пижона. И все-таки синий шелковый блейзер, широкий галстук с клоунами и… пара начищенных до блеска низких черных туфель почему-то не подвигают никого из торчков Сан-Франциско на Студенческие Издевки. Лоис расстреливает по одному всю эту зефирную команду; Ветерок прячет голову в самое нутро своей гномиковой шляпы; Черная Мария, которая сама – Скорпион, тщательно изучает знаки зодиака; Стюарт Бранд, сидя за рулем, петляет по улицам; вспыхивают блестки – и в этом нет ничего особенного; обычное дело, обычное для торчкового мира Сан-Франциско, всего лишь заведенный порядок, попутно приводящий в смятение граждан, не более чем пища для души чудесных людей, согласившихся подбросить некоего нью-йоркца до Склада, где он намерен дожидаться Вождя, Кена Кизи, который выходит из тюрьмы.
Почти все мои тогдашние представления о Кизи заключались в том, что он пользуется большим уважением как писатель и имеет постоянные неприятности из-за наркотиков. Он написал романы «Над кукушкиным гнездом» (1962), который в 1963 году был переделан в пьесу, и «Времена счастливых озарений» (1964). В компании с Филипом Ротом, Джозефом Хеллером, Брюсом Джеем Фридманом и парочкой других он всегда считался одним из молодых прозаиков, которым суждено большое будущее. Затем он был дважды арестован за хранение марихуаны – в апреле 1965-го и в январе 1966-го – и сбежал от сурового приговора в Мексику. Похоже, как рецидивисту, ему грозило не меньше пяти лет. Однажды в руки мне попали письма, которые Кизи писал из Мексики своему другу Ларри Макмёртри, автору книги «Скачи дальше, всадник», по которой потом был поставлен фильм «Скорлупа». Письма были сумасбродные и иронические, нечто среднее между Уильямом Барроузом и Джорджем Эйдом. говорилось в них об укрытиях, маскировке, паранойе, бегстве от полиции, курении марихуаны и поисках сатори в Крысиных землях Мексики. Было там одно место, написанное в стиле Джорджа Эйда от третьего лица в качестве пародии на то мнение, какое должно было сложиться о нем в тогдашнем добропорядочном мире США.
«Короче говоря, этот молодой, красивый, преуспевающий, счастливый в браке отец троих прелестных детишек превратился в одержимого страхом наркомана, находящегося в бегах из-за судебного преследования за три тяжких преступления и Бог знает сколько мелких, да к тому же еще и пытается вылепить новое сатори из старого прибоя – говоря еще короче, он попросту не в своем уме.
Бывший атлет, столь ценимый, что ему доверяли подавать сигналы с линии, и участвовавший в состязаниях за национальную борцовскую корону, ныне он не уверен, сможет ли сделать дюжину отжиманий. Бывший обладатель феноменального банковского счета, загребавший деньги со всех сторон, ныне только и может, что просит свою бедную женушку наскрести и выслать ему восемь долларов на бегство в Мексику. И хотя еще несколько лет назад его вносили в справочник «Кто есть кто» и просили выступить в таких благопристойных собраниях, как «Уэлесли-клуб» в Дале, ныне ему не позволят выступить даже на митинге КВД (Комитета Вьетнамского Дня). Так что же привело человека, подававшего столь большие надежды, в столь незавидное состояние за столь короткое время? Что ж, друзья, ответ заключен в одном-единственном не слишком длинном слове, в четырех затертых от употребления слогах:
Наркотики!
И несмотря на утверждения некоторых безмозглых сторонников этих химикатов о том, что, как известно, наш герой не отказывал себе в наркотиках и до того, как добился успеха на литературном поприще, следует подчеркнуть, что задолго до появления в его жизни так называемой психоделии существовали свидетельства его высокого литературного мастерства, однако не было никаких свидетельств тех безумных мыслей, которые мы обнаруживаем впоследствии!» После чего он добавил:
«(О, ветер шумит как давно… как давно… стропила гудят и стены имеют глаза…а дверь к этой птичке в молоде-е-е-еющем небе как давно я там не был… О, хихикают волны как давно как давно над прошлым убитым когда дурное изгнали и все двери к птичкам пропали тогда – как давно.)»
Я задумал поехать в Мексику, попытаться его разыскать и подготовить материал о Молодом Прозаике, а в жизни – Беглеце. Я принялся повсюду расспрашивать о том, где именно в Мексике его можно найти. Каждый ушлый знаток в Нью-Йорке имел на этот счет верные сведения. По-видимому, в то лето не знать этого было попросту неприлично. Он в Пуэрто-Балларте. Он в Айихике. Он в Оахаке. Он в Сан-Мигель-де-Альенде. Он в Парагвае. Он только что отплыл на пароходе из Мексики в Канаду. И каждый знал наверняка.
Я еще занимался своими расспросами, когда Кизи в октябре тайно вернулся в Штаты и на Бэйшорском шоссе, южнее Сан-Франциско, его накрыло ФБР. Один из агентов пустился за ним в погоню и на насыпи схватил: Кизи оказался в тюрьме. Я немедленно отправился в окружную тюрьму Сан-Матео в Редвуд-сити, и обстановка в тамошней приемной напомнила мне служебный вход театра «Музыкальная шкатулка». Там царило радостное оживление. Среди ожидавших был молодой психолог Джим Фейдиман – как оказалось, племянник Клифтона Фейдимана. Джим со своей женой Дороти увлеченно запихивали три монеты для гадания по «И-цзину» в корешок некоего необыкновенно пухлого тома по восточному мистицизму, а меня они попросили передать Кизи, что монеты в книге. Была там и невысокая круглолицая брюнетка по имени Мерилин, которая сообщила мне, что подростком постоянно сшивалась с рок-н-ролльной группой «Полевые Цветы», а теперь большей частью живёт с Бобби Петерсеном. Музыкантом Бобби Петерсен не был. Насколько я понял, он был святым. Он сидел в тюрьме в Санта-Крус и пытался защищаться от обвинения в хранении марихуаны, пользуясь тем предлогом, что для него курение марихуаны является религиозным таинством. Я так толком и не разобрался, зачем она сидела в приемной тюрьмы Сан-Матео, разве что дело было в том, что приемная эта, как я уже сказал, напоминала служебный вход театра с Кизи в качестве ведущего актера, а он еще не появился.
Возникла небольшая неувязка с надзирателями – они сомневались, пускать ли меня к нему на свидание. Да и какая польза была копам от того, что они меня впустят? Репортер из Нью-Йорка означал лишь дополнительное прославление и без того прославленного битника. Такое навязали Кизи амплуа. Он был прославленным битников, обвинявшимся в двух преступлениях, связанных с наркотиками, и ни к чему делать из него героя. Должен сказать, что копы в Калифорнии весьма приятные. Все они молодо выглядят, высокие, аккуратно подстриженные, белокурые и голубоглазые – короче, словно только что сошли с рекламы сигарет. Тюрьмы их совсем не похожи на тюрьмы – по крайней мере те места, что доступны взорам публики. Там сплошь светлое дерево, лампы дневного света и рыжевато-коричневый металл, из какого делают шкафы для хранения документов – ни дать ни взять кабинет в новом здании почтовой конторы, где принимают на государственную службу. Все копы говорят на вкрадчивом калифорнийском, все чистенькие и правильные, как кубики льда. Все строго по инструкции. Короче, дождавшись, когда начнутся часы посещения, они в конце концов впустили меня на свидание с Кизи. Мне дали десять минут. Я помахал на прощанье рукой Мерилин, Фейдиманам и их развеселому окружению и в сопровождении полицейских поднялся в лифте на третий этаж.
Лифт открылся, и я сразу же очутился в небольшой комнате свиданий. Она оказалась довольно странной. Передо мной был ряд из четырех или пяти изолированных кабинок, напоминающих те, что использовались в старых телевикторинах, в каждой было окошко из зеркального стекла, а по ту сторону каждого окошка находился заключенный в синей арестантской робе. Их выстроили в линию, словно кегли. Возле каждого окошка была полочка с телефоном. Именно с его помощью и следовало разговаривать. Парочка посетителей уже ссутулилась над своими аппаратами. И тут я увидел Кизи.
Он стоит, скрестив руки на груди, и взгляд его обращен вдаль, то есть на стену. У него толстые запястья и большие руки, а то, что он держит их скрещенными, делает их просто гигантскими. Он кажется выше своего роста, быть может, из-за шеи. У него крупная шея с парой грудино-ключично-сосцевидных мышц, поднимающихся из-под арестантской робы как два портовых троса. У него массивные челюсти и подбородок. Он немного похож на Пола Ньюмана, разве что более мускулист и толстокож, и вдобавок голову его обрамляют жесткие светлые кудри. На макушке волос уже почти не осталось, но это каким-то образом прекрасно гармонирует с его крупной шеей и борцовским телосложением. Потом он едва заметно улыбается. Странно: на лице у него ни одной морщинки.
После стольких преследований и переделок он выглядит так, словно третью неделю лечится на водах. Вид у него, я бы сказал, безмятежный.
Затем я беру свою трубку, а он свою – поистине времена прогресса! Мы находимся всего в двадцати четырех дюймах друг от друга, но между нами кусок зеркального стекла, толстый, как телефонная книга. С таким же успехом мы могли бы разговаривать по видеотелефону, находясь на разных материках. В трубке постоянно что-то трещит, и слышимость очень плохая, особенно если учесть, что связь установлена на расстоянии в два фута. Предполагалось, естественно, что полиция прослушивает каждый разговор. Я хотел порасспросить его о тех временах, когда он скрывался в Мексике. Мой предполагаемый материал все еще должен был называться «Восемь мексиканских месяцев молодого прозаика-беглеца». Однако при такой причудливой телефонной связи подобный рассказ ему вряд ли бы удался, к тому же у меня было только десять минут. Я достал блокнот и принялся расспрашивать его – обо всем на свете. В газетах было приведено его заявление о том, что пора, мол, психоделическому движению выйти «за пределы кислоты», вот об этом я его и спросил. После чего я принялся бешено выводить в своем блокноте стенографические каракули. Я видел, как в двух футах от меня он шевелит губами. Его голос трещал в трубке так, словно доносился из Брисбена. Все это было сплошным безумием. Казалось, каждый из нас выполняет упражнения для развития артикуляции.
– Мое мнение такое, – сказал он, – что пора заканчивать ту школу, где мы учились, и поступать в следующую. Волна психоделии возникла шесть-восемь месяцев назад, когда я уехал в Мексику. Она все еще нарастает, однако стоит на месте. Когда я вернулся, то обнаружил, что ничего не изменилось. Разве что масштабы покрупнее…
Говорит он вкрадчивым голосом с провинциальным акцентом, который был бы вполне провинциальным, не будь треска и скрежета, не три его, как сыр на терке, двухфутовый телефонный кабель; он говорит…
– …полностью отсутствовало всякое творчество, – говорит он, – а я, по-моему, призван оказать помощь в сотворении следующей ступени. Не думаю, что начнется уход из наркотической среды, пока не появится нечто, куда можно будет перейти…
…с явным провинциальным акцентом о том… откровенно говоря, я ни черта не понимал, о чем идет речь. Время от времени он начинал говорить загадками и сыпать афоризмами. Я сказал ему, что слышал о его намерении не возвращаться к литературе. Почему?
– Лучше быть молниеотводом, чем сейсмографом, – ответил он.
Он рассказал о чем-то, называющемся Кислотным Тестом, и о формах выражения, при которых не будет разобщения между ним и аудиторией. Это будет единое, общее переживание, все чувства будут нараспашку, будут слова, музыка, свет, звуки, соприкосновение, молния.
– Вы имеете в виду нечто вроде того, чем занимается Энди Уорхол? – спросил я.
…Пауза.
– Не в обиду будь сказано, – говорит Кизи, – но Нью-Йорк отстал года на два.
Он произнес это очень терпеливо, с особой провинциальной учтивостью, как бы… Не хочу, мол, вас, ребята из Большого Города, оскорбить, но здесь происходят такие вещи, до каких вам и через миллион лет не додуматься, дружище…
Десять минут подошли к концу, и я удалился. Я не добился ничего, кроме первого легкого столкновения с удивительным явлением, необыкновенной провинциальной притягательной силой – обществом Кизи. Мне оставалось лишь убивать время в надежде на то, что Кизи как-нибудь удастся выйти под залог и я смогу поговорить с ним и выяснить подробности жизни Прозаика-Беглеца в Мексике. Такая возможность в тот момент казалась сомнительной, ведь Кизи было предъявлено два марихуанных обвинения, к тому же за ним уже числился один побег из страны.
Поэтому я взял напрокат машину и принялся колесить по Сан-Франциско. Мои самые яркие воспоминания о Сан-Франциско состоят почему-то в том, как я с грохотом мчусь вверх и вниз по холмам в ужасном, взятом напрокат седане, осторожно пересекая трамвайные пути. Как плавно спускаюсь в Норт-Бич легендарный Норт-Бич, древнюю отчизну богемы Западного побережья, где всегда полно важных персон имярек, пляжных повес, юных длинноволосых «стопроцентных американцев» и еврейских парней, которые трахают чернокожих шлюх, а теперь Норт-Бич умирал. Норт-Бич превратился в сплошную выставку сисек. В знаменитой штаб-квартире бит-поколения, книжном магазине «Огни большого города», сидел в качестве местной достопримечательности японец Сиг Мурао с сердитым взглядом и бородой, свисающей нитями, как папоротник или утесник на чертеже архитектора. Он сидел за кассовым аппаратом, склонившись над томами Халила Джебрана, а съехавшиеся на свой профессиональный конгресс зубные врачи паслись там, разыскивая битников среди засилья балаганов с сиськами. Все в Норт-Биче было отдано голым грудям, исполнительницам стриптиза, накачивающим грудь инъекциями силоксановой эмульсии. Все главное – то есть те группировки, что создали когда-то здешнюю атмосферу и стиль, – все главное переместилось в Хейт-Эшбери. Довольно скоро туда отправятся и все вожаки преуспевающей богемы, помчатся бампер к бамперу автомобили с глазеющими по сторонам пассажирами, помчатся туристские автобусы: «а это… Прибежище Хиппи… вот и один из них», – отправятся туда и педики, и чернокожие проститутки, и книжные магазины, и модные лавки. Все уже состояло только из Хейт-Эшбери и кислотных торчков.
Однако умирал не только Норт-Бич. Всю старомодную жизнь людей с понятием – джаз, кофейни, гражданские права, клич «пригласи негра на обед», Вьетнам, – все это, как я обнаружил, подстерегала внезапная смерть, ее призрак витал даже над студентами в Беркли, на другом берегу залива, в самом сердце «студенческого бунта» и всего прочего. Дошло уже до того, что негры перестали принадлежать к избранному обществу, даже в качестве тотема. В это невозможно было поверить. Негры, составляющие душу общества Избранных, душу джаза, да и самой лексики: «чувак» и «балдеж», «врубись» и «чувиха», «каюк» и «расчухать», «дал дуба» и «клево», душу борьбы за гражданские права; негры, оканчивающие Рид-колледж, живущие в Мэйзоне в Норт-Биче и трахающие своих чернокожих шлюх, – ах, эти тщательно продуманные ласки и шлепки, вселяющие душу в каждого негра, – всему этому конец. Невероятно!
Короче, я начинал улавливать тенденцию всех этих катаклизмов в богемном мире Сан-Франциско. Между тем, как ни удивительно, три молодых адвоката Кизи Пат Халлинен, Брайен Роэн и Пол Робертсон – были близки к тому, чтобы заполучить Кизи под залог. Они убедили судей в Сан-Матео и Сан-Франциско в том, что Кизи, движимый заботой об интересах общества, разработал прекрасный план. Он вернулся из изгнания только с одной целью: созвать в «Уинтерленд-арена» в Сан-Франциско многолюдный митинг наркоманов и хиппи и объявить Молодежи о том, что пора прекратить прием ЛСД, поскольку она опасна и может лишить мозгов, ну и все такое прочее. Этот митинг должен был стать церемонией «окончания кислотной школы». Они должны выйти «за пределы кислоты». Сдается мне, именно об этом Кизи мне и толковал. Одновременно шестеро близких друзей Кизи из района Пало-Альто пустили свои дома с торгов под обеспечение 35 000 долларов – залога, потребованного окружным судом Сан-Матео. Я думаю, судьи рассчитывали на то, что Кизи в любом случае никуда не денется. Если он, будучи отданным на поруки, снова сбежит, то подложит такую свинью своим друзьям, которые из-за этого лишатся крыши над головой, что будет окончательно дискредитирован и как наркоманский апостол, и во всех прочих смыслах. Если же нет, то он будет обязан произнести свою речь перед Молодежью что ж, тем лучше. Как бы там ни было, Кизи выходил на свободу.
Однако в Хейт-Эшбери такой оборот дела особой популярности не имел. Вскоре я обнаружил, что торчковая жизнь в Сан-Франциско достигла уже такого размаха, что возвращение Кизи и его план «окончания кислотной школы» грозили вызвать первый в среде торчков крупный политический кризис. Все взоры были обращены на Кизи и его группу, известную как «Веселые Проказники». Тысячи молодых людей приезжали в Сан-Франциско пожить на ЛСД и психоделической вещи. Главным абстрактным словом в Хейт-Эшбери было слово «вещь». Оно могло означать любую вещь, «измы», образ жизни, привычки, пристрастия, дела, половые органы; вещь и еще прикол; прикол имел отношение к вкусам и навязчивым идеям: к примеру, «у Стюарта Бранда индейский прикол» или «знаки зодиака – вот ее прикол», а для торчков – и просто к стилю одежды. Слово это не имело негативного смысла. Как бы там ни было, всего за две недели до описываемых событий торчки провели в парке «Золотые ворота», у подножия холма, на вершине которого расположен Хейт-Эшбери, свой первый крупный «сходняк», где устроили шуточное празднование дня запрещения ЛСД в Калифорнии. Там сошлись все кланы, все общины. Собрались все прикольщики и занялись своей вещью. Затеял все это торчок по имени Майкл Боуэн, и туда направились тысячные толпы – роскошно разодетые, звеня колокольчиками, распевая песни, исступленно танцуя, несмотря ни на что одурманив себе мозги и с присущей им язвительностью совершая излюбленные свои благородные поступки по отношению к копам, одаривая их цветами и с головой погружая ублюдков в нежные ароматные лепестки любви. Господи, Том, вещь получилась просто фантастическая, прикольный кайф, тысячи торчков своей любовью свернули копам мозги набекрень, сплошная фиеста любви и эйфории. Даже Кизи, который в то время еще был в бегах, и тот мелькнул там на мгновение и смешался с толпой, и наступило полнейшее единение… а теперь вдруг вот те на! полюбуйтесь-ка на него, он в руках у ФБР и прочих суперкопов, – Кизи, самый знаменитый человек в Жизни, заявляет, что пришло время «заканчивать школу кислоты». Что за черт, может, это хитрый ход? И даже в мире людей с понятием стало зарождаться движение «Остановите Кизи!».
На сумасшедшем грузовичке мы подъезжаем к Складу, и… ну, для начала до меня доходит, что люди типа Лоис, Стюарта и Черной Марии составляют умеренное, склонное к осторожности крыло «Веселых Проказников». Склад расположен на Харриет-стрит, между Ховардом и Фолсом. Как и почти весь Сан-Франциско, Харриет-стрит застроена деревянными домами с окнами-фонарями, и все дома выкрашены в белый цвет. Однако Харриет-стрит находится в районе притонов и, несмотря на весь свой грим, выглядит так, словно на нее выползли в сумерках человек сорок пять пьянчуг, умерли там, почернели, раздулись и лопнули, выпустив наружу целый поток спирохет, которые проникли в каждую доску, каждую планку, каждую щель, каждую щепку, каждую каплю распыляемой краски. Оказывается, Склад – это, на самом деле, гараж на первом этаже заброшенной гостиницы. В последний раз коммерчески он использовался как пекарня. Мы останавливаемся у гаража, а там стоит грузовик, выкрашенный синей, желтой, оранжевой и красной красками дневного свечения, с выведенным громадными буквами на капоте словом «ОБМАН». Из темного нутра гаража доносятся звуки пластинки Боба Дилана с его небрежной гармоникой и голосом, как у Эрнеста Табба: фальшивящим и осипшим от монотонных полулюбительских песнопений…
Внутри, в громадном помещении, полнейший беспорядок, который отчасти создает нечто, похожее поначалу во мраке на десять-пятнадцать ходячих американских флагов. Флаги оказываются мужчинами и женщинами, большинству из которых едва за двадцать, в белых комбинезонах того типа, что носят рабочие в аэропорту, только с пришитыми где только возможно кусками американского флага – в основном звезды на синем фоне. но кое у кого на штанинах вертикальные красные полосы. Кругом стоят театральные подмостки, завешенные вместо занавеса одеялами, вдоль стен свалены грудами целые ряды выдранных где-то с корнем театральных кресел, металлолом, канаты и балки.
Одно из приспособленных под занавес одеял отодвигается, и со сцены высотой футов девять спрыгивает на пол невысокая фигура. Оказывается, это паренек футов пяти ростом с чем-то вроде авиаторского шлема времен первой мировой войны на голове… он весь в светящихся вихрях, зеленых и оранжевых. Даже башмаки. Такое впечатление, будто он подпрыгивает над двумя флюоресцирующими шарами. Наконец он останавливается. У него славное личико с большими усами и огромными глазами. Глаза прищуриваются, и на лице вдруг появляется ухмылка.
– Я только что пристукнул там, наверху, восьмилетнего мальчика, – говорит он.
После чего он принимается гнусаво хихикать и, весь сверкая, вприпрыжку несется в угол, в самую груду мусора.
Все смеются. По-видимому, это нечто вроде традиционной семейной шутки. По крайней мере, я единственный, кто оглядывает подмостки в поисках останков.
– Это Отшельник.
Через три дня я вижу, что он соорудил себе в углу пещеру.
В центре гаража – еще более яркое свечение. С трудом различаю школьный автобус… светящийся оранжевым, зеленым, фуксиновым, лавандовым, голубовато-зеленым, всеми мыслимыми флюоресцирующими пастельными тонами в тысячах узоров, крупных и мелких, некая смесь Фернана Леже и Доктора Стрейнджа, то с шумом сливающихся воедино, то с трепетом расходящихся в стороны, словно кто-то вручил Иерониму Босху полсотни ведер краски дневного свечения и школьный автобус «Интернэшнл Харвестер» образца 1939 года и велел как следует поработать. На полу возле автобуса растянут пятнадцатифутовый транспарант, гласящий: «ОКОНЧАНИЕ КИСЛОТНОГО ТЕСТА»; над ним трудятся два или три Человека-Флага. Фальшивит и сипит голос Боба Дилана, ходят с места на место люди, плачут младенцы. Мне их не видно, но они где-то здесь, они плачут. У стены – парень лет сорока, обладающий грудой мышц; это видно, потому что он без рубашки – в одних брюках защитного цвета и каких-то красных кожаных башмаках, – сложен он чертовски крепко. Кажется, он впал в кинетический транс: снова и снова подбрасывает в воздух небольшую кувалду и каждый раз успевает поймать ее за ручку, непрерывно дрыгая при этом ногами, поводя плечами и подергивая головой, – и все это в рваном ритме, словно где-то Джо Кьюба играет «Бац! Бац!», хотя на самом-то деле не поет уже и Боб Дилан, а из громкоговорителя, где бы он там ни был, доносится запись некоего призрачного голоса:
«Нигдешняя Шахта… у нас есть обертки от жевательной резинки… – фон создает потусторонняя электронная музыка с восточными интервалами, напоминающая музыку Хуана Карильо, – … Мы вытаскиваем все это из земных недр… работаем в Нигдешней Шахте… сегодня, ежедневно…»
Подходит один из Людей-Флагов.
– Эй, Горянка! Это же с ума сойти!
Горянка – высокая девушка, крупная и красивая, с ниспадающими на плечи темно-каштановыми волосами. Вот только нижние две трети ее ниспадающих волос напоминают кисть художника, которую обмакнули в кадмиево-желтую краску, – в Мексике она заделалась крашеной блондинкой. Она поворачивается и демонстрирует на спине своего комбинезона круг, составленный из звезд.
– Мы купили их в магазине военного обмундирования, – говорит она, правда, отпад? Тамошний старикан говорит: «Уж не хотите ли вы разрезать эти флаги и пустить их на свои наряды?» А я ему отвечаю: «Что вы! Нам охота раздобыть несколько горнов и устроить парад». Но посмотрите вот на это! Вот из-за чего мы их купили.
Она показывает пуговицу на комбинезоне. Все наклоняются, чтобы как следует ее разглядеть. В глубине пуговицы гравировка в стиле «арт-нуво»: «Их не арестуешь».
Их не арестуешь!.. девиз весьма своевременный. После стольких случаев, когда Проказников арестовывали – копы округа Сан-Матео. копы Сан-Франциско, копы Мехикале Федерале, копы ФБР, копы, копы, копы. копы…
А младенцы все плачут. Горянка поворачивается к Лоис Дженнингс:
– Что делают индейцы, когда плачет ребенок?
– Хватают его за нос.
– Да ну?
– Так его отучают.
– Надо попробовать… Это кажется логичным…
И Горянка направляется к одной из разборных, трубчато-сетчатых детских кроваток, берет на руки своего ребенка, четырехмесячную девочку по имени Саншайн – Солнечный Свет, и усаживается в театральное кресло. Однако вместо того, чтобы применить индейский метод обхождения с детьми, она расстегивает комбинезон «Их не арестуешь» и принимается кормить ребенка.
«Нигдешняя Шахта… Ни чувств, ни криков и ни слез… – баммм, биммм и опять я пришел на Нигдешнюю Шахту…»
Жонглер с кувалдой дергается что есть сил…
– Кто это?
– Кэсседи.
Я поражен, мне это кажется непостижимым. Я же помню, кто такой Кэсседи. Кэсседи, Нил Кэсседи, был героем, Дином Мориарти, романа «В дороге» Джека Керуака – Денверский Малый, парень, который без устали носился на машине по всей стране, догоняя, а то и обгоняя «жизнь», и вот передо мной тот же самый парень, уже сорокалетний, – в гараже, подбрасывает в воздух кувалду, пританцовывает под своего собственного Джо Кьюбу и… говорит. Говорит Кэсседи без остановки. Однако этим еще ничего не сказано. Кэсседи непрерывно произносит монологи, только ему абсолютно безразлично, слушает кто-нибудь или нет. Он попросту окунается в монолог, причем если нет другого выхода – то в одиночку, хотя рад и любому слушателю. Он ответит на все вопросы, правда, не совсем в том порядке, в каком они заданы, ведь здесь нельзя останавливаться, следующий привал через сорок миль, вы же понимаете, он раскручивает воспоминания, метафоры, литературные, восточные, хипповые аллюзии, перемежая все это неуместным оборотом: «Вы же понимаете»…








