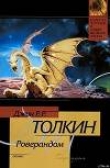Текст книги "Дж. Р. Р. Толкин: автор века. Филологическое путешествие в Средиземье"
Автор книги: Том Шиппи
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 28 страниц)
В последней главе проводится параллель с прощанием Бильбо: отправляясь в Серебристую Гавань, на корабль, уходящий из Средиземья, Фродо запевает «старую походную песню, только слова были какие-то другие». Немудрено, что в указателе она значится как «Старая походная песня», то есть стихи о дороге, которые мы уже слышали трижды. Но на самом деле это другая песня – та, в которой было несколько куплетов, «Походная песня», впрочем, слова в ней действительно «какие-то другие». В обеих версиях есть строки о «безвестном пути» или «секретном ходе», но если хоббиты поют:
Их миновали мы вчера,
Но, может быть, теперь пора
Найти ту тропку в глубине,
Что мчится к Солнцу и Луне? —
то Фродо, уезжая из Средиземья, напевает:
Я миновал его вчера —
Но знаю, что придет пора
Найти ту тропку в глубине,
Что мчится к Солнцу и Луне!
И вновь, как и Бильбо в Раздоле, Фродо переиначивает стихи о дороге так, что они описывают его нынешнее состояние: он собирается пойти по той «тропке», которая уведет его из этого мира, но в то же время слова о «безвестном пути» и «секретном ходе» приобретают совершенно иное значение. Хоббиты, вероятно, просто имели в виду, что на другой день могут пойти по другой дороге (что вполне в духе походной песни), но для Фродо «безвестный путь» – это «утраченный Прямой Путь» из собственной мифологии Толкина, дорога в Блаженный Край.
Коротко говоря, поэзия в Хоббитании может быть одновременно новой и старой, очень личной и более чем личной; она может постоянно меняться и при этом сохранять узнаваемые черты. Неудивительно, что составители указателя к «Властелину колец» запутались в стихах и версиях. Но можно сказать, что в них заключена вся вневременность мифов. Мифы можно переделывать и применять к обстоятельствам собственной жизни, но за ними нельзя раз и навсегда закрепить постоянное и единственно верное значение.
Три поэта Хоббитании: Шекспир, Мильтон и «аноним»
Последнее утверждение может в какой-то степени объяснить неприязнь, которую Толкин высказывал в отношении своих предшественников на поприще поэзии, особенно Шекспира. Во времена профессиональной деятельности Толкина Шекспир считался чуть ли не священной коровой, и многие критики усматривали непростительное кощунство в том, что Толкину хватило наглости выражать свое недовольство классиком. Однако Толкин обычно смотрел на вещи с иной стороны, нежели его коллеги-литераторы, и часто делился своим мнением по частям. В своем письме У. Х. Одену Толкин сообщил, что в школе «всем сердцем терпеть не мог» шекспировские пьесы (при этом он употребил то же самое словосочетание, что и при описании своего отношения к аллегории – «disliked cordially»), особо припомнив, как проникся
горьким разочарованием и отвращением <…> к тому, как жалко и неубедительно Шекспир обыграл приход «Великого Бирнамского леса на высокий Дунсинанский холм».
На первый взгляд кажется, что Толкин лукавит. Если «Властелин колец» и обязан своим появлением на свет какому-либо произведению, то это шекспировский «Макбет». Толкин не просто полностью переработал тему «похода деревьев», которая легла в основу замысла о наступлении онтов на Изенгард и Хельмово ущелье. Пророчество, на которое рассчитывает главарь назгулов, – «Ни один смертный муж мне не страшен» – очень похоже на то, что пообещал Макбету один из призраков, вызванных ведьмами: «Лей кровь, играй людьми. Ты защищен / Судьбой от всех, кто женщиной рожден». И Макбет, и назгул одинаково попадаются на обман: «До срока из утробы материнской / Был вырезан Макдуф, а не рожден», а назгул пал не от рук «смертного мужа», а под совместным натиском Эовин (женщины) и Мерри (хоббита). Сцены, в которых Арагорн лечит раненых с помощью целемы, напоминают приведенный в «Макбете» рассказ о том, как король Эдуард Исповедник исцелял больных золотухой одним прикосновением священной королевской длани. А в отрывке, где Денэтор говорит о роли наместников и королей, есть намек на камень в огород «Макбета».
По общему мнению, своей пьесой Шекспир пытался польстить Якову VI Шотландскому и I Английскому, который в 1603 году взошел на трон после окончания правления Елизаветы. Новый король заявлял о своем происхождении от Банко, и, говорят, в первой постановке пьесы в сцене, в которой ведьмы показывают вереницу потомков Банко, на подмостках перед королевской ложей устанавливали зеркало, чтобы в нем отразился король Яков. Однако он принадлежал к династии Стюартов, а значит, как и Денэтор, был наместником (англ. Steward): вот только в Шотландии и Англии наместники вполне могли претендовать на королевский титул. Отвечая на расспросы недовольного Боромира о том, через сколько лет наместник становится достойным занять пустующий трон, Денэтор говорит, что такое случается только «в иных краях»[79] (глава 5 книги IV), и это прямая отсылка к Британии. Здесь, как и в случае с походом онтов, можно заметить, что Толкин старается исправить или улучшить историю, рассказанную в «Макбете». Вероятно, он был невысокого мнения об оппортунистическом подходе Шекспира к созданию драматического эффекта.
Но, пожалуй, самое показательное отличие от «Макбета» заключается в том, каким образом с помощью магии предсказывается будущее. Главный парадокс в «Макбете» состоит в том, что ведьмы говорят правду. Все, о чем повествуют они и вызванные ими призраки, сбывается, хотя и все чаще неожиданным для Макбета образом. Он действительно становится кавдорским таном, а затем и впрямь «королем в грядущем»; совет «Макдуфа берегись» оказывается здравым; те, «кто женщиной рожден», действительно не причиняют ему никакого вреда; победу над ним одерживают только после того, как Бирнамский лес и правда пошел на Дунсинан; а трон наследуют потомки Банко, а не Макбета. Однако в пьесе не ставится вопрос о том, сбылись бы эти пророчества, если бы Макбет не попытался поспособствовать их исполнению. Кавдорским таном он стал, не прилагая к этому никаких усилий. Мог ли он занять королевский трон честно, не убивая Дункана? И действительно ли стал бы Макдуф его смертельным врагом, если бы Макбет не попытался упредить исполнение пророчества, вырезав всех его родных?
В отличие от Шекспира Толкин задается подобными вопросами – в сцене, в которой Галадриэль показывает Хранителям свое Зеркало. Можно заметить, что она не вполне согласна со словом «волшебство», которое постоянно употребляет Сэм: по ее словам, ей «не очень понятно», что оно значит, ведь так же называют «уловки, которыми пользуется Враг»; то есть «волшебство Галадриэли» не то же самое, что «уловки» ведьм в «Макбете». Она также добавляет:
«Зеркало часто открывает события, для которых время еще не настало и, весьма вероятно, никогда не настанет – если тот, кому оно их открыло, не свернет с выбранной им однажды дороги, чтобы предотвратить возможное будущее».
Макбету этого никто не сообщил. Однако в обоих произведениях возникает одна и та же дилемма. Если бы Макбет не поддался на уловки ведьм и отказался убивать Дункана, сбылось бы в таком случае их пророчество? Если нет, то они не обладают никакой силой. Но, может быть, оно сбылось бы все равно, каким-нибудь неожиданным образом. И точно так же встает вопрос: если бы назгул не столкнулся с Эовин и Мерри – например, если бы с ним сразился Гэндальф, как вполне могло бы случиться, не перехвати его Пин (см. выше стр. 285), – оказалось бы пророчество о его судьбе ложным? Может быть, и нет, поскольку оно опять-таки могло бы сбыться каким-то иным образом: начать хотя бы с того, что Гэндальф, судя по всему, тоже не человек.
И Толкин, и Шекспир понимают двусмысленность пророчества, но Толкин гораздо больше заботится о том, чтобы исследовать ее философскую подоплеку. Его персонажи всегда обладают свободой воли, но не четкими инструкциями – их не дает ни палантир, ни Зеркало Галадриэли. На самом деле, все, что видят в Зеркале Сэм и Фродо, похоже, является правдой, но представляет собой смесь настоящего, прошлого и будущего, однако, в отличие от пророчеств ведьм, оно не влияет ни на чьи действия.
Теперь сложное отношение Толкина к Шекспиру начинает проясняться. На мой взгляд, он испытывал к нему сдержанное уважение, а может быть, даже видел в нем своего собрата (если такая мысль не покажется поклонникам классика чересчур святотатственной). В конце концов, Шекспир был его земляком из Уорикшира, где прошли самые счастливые детские годы Толкина и с которого он пытался писать Эльфландию в первых набросках своих «Утраченных сказаний». Шекспир вполне мог бы стать одним из поэтов Хоббитании. Стихи Бильбо, которые он читает в главе «Путь на юг», —
Когда сквозь муть осенних слез
Оскалится мороз,
Когда ясна ночная студь,
В глуши опасен путь. —
явно перекликаются с последними строками пьесы Шекспира «Бесплодные усилия любви»:
Когда свисают с крыши льдинки,
И дует Дик-пастух в кулак,
И леденеют сливки в крынке,
И разжигает Том очаг,
И тропы занесло снегами,
Тогда сова кричит ночами…[80]
Мы не можем с уверенностью сказать, что Бильбо сам написал эти стихи (возможно, это еще одна хоббитанская присказка, которая «древнее здешних гор»), и точно так же в шекспировских строках чувствуется отзвук народной традиции – и это ничуть не умаляет их достоинств. Но беда Шекспира (как мог бы сказать Толкин) – в излишней драматизации. Он намеренно повествовал о разовых событиях, непосредственно связанных с судьбой конкретных персонажей и вписанных в узкий контекст. Пророчества ведьм у него касаются только Макбета, на роль исполнителя пророчества про защиту от всех, «кто женщиной рожден», нет никаких других претендентов, кроме Макдуфа, «поход деревьев» – не более чем тактическая хитрость. Если посмотреть на пьесу с этой стороны, то как тут не испытать «горькое разочарование», когда Гонец говорит: «И вдруг увидел, как Бирнамский лес / Как бы задвигался». В этих сценах Шекспир не пытается одновременно добиться сиюминутной актуальности и показать символизм в более широком контексте, который тщательно прорабатывал сам Толкин, особенно посредством поэтических вставок. Разумеется, Шекспир умел это делать: как мог бы сказать Толкин, он продемонстрировал свои способности в нескольких сценах и персонажах, которые Толкин, очевидно, отметил. В их числе волшебный лес в пьесе «Сон в летнюю ночь» (своего рода прообраз Фангорна) и чародей Просперо в «Буре» (своего рода прообраз Гэндальфа – по крайней мере, по части вспыльчивости). Но Шекспир уехал из Марка, чтобы попытать счастья в Лондоне (и обрел его там). Поэтому «подлинной традиции» – традиции Хоббитании и Марка – в его произведениях очень мало.
Еще один, более наглядный пример «вневременности мифа», тоже связанный с исконной поэтической традицией, мы видим в рассказе о Кветлориэне. Прямо перед сценой, в которой Галадриэль предлагает хоббитам заглянуть в свое зеркало, Сэм описывает свое особое ощущение от Лориэна, по сути, говоря, что его невозможно определить. Кажется, что эльфы еще в большей мере ощущают это место своим домом, чем хоббиты Хоббитанию:
«Они ли уж переделали по себе свою землю, или она их к себе приспособила, этого я вам сказать не могу… <…> …если вы понимаете, про что я толкую. И магии ихней я ни разу не видел».
Фродо соглашается с ним, однако на его последнюю реплику отвечает: «Да тут ее ощущаешь на каждом шагу!» Но откуда исходит эта «магия», если ее можно так назвать? Отчасти она позаимствована у другого великого поэта Марка, которого Толкин, пожалуй, ставил выше Шекспира, хотя имени его мы не знаем. Поэма «Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь» (Толкин издал ее вместе со своим коллегой Э. В. Гордоном в 1925 году), сохранилась лишь в одном экземпляре, и помимо «Сэра Гавейна» в той же рукописи было еще три поэтических произведения, почти наверняка написанных тем же автором. Одно из этих произведений называется «Жемчужина»[81], и оно не отпускало Толкина всю жизнь.
«Жемчужина», как многие другие древние поэмы Западного Мидленда, написана в очень сложной стихотворной форме, которую Толкин тщательно и методично воспроизвел в своем раннем стихотворении под названием «Безымянная земля», опубликованном в 1927 году. После выхода в свет «Сэра Гавейна» Толкин и Гордон планировали совместными усилиями подготовить к изданию «Жемчужину». Однако в 1938 году Гордон безвременно скончался, и изданием занялась его вдова Ида Гордон: работа была завершена и опубликована в 1953 году. В предисловии к книге она поблагодарила Толкина за помощь; некоторые примечания, скорее всего, изначально были составлены им или по его подсказке. Но Толкин продолжил самостоятельно работать над «Жемчужиной». Его перевод, в котором соблюдена стихотворная форма оригинала, был опубликован спустя два года после его смерти, в 1975 году. Интересно, что поддерживало в нем такой неослабевающий интерес к этому произведению и как это связано с мифами и Лориэном?
Повествование в «Жемчужине» туманно и загадочно, но, по-видимому, это элегия, написанная отцом умершей во младенчестве девочки, которую, возможно, звали Маргарет, что значит «жемчужина». В начале он идет в «вертоград» в поисках оброненной там жемчужины и засыпает, положив голову на бугорок. Этот бугорок – могилка ребенка, а вертоград – кладбище. Во сне он попадает в странное место, где горе отступает, и видит свою жемчужину на другом берегу реки. Они беседуют, и та объясняет ему, что такое спасение, а в конце он бросается к ней через реку – и просыпается на кладбище, по-прежнему исполненный скорби, но уже скорби светлой.
Читатели понимают, что река, которую он не смог перейти во сне, – это река смерти. Но где он в таком случае находился? Что это за странное место, «безымянная земля» со сверкающими деревьями и сияющими камнями? Это не рай, потому что он на другой стороне реки, но и не Средиземье, потому что тут забывается горе. Здесь уже можно увидеть намеки на Лориэн и влияние средневековых легенд о земном рае, известных и Толкину, и автору «Жемчужины».
Но это не все, что взял Толкин из древней легенды. Подход к Лориэну на удивление сложен. Сначала Хранители, проходя через долину Черноречья, оказываются у устья Серебрянки, и Гимли сразу предупреждает всех о том, что пить из реки нельзя. Затем они доходят до Нимродэли, которая, по словам Леголаса, «исцеляет грусть и снимает усталость». Переходя через реку, Фродо ощущает, что «[пятнавшая его][82] усталость от долгого пути растворилась в ней и уплыла куда-то вниз по течению». Разумеется, это может означать буквально, что Фродо ощущает, как вода смывает с него грязь Мории, но слово stain (пятнать) выглядит в этом контексте довольно странно. Странно оно и с точки зрения этимологии: как указано в Оксфордском словаре, глагол to stain изначально происходит из французского языка, но на него повлияло скандинавское слово с похожим звучанием. В результате у него появилось устаревшее значение: не только «окрашивать» или «обесцвечивать», но и почти противоположное – «лишаться блеска». Это слово повторяется несколько страниц спустя, когда Фродо глядит на Курган Горестной Скорби, и в описании его впечатления от увиденного, по-видимому, раскрывается именно это последнее значение.
[Фродо] видел лишь знакомые ему цвета – белый, желтый, зеленый, синий, – но они были такими свежими и яркими, словно явились ему здесь впервые, а он, разглядев их, дал им названия. Тут нельзя было летом сожалеть о весне или мечтать зимою о лете. [Все, что росло в этом краю, было безупречно, чисто и совершенно. Земля Лориэна была незапятнанной (On the land of Lórien there was no stain)][83].
Много позже в песне о Лориэне Гэндальф употребляет то же слово: «Кветлориэн, о Двиморнед / Прозрачный мир, где тлена нет (unstained)». Получается, что при переходе через Нимродэль «пятно» обычной жизни смывается, и на том берегу жизнь обретает свое естественное сияние.
Но потом Хранители продолжают свой путь и переходят вторую реку, Серебрянку (из которой Гимли велел не пить). На этот раз они идут не вброд, а по веревочному мосту над водой. Хэлдир приводит совершенно житейскую и уважительную причину – «глубоко, течение быстрое, а вода холодная», – да и Сэм со своей боязнью высоты и сумбурной болтовней про дядюшку Энди не позволяет сразу углядеть здесь намек на аллегорию или какое-нибудь символическое значение. Однако автор все равно постоянно указывает на то, что реки, которые переходят Хранители, уводят их все дальше и дальше от этого мира. На том берегу Нимродэли они оказываются в подобии рая на земле – места, где сновидец из «Жемчужины» забыл даже о своей тоске по умершей дочери; Хранители тоже, судя по всему, забывают о Гэндальфе, пока Селербэрн не задает им прямой вопрос о нем.
Но куда они попадают, перейдя Серебрянку, через которую за ними не смог последовать Горлум? Возможно, они становятся словно мертвые. В конце главы «Кветлориэн» говорится о том, что Арагорн больше никогда не возвращался на Курган «в этой жизни». Значит ли это, что он возвращался туда после смерти? Навещал могилу своей жены Арвен? Или же Хранители попали в Англию – конечно, старую, настоящую, где, как в стихотворении Блейка, повсюду «зеленой Англии луга» и еще нет «темных фабрик сатаны»[84]? Хэлдир очень осторожно поясняет: «Вы вступили в Стэрру или, по-вашему, Сердце Лориэна». По-нашему, мы бы не назвали это ни Стэррой, ни Сердцем Лориэна, но, возвещая путникам, что они могут идти с открытыми глазами до самой Лесной Крепости, Хэлдир употребляет третье слово с похожим значением: «В углу (Angle) у слияния рек»[85]. От слова angle происходят названия «Англия» и «английский»; земля, где жили предки англичан, носила название Ангельн, или «уголок» между фьордом Фленсбург и рекой Шлей на территории нынешней Германии (кстати, хоббиты тоже поселились в «уголке» между реками Буйной и Бесноватой). Фродо чувствует, что «уходит из сегодняшнего мира», словно «шаткий мостик был перекинут через три эпохи». И, может быть, как и у сновидца из «Жемчужины», так оно и было.
Толкин полагал, что автор «Жемчужины» был родом из Ланкашира, но, думаю, ему приятно было бы узнать, что, по более поздним данным, его родиной был Стаффордшир[86]. Толкин не раз называл себя «уроженец Западного Мидленда» и писал в 1955 году в письме У. Х. Одену: «Ранний вариант западномидлендского среднеанглийского полюбился мне как язык уже знакомый, едва попавшись мне на глаза» (см. «Письма», № 163), а центр Западного Мидленда образован пятью графствами: Херефордширом, Шропширом, Вустерширом, Уорикширом и Стаффордширом. Подобно Шекспиру, который был выходцем из Уорикшира, стаффордширец, написавший «Жемчужину», соприкасался с подлинными традициями, с английской поэзией, с представлениями о потустороннем мире и трезвым пониманием мира реального – но, в отличие от Шекспира, не изменял этому наследию в поисках лучшей доли. Сновидец у него находится в состоянии неопределенности, словно на пороге, где он одновременно воспринимает физический, буквальный мир и осознает более глубокое символическое значение происходящего – на мой взгляд, именно этого ощущения мифической или магической вневременности и стремился периодически добиться Толкин.
По моему убеждению, на поэтический и мифологический аспекты работ Толкина повлиял еще один поэт – или его произведение. Как ни странно, это был протестант и противник монархии Джон Мильтон, автор пьесы-маски «Комос».
Для начала следует отметить, что в поэзии Толкина присутствуют эльфийские элементы. Само по себе это явление разбирается в статье Патрика Уинна и Карла Хостеттера, опубликованной в сборнике «„Легендариум“ Толкина», однако эльфийские мотивы есть и в поэзии Хоббитании – Толкин объясняет их присутствие общением Бильбо с эльфами и изучением старинных источников. Например, допев вторую «походную песню», хоббиты умолкают при виде преследующего их Черного Всадника, но тот ретируется, как только появляется группа эльфов. Они поют на квенья, более древнем из двух эльфийских языков, которые используются во «Властелине колец», и Фродо единственный, кто способен разобрать хоть что-то, прилагая сознательное усилие. «Но вслушиваться было и не надо: напев подсказывал слова». Затем в тексте приводится четыре строфы из песни, как их понял Фродо, – призыв к Элберет. В Раздоле та же песня встречается в виде семи строк на синдарине (языке эльфов, которые остались в Средиземье), но на этот раз без перевода: Фродо просто стоял и слушал, а «слова песни, сливаясь с музыкой, звучали как звонкое журчание родника». Как пояснил Бильбо, это была песня «про Элберет». Толкин довольно дерзко испытывает терпение читателей: он не переводит песню с синдарина и ни в одном из двух случаев не поясняет, что это за Элберет, о которой поют эльфы. Судя по всему, он был убежден в том, что читатели, как и спутники Фродо, смогут уловить смысл (или его часть) в самом звучании поэтических строк. В последней главе трилогии в ответ на вторую измененную версию второй походной песни в исполнении Фродо эльфы поют четыре строки на синдарине, которые хоббиты слышали в Раздоле, теперь уже с переводом:
Гилтониэль! О Элберет!
Сиянье в синем храме!
Мы помним твой предвечный свет
За дальними морями!
В то же время, оказавшись лицом к лицу с Шелоб в начале последней главы тома «Две твердыни», Сэм вспоминает и ту эльфийскую песню, что он слышал в Хоббитании, и ту, что пели в Раздоле, и тогда «ожил голос в его пересохшей гортани, и он воскликнул на незнакомом ему языке» – это уже третье воззвание к Элберет, на сей раз на синдарине и снова без перевода. Наконец, если сравнить все переводы (Толкин в итоге предоставил их в 1968 году, когда Дональд Суонн собирал тексты для своего песенного цикла «Дорога вдаль и вдаль идет» (The Road Goes Ever On)), можно увидеть, что все четыре стихотворения, посвященные Элберет, перекликаются с двумя песнями хоббитов, приведенными далее по тексту, – той, которую затягивает Фродо в Вековечном Лесу, чтобы подбодрить своих товарищей, и той, что поет Сэм в надежде отыскать Фродо в «Башне на перевале»: ее слова пришли «сами собой» и легли на уже знакомый ему «простенький мотив» – все как в первой походной песне хоббитов с ее (возможно) новыми словами и напевом «древнее здешних гор». Сэм и в самом деле просто мурлыкал «детские песенки Хоббитании» и «стихи господина Бильбо», так что, можно думать, его «Песня в оркской башне», как окрестили ее составители указателя, подобно другим хоббитанским произведениям, отчасти его собственная, отчасти заимствована у Бильбо и отчасти основана на традициях.
Между этими шестью стихотворными текстами (четырьмя эльфийскими песнями, песней Фродо в Запретном Лесу и песней Сэма в башне) есть нечто общее. Все они являются отражением мифа – мифа в двух смыслах: с одной стороны, древнего предания о полубожественных существах (таких как Элберет) – хотя для эльфов-долгожителей это, скорее, ностальгическое воспоминание, нежели просто традиционное верование; с другой – набора образов, иллюстрирующих мировоззрение, которое больше относится к хоббитам и читателям.
В образном ряду звезды противопоставляются деревьям: звезды дают обетование (а для эльфов – воспоминание) об ином мире; деревья олицетворяют собой этот мир и одновременно заслоняют звездный свет – сквозь переплетения их ветвей смертные пытаются разглядеть то, что иначе было бы ясно видно. Поэтому эльфы обращаются к Элберет «О свет надежды, что стремится / К нам, в мир [густых лесных чащоб][87]!» и поют: «Сиянье в синем храме! / Мы помним твой предвечный свет / За дальними морями!» В песне, которая звучит в Раздоле на синдарине, Элберет снова величают возжигательницей звезд, а поется она от лица того, кто смотрит на звезды «а галадреммин эннорас» (из поросшего лесами Средиземья). (Здесь опять произошла путаница. В сборнике «Дорога вдаль и вдаль идет» Толкин приводит между строк дословный перевод сначала песни на синдарине, которую пели в Раздоле, а затем – возгласа Сэма в логове Шелоб. А внизу страницы дан связный перевод обеих песен. Но по ошибке в последнем варианте пропущены слова «а галадреммин эннорас». В буквальном переводе с эльфийского «эннорас» означает middle-lands (Срединные земли), я заменил этот вариант на Middle-earth (Средиземье)[88].)
Сэм же взывает к Элберет «дингурутос» (объятый страхом смертным), и это, конечно, полностью соответствует его состоянию в тот момент – ведь он готовится сразиться с Шелоб. Но Средиземье – это мир смертных. Лесная чащоба тоже может внушать ужас. Вернувшись ненадолго к «Комосу», можно вспомнить, что именно так ее и описывает Мильтон: «Дикий лес, / Чей сумрак трепет в путника вселяет»[89].
Ужас перед чащей нашел отражение и в недопетой песне, которую затянул для бодрости Фродо в Вековечном Лесу. Она начинается словами «Смело идите по затененной земле», сулит, что в конце концов путникам удастся одолеть леса и увидеть солнце, и обрывается на фразе «Сгинут навек…», когда с дерева у них за спиной обрушивается огромный сук. Мерри замечает: «Видать, не понравилось им, что их суждено одолеть» – правда это или миф, а лучше подождать с песнями до опушки. Но Фродо, как водится в Хоббитании, имеет в виду не только непосредственные обстоятельства, в которых они оказались, но и нечто более общее и символическое: мир подобен лесу, в котором легко заблудиться и запутаться, как произошло с Арагорном и его спутниками в волшебном Лесу Фангорна; но когда-нибудь (и в данном контексте, возможно, это означает «после завершения жизни в Средиземье») все прояснится, и закончится и «дикий лес, / Чей сумрак трепет в путника вселяет» (как у Мильтона), и «нгурутос», «смертный страх» (как у Сэма).
В песне Сэма, которую он поет в Кирит-Унголе, та же мысль раскрывается с другой стороны. Судя по всему, повествование ведется от лица пленника, который, как Фродо, может воскликнуть: «А здесь темно, и ни души» – но все же, как эльфы и хоббиты в лесу, помнит: «Но выше сумрачных вершин / Сияющая твердь». Песня Сэма заканчивается такими словами: «Наш день еще не миновал, / И звезды не ушли»[90]. В этих двух последних строках можно отметить несколько моментов. Разумеется, они связаны с текущей ситуацией и призваны помочь сидящему в темнице Фродо не терять надежды. В песне также содержится напоминание об эльфийском мифе о звездах. Наконец, эти строки повторяют, но с обратным смыслом, знаменитую цитату из шекспировской трагедии «Антоний и Клеопатра», которую произносит прислужница, обращаясь к Клеопатре: «День наш миновал. / Смеркается» (Our bright day is done, / And we are for the dark). Но принадлежит ли фраза «День наш миновал» перу Шекспира? Конечно, нет. Наверняка она «древнее здешних гор», как и противопоставление, выраженное аллитерацией day – dark (на древнеанглийском: dæg – deorc), и их свободно может использовать любой настоящий поэт, пишущий на английском языке, в любую эпоху.
Аналогичным образом, весь толкиновский миф о звездах и деревьях присутствует в зародыше в «Комосе» Мильтона. В этой пьесе рассказывается о девушке, которая заблудилась в темном лесу и попала в плен к злому чародею. Он усадил ее в заколдованное кресло, но больше ничего сделать с ней не смог: девушку оберегала ее чистота. На выручку к ней подоспели ее братья, которым помогли речная нимфа (прообраз жены Тома Бомбадила Золотинки) и целебное растение. Но до встречи с духом-хранителем братья начинают проявлять признаки отчаяния. Старший брат молит о лунном свете – или любом другом свете, способном воссиять «в ночи, усугубленной вечной тенью», где они бродят. А младший добавляет, мол, если уж света им не дано, то хоть бы услышать какой-нибудь звук из-за пределов леса, чтобы напомнить им о том, что снаружи остался целый мир:
Нам даже это будет утешеньем
В темнице из бесчисленных ветвей.
В образе «темницы из бесчисленных ветвей» соединились и эльфийское «галадреммин эннорас» (поросшее лесами Средиземье), и заблудившиеся в лесу хоббиты, и заключенный в оркскую башню Фродо. Как я уже говорил, не думаю, чтобы Толкин так уж любил Мильтона с его чисто протестантской эпической поэмой «Потерянный рай» и революционными политическими воззрениями, но он признавал в нем, как и в Шекспире, поэта, способного создавать настоящую поэзию. И хоть сам Мильтон не был уроженцем Западного Мидленда, «Комос» он написал для своего покровителя родом из Ладлоу в Шропшире – одном из основных графств Западного Мидленда, и его первое представление состоялось там же, так что в пьесе по крайней мере отчасти ощущается атмосфера этой местности.
Завершая тему взаимосвязей, отметим, что в «Жемчужине» есть загадочная строка, в которой автор сообщает, что драгоценные камни, лежащие на дне реки в удивительной стране, сверкают так же ярко, «As stremande sterneȝ quen stroÞe-men slepe» («как лучистые звезды, пока спят stroth-men»[91]). Но кто такие эти stroth-men? В издании, подготовленном Идой Гордон, содержится ряд пояснений (на мой взгляд, некоторые из них изначально были предложены Толкином): во-первых, древнеанглийское *stroð переводится как «топкая местность, заросшая кустарником», а во-вторых, слово stroth-men в целом, по-видимому, означает «люди этого мира», не знающие ничего о мире вышнем, а также передает «образ темной, низкой земли, на которую сверху смотрят звезды».
Получается, что автор «Жемчужины», происходивший из Стаффордшира, представлял обитателей мира смертных, то есть Средиземья, как людей, которые спят в лесу и не обращают внимания на звезды над головой. Мильтон, написавший поэму для выходца из Шропшира, создал нечто близкое к аллегорическому изображению жизни как пути сквозь чащобу ради спасения души, оказавшейся в опасности. Уорикширец Шекспир, который разбирался в подлинной традиции гораздо лучше, чем хотел показать, в пьесе «Сон в летнюю ночь» описал заколдованный лес. Толкин, отыскавший корни своей семьи в Вустершире, наверняка считал, что лишь озвучивает – или раскрывает – миф, который долгое время присутствовал в поэтической традиции Марка в латентном состоянии. Сам он лишь переложил эту историю на простые стихи Хоббитании и одновременно ввел ее в более сложный эльфийский фольклор, лежащий в основе этих стихов, подобно тому, как утраченное наследие произведений вроде «Жемчужины» в значительной мере составляет фундамент более поздней английской поэзии, хотя это мало кто замечает.
Однако главное в пересказе этого мифа то, что он всегда напрямую соотносится с событиями, разворачивающимися в данный момент во «Властелине колец», и при этом имеет общую и даже, можно сказать, универсальную применимость за пределами сюжета. Толкиновский миф о звездах и деревьях представляет жизнь как хаос, в котором легко заблудиться и забыть о существовании целого мира за пределами нашей собственной ситуации. Это не противоречит христианским убеждениям, но, пожалуй, еще больше отзывается у тех, кто не знает о Божественном Откровении, как обитатели Средиземья, или по большей части забыл о нем, как жители современной Англии эпохи Толкина и тем паче нашего времени.