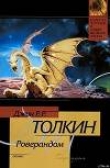Текст книги "Дж. Р. Р. Толкин: автор века. Филологическое путешествие в Средиземье"
Автор книги: Том Шиппи
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 28 страниц)
«Судьба (Wyrd) от смерти того спасает, кто сам бесстрашен!» – утверждает Беовульф. Гимли говорит Пину: «Тебе повезло, – но тут же добавляет: – А уж свою удачу ты из рук не выпустил». В тот раз хоббитам действительно что-то помогло, ведь когда Грышнак обнажил ятаган, чтобы зарубить их насмерть, ему в руку вонзилась стрела: «то ли пущена она была очень метко, то ли судьба ее подправила». Так что же это было?
Как и в случае с парадоксами взаимосвязей, логика удачи (или случая, или судьбы, или фортуны, или случайности, или даже wyrd) для Толкина, по-видимому, заключается в следующем: нам не дано знать, как повернутся события, и в любом случае никогда не стоит опускать руки – ни в отчаянии, ни в пассивном уповании на вмешательство каких-то внешних сил. Если внешние силы (валары) и существуют, им приходится действовать через людей или других своих представителей на земле, и когда те отступаются от задуманного, то и все действия внешней силы оказываются напрасными. Как говорит Галадриэль, для некоторых из событий, которые открывает ее зеркало, время «никогда не настанет». Можно также вспомнить, как некая сила наслала вещий сон, благодаря которому Боромир оказался в Раздоле; при этом первым этот сон увидел Фарамир, он видел его чаще, и именно он «вбил себе в голову», что этому предостережению следует внять, однако в путь отправился его брат. Боромир утверждает, что занял его место, поскольку «дорога на север трудна и опасна», но у нас есть основания не доверять его словам. Наверное, всем было бы лучше, если бы Фарамиру было позволено последовать совету валаров. Но люди могут помешать осуществлению намерений Провидения, а следование им (при условии, что их удается распознать) вовсе не гарантирует успеха или безопасности. Максимум, что можно сказать: иногда события складываются удачнее, чем можно ожидать, как это было в случае с Горлумом в Саммат-Науре, однако при этом надо быть бесстрашным (как говорит Беовульф), не выпускать удачу из рук (как говорит Гимли), следовать совету «не торопись никого осуждать на смерть» и в целом сознательно не причинять вреда ради повышения своих шансов на успех – это может обернуться против тебя (как говорит Гэндальф). Необъективность можно усмотреть только в последнем заявлении, но тут уж ни одному простому смертному не дано знать, так ли это.
Положительные силы: мужество
Толкину, мягко говоря, не везло с критиками. Его обвиняли в подтасовке сюжета (на это возражение я постарался ответить выше), в несоблюдении им же самим установленных правил по поводу Кольца (это я попытался объяснить с помощью слова «зависимость»), в отсутствии границы между «добрыми» и «злыми» героями – тут уж за Толкина вступился У. Х. Оден со своей сокрушительной логикой. В 1955 году, а потом еще раз в 1961-м он отметил колоссальную разницу между героями и антигероями: положительные персонажи, всякие там Гэндальфы и Галадриэли, способны вообразить свое превращение в злодеев, тогда как главная слабость Саурона – даже на тактическом уровне – состоит в том, что он не может себе представить, чтобы кто-нибудь вздумал навсегда уничтожить Кольцо, разрушив тем самым себя самого. Пытаясь добиться своего не мытьем, так катаньем, некоторые стали жаловаться, мол, положительные герои какие-то уж слишком положительные – никаких тебе обычных человеческих слабостей и грешков, – совершенно упустив из виду последовательно раскрываемую концепцию превращения в призрака.
Особенно сильное раздражение вызвали у Толкина отзывы Эдвина Мьюира, опубликованные в газете «Обсервер» (см. «Письма», № 177). Мьюир сделал обзоры каждого из томов «Властелина колец» по мере их выхода в свет, и его работы были напечатаны в «Обсервере» 22 августа 1954 года, 21 ноября 1954 года и 27 ноября 1955 года. Яростнее всего он раскритиковал первый и третий тома (онты ему понравились). Замечание Мьюира по поводу третьего тома, которое так разозлило Толкина, состояло в том, что все произведение выглядит недостаточно зрелым, поскольку в нем слишком мало боли: «Хорошие парни поучаствовали в смертельной схватке и вышли из нее здоровыми и счастливыми триумфаторами, как и положено хорошим парням».
Ответ на это прост. По крайней мере Фродо нельзя назвать здоровым или счастливым: он избегает любых намеков на триумф и, по-видимому, навеки искалечен – и физически, и морально. Да, его забирают с собой эльфы, чтобы излечить от ран, как короля Артура, хотя это все равно не то же самое, о чем пишет Мьюир. Однако есть и другие люди, существа и предметы, которые нельзя забрать с собой или исцелить. На самом деле, гораздо проще увидеть в книге Толкина пессимизм, нежели глупый или ребяческий оптимизм – это еще одно качество, отличающее его от большинства подражателей.
Очевидно, что многие, если не большинство «старших» персонажей «Властелина колец» в долговременной перспективе ждут поражения. Галадриэль говорит: «И с тех пор обреченно, без надежды на победу, однако не отступая, [мы] сдерживаем Зло». Ей вторит Элронд: «Я свидетель всех трех эпох Средиземья и участник бесчисленных битв с Врагом, кончавшихся страшными для нас поражениями или поразительно бесплодными победами». Позднее он сам оспаривает свой эпитет «бесплодные», но повторяет, что давняя победа, когда Саурон был сломлен, но ушел живым, была «неполной». Кажется, что вся история Средиземья показывает: то, что добру достается дорогой ценой, зло получает почти даром – стоит только захотеть. Тонгородрим пал, и эльфы думали, что «разделались с врагом», но они ошибались. Нуменор затонул, так и не сумев избавиться от Саурона. Саурон побежден, и его Кольцо попадает в руки Исилдура, но это лишь становится толчком к началу катастрофы на исходе Третьей эпохи. Кроме того, автор совершенно ясно (можно даже сказать, недвусмысленно) дает понять, что даже уничтожение Кольца и низвержение Саурона тоже будут в каком-то смысле «бесплодными» – точнее, плоды их будут горьки. По словам Галадриэли, уничтожение Кольца означает, что свою силу утратят и другие три кольца, принадлежащие ей самой, Гэндальфу и Элронду, так что Кветлориэн «увянет», а эльфы станут «смертными». Вместе с ними уйдут и онты, и гномы, да и все Средиземье, а на смену им придет современная эпоха владычества людей; от всех его обитателей и рассказов о них только и останется, что непонятные слова, тут и там встречающиеся в стихах, да списки имен, значение которых забылось (такие как список гномов «Dvergatal»), да пересечения, заметные лишь глазу филолога.
И первой жертвой падет красота. В главе «Дорога на Изенгард» (глава 8 книги III) Теоден печалится: «Ведь даже если мы победим, все равно много дивного и прекрасного исчезнет, наверное, из жизни Средиземья». Гэндальф отвечает лишь: «Лиходейство Саурона с корнем выкорчевать не удастся, и след его неизгладим». Древень подтверждает опасения Теодена примерно так же, как и Гэндальф, говоря о своем обреченном на вымирание роде: «Песни – они ведь как деревья: плодоносят по-своему и в свою пору, а случается, что и безвременно засыхают» (глава 4 книги III). Общее мнение обитателей Средиземья можно выразить афористичным заявлением Гэндальфа: «Я – Гэндальф, Гэндальф Белый, но черные силы ныне превозмогают» (глава 5 книги III).
Это зловеще отдает манихейством и «пораженчеством». Однако, как уже говорилось, Толкин несколько раз озвучивал разные возражения против манихейской точки зрения. А с учетом того, что его лучшие друзья погибли во Фландрии, он, скорее всего, не потерпел бы и пораженчества в его изначальном смысле – как синонима французского слова défaitisme, которое вошло в употребление в 1918 году для обозначения усталости союзников от войны, ощущения (особенно распространенного среди гражданских лиц), что надо забыть об уже принесенных жертвах ради мира – пусть даже не окончательного. Откуда же в его произведении такой постоянный пессимизм и ожидание поражения?
Одна из причин наверняка состоит в том, что Толкин хотел в некотором роде заново познакомить мир с «концепцией мужества». Обратите внимание: не просто с мужеством или его образами, но с «концепцией мужества», которая, как он сказал в своей лекции о «Беовульфе» в 1936 году, представляет собой «важнейшее наследие» древней литературы Севера. Толкин имел в виду следующее. В древнескандинавских источниках есть миф (по убеждению Толкина, ранее он существовал и в древнеанглийской мифологии), очень похожий на традиционное христианское представление о конце света – Судном дне, когда силы добра и зла наконец сходятся в последней битве. Разница между ними состоит в том, что в скандинавской версии побеждают силы зла – великаны и чудовища, – поэтому конец света там называется Рагнарёк, «сумерки богов». Но если боги и их союзники из числа людей все равно потерпят поражение, и это всем известно, то чего ради вообще принимать эту сторону? Почему тогда не уподобиться чудовищам и не стать, так сказать, сатанистом? Подлинно мужественный ответ – в своей лекции о «Беовульфе» Толкин назвал его «действенное, но ужасное решение» – состоит в том, что победа и поражение никак не связаны с правильными и неправильными поступками и что, даже если миром правят враждебные, злые силы, от которых нет спасения, это не повод для героя переметнуться на другую сторону. В каком-то смысле северная мифология требует от людей больше, чем христианство, поскольку она не предлагает им никакого царства небесного, никакого спасения, никакой награды за добродетель, кроме мрачного удовлетворения своим правильным поступком. Даже небесные чертоги Вальхаллы – это всего лишь зал ожидания и тренировочный полигон для подготовки к окончательному поражению. Толкин хотел, чтобы его герои из «Властелина колец» соответствовали этой высокой планке, и постарался лишить их беззаботных надежд и убедить в том, что в перспективе их ждет лишь поражение и гибель.
Однако Толкин сам был христианином и не верил в то, что мир подчинен силам зла без шансов на спасение. Кроме того, он жил в мире, где «действенное, но ужасное решение» и «концепция мужества» были утрачены почти безвозвратно и даже перестали поддаваться пониманию (попробуйте-ка, например, вписать их в сюжет «Звездных войн»!). Поэтому в научной работе его больше волновал вопрос преемственности в древнеанглийских поэмах при переходе от язычества к христианству – так, в 1953 году он переписал поэму «Битва при Мэлдоне» под названием «Возвращение Беорхтнота, сына Беорхтхельма» (см. ниже стр. 451–454). В творческой же работе ему нужен был новый образ истинной отваги, который мог бы иметь хоть какой-то смысл и давать хоть какую-то надежду на подражание ему в современном негероическом или даже антигероическом мире. С этой задачей он уже сталкивался ранее (см. первую главу и рассуждения о модернистском понятии отваги на примере Бильбо в отличие от традиционного образа героя, воплощенного в лице Беорна или Торина).
Во «Властелине колец» он снова решил эту задачу при помощи хоббитов, развивая концепцию хладнокровного и неагрессивного мужества наедине с собой, которое в «Хоббите» продемонстрировал Бильбо. Но на этот раз хоббиты уже не одиноки, они обычно ходят парами, и образ мужества у них уже носит некие социальные черты: как ни странно, он выстроен вокруг смеха и веселости; хоббиты не только не оценивают свои шансы уцелеть в Судный день, но и вообще не стремятся заглянуть в будущее. Иногда в связи с этим возникает намеренно парадоксальная ситуация.
Никто из четырех хоббитов, ставших героями трилогии, не питает боевых амбиций даже в самые драматичные моменты. Когда в Мерри просыпается наконец «медлительная отвага» его племени, он бьет назгула мечом, но сзади. Пину выпадает прикончить горного тролля, похоже, лишь для того, чтобы дать ему «сравняться» с Мерри. Однако складывается впечатление, что отчаяние и упадок духа – главное оружие Черных Всадников – терзают их не так сильно, как их старших товарищей: то ли хоббиты не столь чувствительны, то ли им просто не свойственно предаваться размышлениям и попыткам предугадать будущее. Когда в Минас-Тирите впервые слышится вопль Кольценосца, именно Пин ободряет Берегонда и заявляет, глядя на сияющее солнце и на стяги, которые полощутся на ветру: «Я еще все-таки не отчаялся». На Мерри же возложена обязанность «тешить сердце [Теодена] своими рассказами». Он ощущает «мучительный страх и сомнение», охватившие и его, и ристанийцев в конце главы «Поход мустангримцев», но тоже первым замечает перемену. Отчасти причина, вероятно, состоит в их (чисто английском) легкомыслии. Они постоянно перешучиваются друг с другом и с Теоденом – тот, тоже будучи англичанином, легко подхватывает их настрой. Мерри извиняется за эту привычку в главе «Палаты Врачеванья»: «Но, понимаешь, наш брат хоббит, коли дело серьезное, нарочно мелет вздор». Однако, когда Пин, придавленный к земле убитым им троллем, успевает подумать о том, что все кончено,
мысль эта, как ни странно, была веселая: конец, значит, страхам, терзаньям и горестям.
Пин полагает, что ему пришел конец и что они потерпели полное поражение, но в этот последний миг ему поднимает настроение мысль о том, что он все-таки был прав: «Ну вот, все и кончилось [так, как я и думал][66]». Сэм и Фродо после уничтожения Кольца ведут себя примерно так же. Они тоже убеждены, что погибли и что именно этого и следовало ожидать. Фродо серьезно говорит о том, что сказка закончилась и что у нее не обязательно должен быть счастливый конец:
«Так оно и бывает. Всем надеждам приходит конец, и нам вместе с ними. <…> Где уж нам уцелеть в этом страшном крушенье».
Разумеется, в итоге он оказывается неправ, но нельзя отрицать, что, как правило, бывает именно так, как он говорит. Однако Сэм лишь отмечает: «Неплохая была сказка» – и рассуждает о том, как она в итоге будет называться. Он в любом случае уже пришел к этому парадоксу в главе 3 книги IV. Как поясняет Толкин,
он и с самого начала ничего хорошего от этой затеи не ждал, но он был не из нытиков и считал, что коли уж не на что надеяться, то и огорчаться загодя незачем. Теперь дело к концу, ну и что с того; он при хозяине, хозяин при нем; вон сколько вместе протопали – зря, что ли, он за ним увязался?
Возникает вопрос: можно ли вообще быть «веселым» и при этом не иметь никакой надежды? В современной культуре оптимизма – нет, нельзя («Ya gotta have hope» («Надо надеяться!»), – поется в известном американском мюзикле). Но семья Скромби смотрит на это скептически. «Пока живешь, надеешься, – повторяет Жихарь избитую истину, обычно дополняя ее куда менее возвышенной присказкой: – и хочешь кушать». Сэм в каком-то смысле воплощает современную версию «концепции мужества»: он готов исполнить свой долг даже без взятки в виде гарантированной победы в последней битве, когда придет Рагнарёк. Может быть, все дело в том, что, когда исчезает всякая надежда, отчаиваются только те, кто не способен без нее жить. Те же, кто, как Сэм и Пин, с самого начала ждут катастрофы, не горюют, когда их ожидания оправдываются, и даже веселятся. Толкин знал, что в скандинавской мифологии Вон (Надежда) – это не одна из трех основных добродетелей, а презренная слюна, которая бежит из пасти волка Фенрира. Он также знал, что слово cheerfulness (веселость) по своему происхождению означает как минимум добродетель, свойственную только лишь лицу (от древнефранкского chair – лицо). Когда сэр Гавейн отправляется на верную смерть, поэт отмечает:
Но Гавейн оставался весел (made good cheer
[= put a good face on it, сохранял лицо])
И сказал: «От судьбы нипочем
Нельзя шарахаться, голову повесив,
Что бы нас ни ждало потом!»
Этого современная культура тоже не приемлет, однако существует старая, но не утратившая своей актуальности присказка о том, что лицо важнее сердца, потому что его можно – и дóлжно – сознательно контролировать.
Но самый характерный эпизод, иллюстрирующий новую толкиновскую концепцию мужества, приведен в конце главы 8 книги IV, «Близ Кирит-Унгола». Сэм и Фродо садятся перекусить – как они считают, последний раз в жизни – и заводят разговор о сказках. Фродо убежден: великим сказаниям никогда не приходит конец, но чтобы это не звучало слишком оптимистично, он добавляет, что к их героям это не относится. Сэм развивает тему сказок с продолжением и со смешной напыщенностью и пренебрежением к правилам грамматики выдвигает предположение о том, что однажды какой-нибудь отец скажет своему сыну, мол, Фродо был «[наиболее известнейшим][67] из хоббитов, а это немало значит» (на самом деле, как мы знаем, значит это не так уж и много). В ответ Фродо смеется.
С тех пор как Саурон явился в Средиземье, здесь такого не слыхивали. И Сэму показалось, будто слушают все камни и все высокие скалы. Но Фродо было не до них: он рассмеялся еще раз.
– Ну Сэм, – сказал он, – развеселил ты меня так, точно я эту историю сам прочел. Но что же ты ни словом не обмолвился про чуть не самого главного героя, про Сэммиума Неустрашимого? «Пап, я хочу еще про Сэма. Пап, а почему он так мало разговаривает? Я хочу, чтоб еще разговаривал, он смешно говорит!»
Они продолжают беседу, а потом засыпают. Так их и застает Горлум: умиротворенные лица хоббитов задевают в нем какую-то струну, он подползает ближе, касаясь колена Фродо, и в эту минуту снова предстает не Горлумом, а Смеагорлом, «старым-престарым хоббитом, который заждался смерти… измученным, жалким, несчастным старцем».
И здесь проявляется своеобразная жестокость этой истории, не замеченная Эдвином Мьюиром: Сэм тут же разрушил мимолетное ощущение. Проснувшись, он увидел, как Горлум «„тянул лапы к хозяину“: так ему показалось», сурово его окликнул (Горлум на этот раз ответил ему «тихо»), а потом выдвинул обвинение: «Чего мухлюешь, старый злыдень?» В ответ «Горлум отпрянул… <…> Невозвратный миг прошел, словно его и не было».
Надо понимать, что среди незаметных жертв битвы за Средиземье был и старый хоббит Смеагорл, и существо, в которое он превратился, – Горлум. Большинство персонажей и в самом деле несут тяжкое бремя сожалений. Намеренно парадоксальным образом представлено оно и в образе Древня, который знает, что его род и история не будут иметь продолжения, однако вид у него при этом, по мнению Пина, «печальный, но отнюдь не несчастный» (глава 4 книги III). Можно ли одновременно быть «печальным» и «отнюдь не несчастным»? Современные значения этих понятий указывают на то, что это невозможно, однако Толкин часто не обращает на них никакого внимания. Печальное счастье Древня (как отмечает К. С. Льюис в своей работе «Исследование слов» (Studies on Words), древнее значение слова sad (печальный) – «устоявшийся, определенный») и безнадежная веселость Сэма (как у сэра Гавейна) создают образ мужества, главная черта которого состоит в том, что оно сохраняется даже при полнейшем неверии в удачу.
Некоторые выводы
Еще один пример не замеченной многими жестокости в книге «Властелин колец» – забвение, в которое погружается Фродо в последних ее главах. Где-то он, вероятно, и пользуется большим уважением, но в Хоббитании, как «не без грусти замечал» Сэм, его не очень-то и чтут. Его стремление к миру и отсутствие агрессии не дают ему принять участия в заключительной «битве у Приречья» – его вмешательство ограничивается лишь защитой пленных.
Его имя не значится в верхней части Великого Списка, который заучивают наизусть летописцы Хоббитании, и его семья, в отличие от Кроттонов, Скромби и Очарованов, ничего от этого не приобрела. У него и семьи-то нет: его история, как и история Древня, не будет иметь продолжения, и что бы там ни воображал себе Сэм, в самой Хоббитании он никогда не станет «наиболее известнейшим из хоббитов». Полученные им раны, по-видимому, не поддаются исцелению – по крайней мере, в этом мире. И на одной из последних страниц книги он повторяет то, что и он сам, и другие говорили на протяжении всей книги: так и должно быть.
«Так часто бывает, когда нужно что-то спасти: кто-то должен отказаться от него, потерять для себя, чтобы сохранить для других».
Такое неуважение и невнимание к лучшему из «хороших парней» идет вразрез не только с отзывом Эдвина Мьюира, но и со всей системой памятников павшим героям, минуты молчания, фондов помощи ветеранам и празднования Дня победы, так хорошо знакомых Толкину и всем, кто жил в Британии после Первой мировой войны. По крайней мере, так кажется на первый взгляд. А на самом деле слова Фродо очень напоминают надпись на стеле, установленной на Импхал-Кохимском военном кладбище, о котором сейчас мало кто помнит, да и надпись цитируют с искажениями. Она гласит (явно перекликаясь с эпитафией Симонида на гибель спартанцев в Фермопилах, о которой рассказывается в сборнике Голдинга «Горячие врата»):
When you go home tell them of us and say
For your tomorrow we gave our today.
(Просим вас, чтоб, воротясь домой,
Вы родным и близким рассказали,
Как за ваше будущее мы настоящее свое отдали.)
Как некоторые из вышеупомянутых известных писателей, творивших в жанре фэнтези, Толкин пережил войну, и наряду с твердой верой в (некое) Провидение в его книгах сквозит разочарование ветерана, вернувшегося домой.
Но обратим свой взор от этого намека на высокие материи к вещам почти нелепым. Как я отмечал ранее, между литературными критиками разгорелась нешуточная борьба за звание автора самого необдуманного комментария в адрес Толкина. Среди претендентов на победу можно назвать профессора Марка Робертса из Кильского университета: в своей статье о «Властелине колец», опубликованной в журнале «Критические эссе» (Essays in Criticism) за 1956 год, он написал:
Книга не основана на понимании реальности, которое невозможно отрицать, не опирается на некое стратегическое мировоззрение, которое одновременно составляло бы ее смысл.
Разумеется, в нашем постмодернистском мире трудно придумать хоть какое-нибудь «понимание реальности», которое никто бы не смог отрицать, однако профессор Робертс писал в более простую для критиков эпоху. На самом деле он, очевидно, пытался поставить на Толкине крест исходя из формулировок и взглядов самого авторитетного на тот момент критика – Ф. Р. Ливиса. «Властелин колец», как и многие современные произведения в жанре фэнтези, и в самом деле никак не вписывается в аккуратный перечень романов, приведенный в работе Ливиса «Великая традиция» (The Great Tradition). Однако когда Робертс утверждает, что в книге Толкина отсутствует «стратегическое мировоззрение, которое одновременно составляло бы ее смысл», то просто диву даешься его слепоте. Как я попытался показать в этой и предыдущей главах, во «Властелине колец» почти на каждом из уровней все сходится – нравится это кому-то или нет.
Разумеется, хитросплетения сюжета порождают парадоксы (и антипарадоксы) для читателей, а для героев – неопределенность и «ошеломление». Такая неопределенность в отношении себя и других отражается и в двойственном характере Кольца (оно отчасти усиливает движения души, а отчасти само обладает злой волей) и основного источника зла – то ли внутреннего, то ли внешнего. Я уже говорил, что «стратегическое мировоззрение» в этом произведении на самом деле тоже двойственно и сочетает в себе черты боэцианства и манихейства и что обе эти концепции периодически бывают представлены с равным весом, будь то в Могильных Топях (манихейство, но, возможно, лишь кажущееся) или на Кормалленском поле (боэцианство, но мимолетное).
Пробираясь через эту постоянную неопределенность, персонажи книги руководствуются проработанной теорией «случая» или «удачи», которая представляется прекрасно знакомой, даже бытовой, но при этом весьма последовательной с филологической и философской точки зрения, и концепцией мужества, имеющей столь же древние корни, но при этом не чуждой и современности (как говорил сам Толкин), поскольку рассказы о ней встречаются в самых разных воспоминаниях о Первой мировой войне. Вполне возможно, что кому-то мировоззрение Толкина не близко (хотя на меня и многих других людей, не исповедующих христианство столь же ревностно, как он сам, его взгляды произвели неизгладимое впечатление). Однако в неспособности увидеть в его произведении хоть какое-то мировоззрение видятся некое упрямство и протест, порожденный усталостью.
Вне всякого сомнения, профессор Робертс имел в виду, что Толкин не разделял его мнение, которое характерно для его эпохи и социального класса, и что особенно серьезные разногласия между ними касаются вопроса о природе и источнике зла, который, на мой взгляд, составляет главную тему «Властелина колец» и многих других современных произведений в жанре фэнтези. Стоит задуматься над тем, какие взгляды излагались Толкину и другим ветеранам войны официальными рупорами современной ему культуры, скажем, в 1920–1930-х годах. В начале ХХ века в массовое сознание стало проникать учение Фрейда, о чем свидетельствует тот факт, что в Оксфордский словарь английского языка с опозданием и большой неохотой были внесены такие слова, как «вытеснение», «комплекс», «бессознательное», «психологическая травма». Против объяснения поступков людей действием «бессознательного», в частности, возражал Льюис (вероятно, при поддержке остальных членов клуба «Инклинги»), поскольку оно, по его мнению, приводило к размыванию ответственности и чувства личной вины.
Была еще точка зрения писателей, публиковавшихся в крупных издательствах вроде «Блумсбери», таких как Вирджиния Вулф, Э. М. Форстер, Бертран Рассел и, главное, Дж. Э. Мур, чья работа «Принципы этики» была названа самым значимым философским произведением века. Собрать воедино взгляды всех этих писателей было бы непросто, но с уверенностью можно сказать, что в «Принципах этики» нет ничего, что хоть отдаленно было бы связано с актуальными проявлениями зла в ХХ веке – войной, превратившейся в отрасль промышленности, ковровыми бомбардировками, применением химического, биологического и ядерного оружия, геноцидом и массовыми убийствами мирных граждан. Между тем Толкин и другие ветераны столкнулись с некоторыми из этих бед на личном опыте. Воззрения крупных писателей по поводу пороков и добродетелей носят преимущественно частный характер; как и у Фрейда, они касаются прежде всего отношений между людьми.
Помимо двух этих точек зрения в литературе существуют также традиционные трактовки и образы зла – они занимают еще более выдающееся место. Удивительно, насколько часто Толкина критиковали за то, что он не обращался к этим представлениям, тогда как его собратья по перу (среди которых часто – по понятным причинам – встречались большие любители и знатоки Средневековья) изучили их и отвергли как непригодные в нынешних условиях – «теперь и этого мало», как сказал персонаж Воннегута о Достоевском.
Почему Толкин не мог пойти по стопам сэра Томаса Мэлори и сделать своих персонажей похожими на Ланселота и Гвиневеру, которые «сталкивались с искушениями, иногда нарушали свои обеты» и на радость читателям питали друг к другу запретную страсть? – вопрошает Мьюир в своем третьем обзоре «Властелина колец», напечатанном в «Обсервере». Но Т. Х. Уайт уже рассмотрел эту модель и одновременно с Толкином переработал ее в книгу «Король былого и грядущего». Главной темой произведений Мэлори он считал не порочную любовную страсть, а страсть человека к убийству. Ядовитая змея, которая якобы стала причиной последней битвы, закончившейся катастрофой, у Уайта превращается из гадюки в безобидного ужа, а взмах меча, натравивший друг на друга две армии, – из естественной самозащиты в естественную жажду крови. Тем самым выстраивается цепочка от жестокого обращения с животными до мировых войн и Холокоста. Для того чтобы отразить новое понимание зла, концепцию Мэлори приходится переписывать.
Или вот в первом из своих обзоров Мьюир задался вопросом: почему Толкин не мог сделать отрицательных персонажей более похожими на Сатану из «Потерянного рая» – фигуру одновременно «ужасную и трагическую»? Однако эту модель уже рассмотрел К. С. Льюис, по сути переписавший «Потерянный рай» в 1943 году под названием «Переландра». Свое мнение он выразил предельно ясно: в образе зла нет ничего великого, достойного или трагического – зло уныло, убого и омерзительно, оно проявляется в мелких увечьях, вызывающих отвращение даже у такого человека, как его герой Рэнсом, который (как и Толкин) «побывал на фронте»[68]. Другие писатели, в том числе Воннегут и Хеллер, потратили почти двадцать лет, пытаясь выработать литературный жанр, способный вместить пережитый ими опыт столкновения с безумием, абсурдом, безволием. «Великая традиция» английских романов ничем тут помочь не могла.
Как я уже писал в начале главы, при всем своем очаровании старины и древней мудрости «Властелин колец» остается подлинным произведением ХХ века. Прежде всего, в нем показаны трудности, которые создал этот век для традиционного понимания добра и зла, но в то же время автор пытается утвердить неизменность такого понимания. Арагорн говорит Эомеру:
«Добро и зло местами не менялись: что прежде, то и теперь, что у эльфов и гномов, то и у людей. Нужно только одно отличать от другого».
Но точно так же можно посочувствовать и Эомеру, которого гложет неопределенность и вопрос: «Как в такие дни поступать и не отступаться?».
В следующей главе мы поговорим о современности «Властелина колец», которая заставила некоторых заподозрить в этом произведении политическую аллегорию, а также о тяготении к вневременной мифологии, которое, на мой взгляд, делает эту книгу актуальной и сегодня.
Глава IV. «Властелин колец»: мифический подтекст
Аллегория и применимость
В предисловии ко второму изданию «Властелина колец» Толкин написал: «Я страшно не люблю аллегории во всех их проявлениях, и сколько я себя помню, всегда относился к ним так»[69]. Как и в случае с отрицанием взаимосвязи между кроликами и хоббитами (см. первую главу), факты говорят скорее против Толкина. Он и сам прекрасно умел применять аллегорию и не раз пользовался этим приемом в своих научных работах – как правило, с поразительным результатом.
Например, в своей лекции 1936 года о «Беовульфе» Толкин предложил аудитории, собравшейся в Британской академии, «еще одну аллегорию» (она была уже не первой в этой лекции) о человеке, который построил башню. Камни для нее он брал из развалин, «нагромождения старых камней», часть которых использовалась также для постройки дома, где жил этот человек, «недалеко от древнего дома его предков» (то есть тех самых развалин). Но пришли его друзья и сразу заметили, что башня сделана из более древних камней. Ценой немалых трудов они снесли башню, чтобы изучить эти камни, посмотреть, нет ли на них резьбы, поискать месторождение угля и так далее. Потом некоторые из них стали жаловаться на то, в каком ужасном состоянии находится башня, а потомки человека ворчали, что ему следовало бы заниматься не постройкой башни, а восстановлением развалин. «А с вершины той башни человеку было видно море».