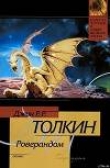Текст книги "Дж. Р. Р. Толкин: автор века. Филологическое путешествие в Средиземье"
Автор книги: Том Шиппи
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 28 страниц)
Должен сказать, если кто-нибудь, пройдя через эти годы [Второй мировой войны], не понял, что человек вырабатывает зло подобно тому, как пчела дает мед, то он либо слепец, либо глупец.
И вот английские мальчики-хористы, оказавшись на прекрасном необитаемом острове, додумываются до убийства, до принесения в жертву человека и создают самого «повелителя мух», Вельзевула; в «Наследниках» же наши предки-кроманьонцы истребляют мирных и дружелюбных неандертальцев, сочинив в оправдание своих действий дикие небылицы о том, будто бы те едят людей.
Можно добавить, что очень похожий, хотя и более сложный аргумент выдвинул и Т. Х. Уайт в еще одном великом фантастическом романе того десятилетия, «Король былого и грядущего», который, как и у Толкина, начался с детской книжки «Меч в камне» (1937), но писался еще дольше – полная, хотя и неоконченная версия увидела свет в 1958 году. Уайт заложил в свое произведение очень много смыслов, и немало из них вызывают сомнение, поэтому его нелегко резюмировать. Однако во всяком случае одно можно сказать с уверенностью: Уайт разглядел в человеке базовую потребность к уничтожению и выразил ее в своем опусе, который можно было бы назвать «Властелин колец nationibus in diro bello certantibus» («в эпоху страшной войны между народами»).
Мысль, которую настолько по-разному выразили Оруэлл, Голдинг, Уайт и еще несколько авторов послевоенных фантастических романов и притч, сводится к тому, что людям ни в коем случае нельзя доверять, особенно если они заявляют о своем стремлении изменить мир к лучшему. Главное разочарование ХХ века было связано с благими намерениями политиков, вымостившими дорогу в лагеря и на расстрельные полигоны. Потому-то слова Гэндальфа и звучат так убедительно почти для всех читателей, хотя они, повторю, тоже являются для Средиземья анахронизмом, и самым вопиющим, поскольку подобные взгляды появились лишь в современном мире.
Но соблюдает ли эти правила, положенные в основу книги, сам Толкин? Критики утверждают, что нет, – особенно Колин Мэнлоув, который посвятил нападкам на Толкина главу 5 своей книги «Современное фэнтези» (Modern Fantasy). Для начала следует признать, что некоторые персонажи действительно в тот или иной момент начинают проявлять признаки морального разложения, которого так опасается Гэндальф. Один из них – Бильбо: в главе 1 он разозлился на Гэндальфа за то, что тот пытался убедить его расстаться с Кольцом (даже не насовсем); потом, в главе «Нежданные гости», Бильбо попросил Фродо дать ему «еще раз на него взглянуть» и на мгновение предстал перед ним как «сморщенный карлик, глаза у карлика алчно блестели, а костлявые руки жадно дрожали». Второй – Исилдур, в чьем письме, найденном Гэндальфом в гондорских архивах, есть зловещая фраза: «Это – мое сокровище, хоть я и заплатил за него великой болью». Разумеется, к ним следует отнести и Горлума, который чувствует тягу к Кольцу на протяжении всей книги. Наконец, Боромир: он с самого начала сомневается в разумности уничтожения Кольца в Ородруине и в конце концов вызывает разброд среди Хранителей, будучи убежденным в том, что «людей с честными сердцами не испортишь». К этому моменту – ближе к началу последней главы «Хранителей» – в речи Боромира заметны все признаки, которых в ХХ веке научились опасаться: восхищение могуществом, даже если это «могущество Врага», восхваление «бесстрашных» и тут же – «безжалостных» как средства достижения победы и, наконец, возвеличивание себя до лидера, обладающего «великим могуществом», и неприкрытая угроза применения силы: «Ибо я гораздо сильнее тебя, невысоклик!» Даже Сэму, которому ненадолго пришлось взять Кольцо себе, в главе 1 книги VI мимолетно чудится нечто похожее – «Сэммиум Смелый, герой из героев», – и когда он медлит отдать Кольцо Фродо, тот, как и в случае с Бильбо, на мгновение видит в нем «гнусную маленькую тварь с горящими глазками, со слюнявой оскаленной пастью». На протяжении всей книги автор, в полном соответствии с утверждениями Гэндальфа, настойчиво повторяет: носить Кольцо опасно.
Но можно заметить, что Толкин допускает исключения из правила, которое сам же сформулировал. И Сэм, и Бильбо в конце концов отдают Кольцо, замешкавшись лишь на миг. Есть персонажи, которые вообще не выказывают желания взять его или присвоить: Мерри и Пин, Арагорн, Леголас и Гимли. Когда Хранители приходят в Кветлориэн, Галадриэль уже знает о Кольце и признается: «я хотела бы обладать» тем, что предложил ей Фродо. Ее посещает примерно такая же фантазия, что и Боромира и Сэма:
«А ты готов подарить его мне, сменить Темного Властелина на Королеву. <…> я стану <…> грозной, как буря, как молния! Твердой, как корни земли. Все будут любить меня и бояться!»
Однако же она шутя справляется с искушением. Точно так же и Фарамир, в чьих руках оказались Фродо и Сэм, узнав, чтó они несут с собой, на мгновение предстал перед ними угрожающим, но потом, рассмеявшись, преодолел соблазн. Наконец, остается Фродо. В начале книги Гэндальф сказал ему, что не может заставить его отдать Кольцо – «разве грубой силой, а этого [твой рассудок][54] бы не выдержал». Однако, как подчеркивает с нажимом Мэнлоув, в конце книги, в сцене в Саммат-Науре, Горлум все же заставляет Фродо отдать Кольцо, и заставляет силой – откусив ему палец, но это никак не отражается на рассудке Фродо. Из-за таких явных противоречий критики, враждебно настроенные по отношению ко всему произведению, усматривают изъян в самóй толкиновской концепции происхождения зла: получается, что на некоторых людей Кольцо действует плохо, а на некоторых вообще никак. Автор манипулирует сюжетом, вместо того чтобы логически его развивать.
На самом деле, подобные сомнения можно развеять одним словом, хотя Толкин его не использует, да и в Оксфордский словарь оно вошло только в 1989 году (насколько удалось обнаружить, первое его упоминание зафиксировано лишь в 1939 году). Это слово – addictive (вызывающий зависимость). Все, о чем говорит Гэндальф, можно выразить одной фразой: «Пользование Кольцом приводит к зависимости». Если надеть его один раз, может быть, ничего страшного и не произойдет, однако с каждым разом тяга к нему растет. На ранних этапах от этой зависимости можно избавиться (это объясняет, почему Бильбо и Сэм смогли от него отказаться), но как только она пустила корни, одной лишь силой воли ее не побороть. С другой стороны, если не надевать его вообще, то власть этой зависимости будет не больше, чем у любого другого искушения, – вот почему Галадриэль, Фарамир и остальные Хранители не поддались соблазну. Кроме того, конечно, зависимых можно удержать от искушения с помощью внешней силы – будь то зубы Горлума или запертая камера и тотальная абстиненция. Говоря, что не может «заставить» Фродо отдать Кольцо, «разве грубой силой, а этого [твой рассудок] бы не выдержал», Гэндальф имел в виду, что не может заставить его захотеть отдать Кольцо, кроме как с помощью какого-то неизвестного метода воздействия на его психику, может быть, чего-то вроде гипноза. Но ничто из этого не противоречит основному тезису по поводу Кольца: разрушительна уже сама потребность его надеть. Завладев им, и Элронд, и Гэндальф, и Галадриэль, и Денэтор начали бы использовать его с самыми благими намерениями, но потом стали бы получать наслаждение от того, что им все удается, упиваться своей властью и в итоге превратились бы в диктаторов и в рабов своей собственной диктатуры, не имея возможности ни прекратить это, ни сделать шаг назад.
Призраки и тени: образы зла у Толкина
Очень многие люди находят толкиновское описание зла весьма убедительным, однако надо еще раз подчеркнуть, что его интерес к теме зла очень современен и ни в коей мере не уникален. В середине ХХ века эта проблема завладела умами многих писателей, которые создавали неповторимые и оригинальные образы зла. Я уже приводил заявление оруэлловского палача О’Брайена из романа «1984» («Если вам нужен образ будущего, вообразите сапог, топчущий лицо человека – вечно»[55]) и ссылался на рассказ Урсулы Ле Гуин «Уходящие из Омеласа» о прекрасном городе, чье могущество и красота полностью зависят от постоянной и осознанной пытки слабоумного ребенка. Сюда можно добавить персонажа книги Курта Воннегута Билли Пилигрима, работавшего в дрезденских «шахтах по добыче трупов», где «вонь походила на запах роз и горчичного газа»[56]; или Мерлина, который в романе Т. Х. Уайта изобличает человечество:
«Homo ferox, изощренный мучитель животных, который… живьем сжигает крыс, – я видел это однажды в Ирландии, – дабы их визгом припугнуть иных грызунов; который вызывает у домашних гусей перерождение печени, чтобы затем повкуснее поесть; который отпиливает у скота живые рога для удобства транспортировки; который иглой ослепляет щеглов, чтобы они запели; который заживо варит в кипятке омаров и раков, хоть и слышит их пронзительные вопли; который уничтожает войнами собственный вид и каждые сто лет губит по девятнадцати миллионов его представителей…»[57]
Все эти образы основаны на личном или недавно пережитом опыте – в большей (у Воннегута) или в меньшей (у Ле Гуин) степени. Эти писатели пытаются донести нечто такое, что им довелось глубоко прочувствовать и что не поддается объяснению с рациональной точки зрения; более того, нечто, по-видимому, совершенно новое, чему не находится ответа в нравственных принципах прошлых веков (хотя некоторые из названных авторов живо интересовались Средневековьем). Окончание цитаты из Уайта указывает на то, что это «нечто» связано с характерным для ХХ века опытом войны, которая превратилась в одну из отраслей промышленности, и обезличенного, индустриализованного массового уничтожения; наверное, не случайно большинство из этих писателей (не только Толкин, Оруэлл и Воннегут, но и Голдинг, а также друг и коллега Толкина К. С. Льюис) были ветеранами той или иной войны. Жизнь в ХХ веке сформировала у многих людей непоколебимую убежденность в том, что в природе человека заложена некая неправильность, не разложимое на части зло, однако никакого удовлетворительного объяснения этому явлению жизнь не дала. Не нашлось такого объяснения и в литературе прежних времен: по мнению Роузуотера, друга Билли Пилигрима из воннегутовской «Бойни номер пять»,
«абсолютно все, что надо знать о жизни, есть в книге „Братья Карамазовы“ писателя Достоевского. Но теперь и этого мало».
Фэнтези ХХ века можно считать прежде всего откликом на этот пробел, нехватку объяснения. И стоит задаться вопросом о том, что в созданных Толкином образах оригинально и индивидуально, а что – типично и узнаваемо.
Один из таких образов – это орки, которых мы несколько раз видим или слышим во «Властелине колец» и по поводу которых можно сделать вполне определенные выводы (см. следующий раздел). Но это злодеи относительно мелкого калибра, которых Толкин назвал в своей лекции о «Беовульфе» «пехотой древней войны»; они в некотором смысле походят на довольно обычных сказочных персонажей, таких как гоблины, как их изначально называл Толкин.
Образ призрачных Кольценосцев (Ringwraiths) получился более индивидуальным и своеобразным. Надо сказать, что это слово относится к точно такому же типу, как *hol-bytla, – оно составное, и первая его часть прекрасно известна, а вторая более туманна. Что такое wraith? Заглянув в Оксфордский словарь, натыкаешься на загадку как раз в духе Толкина – такие всегда привлекали его внимание. В словаре не высказывается никаких предположений по поводу происхождения этого слова – оно лишь снабжено пометой «этимология неясна». Что же до смысла, то в словаре дается два значения, которые, по всей видимости, противоречат друг другу, а в качестве источника обоих приводится один и тот же текст – выполненный в 1513 году Гэвином Дугласом перевод «Энеиды» Вергилия на шотландский язык. Не сомневаюсь: Толкин обсуждал этот вопрос с другими участниками «Инклингов», ведь у Льюиса тоже есть очень четкий художественный образ такого призрака, и в конце концов им удалось найти решение, соответствующее и старинному тексту Дугласа, и современной действительности, к которой относятся «призраки». (Комментарий по поводу Льюиса можно найти в моей статье, опубликованной в сборнике под редакцией Кларка и Тиммонса.)
Начнем с этимологии. Очевидное предположение, о котором должны были подумать составители словаря: это форма древнеанглийского глагола wríðan (writhe – извиваться). Это глагол 1-й группы, относящийся к сильному спряжению, точно такой же, как глагол rídan (ride – ехать), и, если бы он был достаточно распространен, чтобы сохранить свою полную форму, мы бы до сих пор говорили writhe – wrothe – writhen, как мы говорим ride – rode – ridden или write – wrote – written (на самом деле, Толкин использовал форму writhen, см. «Тезаурус Толкина»). Для таких глаголов, как ride или write, характерно образование других слов посредством изменения гласной: например, road (дорога) произошло от ride (ехать), а writ (предписание) – от write (писать). От глагола writhe образовалось несколько таких слов: wreath (нечто скрученное), а также менее очевидные, но заставляющие задуматься wroth (устаревшее прилагательное, означающее «разгневанный») и wrath (соответствующее существительное, которое употребляется до сих пор). Какая связь между словами «гнев», «извиваться» и «скрученный»? Очевидно – и тому есть другие подтверждения, – это слово представляет собой древнюю, отмершую уже метафору, в которой состояние гнева сравнивается с состоянием перекрученности изнутри (это предположение высказал на заседании «Инклингов» Оуэн Барфилд, о чем Толкин упоминает в «Письмах». Слово wraithas (согнутый) тоже имело особое значение для личного мифа Толкина об утраченном пути, см. ниже стр. 442).
Толкин осознавал разницу между вещественным и абстрактным – об этом можно судить по тому слову, которое употребляет Леголас в главе «Путь на юг». Хранителям не удается пересечь Карадрас из-за снежной бури, и эльф отправляется разведать путь к отступлению. Вернувшись, он сообщает, что снеговой покров простирается недалеко, но солнце он заманить с собой не смог: «Оно ублажает южные земли, и его, как я понял, ничуть не беспокоят несколько тучек (wreath of snow) над этой горушкой». Под «тучками» Леголас, очевидно, имеет в виду нечто вроде облака, нечто почти эфемерное, и слово wraith можно употреблять в том же значении, хотя в Оксфордском словаре оно не зафиксировано: можно сказать «a wraith of mist» (облако тумана), «a wraith of smoke» (облако дыма), подобно тому как Леголас говорит «a wreath of snow» ([снеговые[58]] тучки). Таким образом, представляется вероятным, что слово wraith – это шотландская форма, образованная от слова wríðan точно так же, как слово raid (рейд) образовано от слова rídan.
Вернемся к цитатам из перевода Гэвина Дугласа, на основании которых Оксфордский словарь вывел два значения этого слова. Первое – «видение или дух умершего человека: призрак или привидение» – иллюстрируется фразой:
In diuers placis
The wraithis walkis of goistis that are deyd
(Тенью такой человек, говорят, после смерти витает[59]).
В качестве примера употребления этого слова в другом значении – «эфемерный или призрачный облик живого человека» – вновь приводится цитата из перевода Дугласа:
Thidder went this wrath or schaddo of Ene (Тотчас на судно взлетел трепетный призрак Энея).
Возникает резонный вопрос: так живы эти призраки или мертвы, раз Дуглас использует это слово в обоих смыслах? Можно еще добавить: материальны они или нет? Этот второй вопрос вызван сравнением их с «тенью» (еще одно важное для Толкина слово) и определением wraiths и wreaths в первую очередь исходя из их формы, а не содержания: завиток, спираль, кольцо. Первый же вопрос связан с тем, что призрак может быть призраком чего-то, даже если это что-то настолько неуловимо (хотя и вещественно), как снег, туман или дым. Разумеется, Кольценосцы у Толкина являют собой ответ на все эти вопросы и в очередной раз показывают, что очевидные ошибки и противоречия в древних поэмах могут просто указывать на понимание, недоступное самоуверенным составителям словарей в XIX и ХХ веках.
Живы Кольценосцы или мертвы? В начале книги Гэндальф сообщает о том, что некогда они были людьми, которым Саурон раздал кольца, «чтобы поработить их. Давным-давно превратились они в кольценосцев-призраков, в Прислужников Мрака, его самых страшных вассалов».
Гораздо позднее, в главе «Битва на Пеленнорской равнине», мы узнаем о том, что главарь назгулов, Повелитель Призраков, был некогда королем-ведьмаком Ангмара – королевства, стертого с лица земли более тысячи лет назад. Значит, ему следовало бы быть мертвым, однако он, очевидно, в той или иной форме жив, то есть находится ровно посередине между двумя значениями, приведенными в Оксфордском словаре. Что касается вопроса о его материальности, то назгул в каком-то смысле не имеет вещественной формы – ведь когда он откинул капюшон, под ним ничего не было. С другой стороны, что-то там должно было быть, раз «был он в короне, но без головы». Кроме того, он и его товарищи могут совершать физические действия: носить стальные мечи, ездить верхом на лошадях или на крылатых тварях – а главарь назгулов машет булавой. Однако им нельзя причинить физического вреда – ни наводнением, ни оружием, только лишь мечом из Могильников, выкованным на древнем Западе и заклятым поразить Ангмар. Именно эти заклинания, а не сам клинок, и пронзают «призрачную плоть». Так что Кольценосцы похожи на туман или дым – они вещественны и даже опасны, грозя удушением, но в то же время совершенно неуловимы.
Все это весьма своеобразно. Однако важно понять, насколько подобный образ узнаваем и даже правдоподобен с психологической точки зрения. Ответ на этот вопрос возвращает нас к ХХ веку. Возможно, Толкин не сразу пришел к такому образу Кольценосцев, потому что, как говорилось выше, сначала Черные Всадники кажутся относительно безобидными. Однако во время Совета у Элронда Боромир рассказывает об одном из основных их свойств – способности сеять панику: всякий раз, когда в бой вступают Черные Всадники, «их союзники сражаются словно одержимые, а наших воинов сковывает ужас». И после ухода Хранителей из Кветлориэна призраки все чаще выступают именно в этом качестве. Пролетая над Сэмом и Фродо, над мустангримцами, над Гондором, они вызывают одни и те же явления: тьму, леденящий душу вопль и ужас. Типичный пример – ощущения Пина и Берегонда в тот момент, когда они слышат Черных Всадников и видят, как те слетаются к Фарамиру в главе «Нашествие на Гондор» (глава 4 книги V):
Внезапно оба онемели на полуслове, беспомощно цепенея. Пин съежился, прижав ладони к ушам, Берегонд… там и застыл, всматриваясь в темень глазами, полными ужаса. Пин знал этот надрывный вопль, он слышал его когда-то в Хоббитании, на Болотище; но здесь он звучал куда громче и яростнее, отравляя сердце безысходным отчаянием.
Эта последняя фраза имеет особое значение. Воздействие Кольценосцев по большей части не физическое, а психологическое: они парализуют волю, лишают сил сопротивляться. Это может быть как-то связано с тем, что их жертва сама начинает превращаться в призрака. Такое может случиться в результате внешнего воздействия. Как поясняет Гэндальф, если бы Элронд не извлек обломок моргульского клинка из раны Фродо, он «стал бы призраком Царства Тьмы». Но обычно возникает подозрение, что люди превращаются в призраков сами по себе. Они принимают дары Саурона – вполне возможно, намереваясь использовать их ради какого-то дела, которое считают благим. Но потом они начинают жульничать, устранять несогласных, верить в некую «цель», которая оправдывает все их действия. В конечном счете эта «цель» или привычки, приобретенные на пути к ней, разрушают все их представления о нравственности и даже то, что в них еще остается человеческого. Вид человека, которого «пожирает изнутри» одержимость некой абстракцией, настолько хорошо знаком тем, кто застал трагические события ХХ века, что образ такого призрака и процесс превращения в него становятся до ужаса узнаваемыми и в каком-то смысле отнюдь не фантастическими.
Примеры персонажей, которые уже вступили на путь развоплощения, делают этот образ зла еще более реалистичным. Самые первые и при этом весьма зловещие симптомы мы наблюдаем у Бильбо, Фродо и ряда других героев, о которых уже говорилось выше. Горлум продвинулся по этому пути гораздо дальше; однако во «Властелине колец» он, уже много лет как лишенный Кольца, возможно, стал выздоравливать – об этом говорит то, что он начинает называть себя своим прежним именем, Смеагорл, каким звался еще будучи хоббитом, и иногда, что очень важно, говорит о себе «я». В главе «Тропа через топи» приводится поразительный диалог между его хоббитовской сущностью (Смеагорлом) и сущностью Кольценосца (Горлумом, или «моей прелес-с-стью»), из которого ясно, что две эти личины как минимум связаны друг с другом. Можно себе представить, как одна вырастает из другой, как обычная человеческая слабость и эгоизм претворяются в чистое зло.
Но лучший пример «развоплощения» во «Властелине колец» – это, конечно, Саруман. Как отмечалось выше, его речь и поведение более современны, чем у любого из участников Совета у Элронда и вообще любого другого персонажа. Цели Сарумана – это знание (против этого вряд ли можно возразить), дисциплина на службе у знания (наверняка его поддержали бы в этом целый ряд ученых и огромное множество руководителей), но в конечном счете – контроль. В своем стремлении к контролю Саруман совершенно осознанно готов сотрудничать с силами зла, но надеется использовать их для своих гораздо более возвышенных целей, а затем подавить или уничтожить своих временных союзников. Однако мы слишком хорошо знаем, что такие расчеты не оправдываются, – мы наблюдали подобные войны и союзы на протяжении всего прошлого века. Кроме того, как мы узнаем в главе «Красноречие Сарумана» (глава 10 книги III), его основным преимуществом было не что иное, как очарование его голоса:
Кто невзначай поддавался этому очарованию, услышанных слов обычно не помнил, а если припоминал, то с восторженным и бессильным трепетом. Помнилась же более всего радость, с какой он внимал мудрым и справедливым речам, звучавшим как музыка, и хотелось как можно скорее и безогляднее соглашаться, причащаться этой мудрости. После нее всякое чужое слово язвило слух, казалось грубым и нелепым…
Разные люди могут найти свои примеры такого явления из реальной жизни, но и в коллективном опыте людей, живших в ХХ веке, есть память о том, как сложно выпутаться из сетей профессионального жаргона – будь то подсчет потерь генералами в ходе войны во Вьетнаме или бесконечные разногласия и поправки литературных теоретиков – и как непросто отделаться от представлений, навязанных ими между строк. Насколько можно судить по постоянным нападкам Оруэлла на военно-политический язык начала ХХ века, это явление более раннее, чем оба приведенных выше примера. Таким образом, Саруман постепенно превращается в призрака: отчасти за счет слияния с делом своей жизни и стремления к некой все более недостижимой цели без оглядки на используемые средства, а отчасти – за счет самообмана, который кроется в его речи. И в конце он становится призраком уже в физическом смысле – когда Гнилоуст перерезает ему горло, призрак восстает из его тела:
вокруг Саруманова трупа склубился серый туман и стал медленным дымом, точно от большого костра, и поднялся огромный мглистый облик, возникший над Кручей. Он заколебался, устремляясь на запад, но с запада подул холодный ветер, и облик стал смутным, а потом развеялся.
И когда «туман» и «дым» рассеиваются, становится видно, что тело Сарумана, по-видимому, было мертво уже много лет, оставшись лишь «клочьями иссохшей плоти на оскаленном черепе». В Сарумане еще сохранилось что-то человеческое – колеблющийся призрак обращается на запад, возможно, в надежде испросить прощение валаров, а потом развеивается, что можно счесть признаком горя или раскаяния, – однако это человеческое постепенно пожиралось.
Чем? Клайв Стейплз Льюис мог бы ответить: «Ничем». Одно из поразительных и убедительных утверждений выдуманного им беса Баламута состоит в том, что сегодня самыми сильными искушениями стали не старые человеческие пороки вроде похоти, обжорства или гнева, а новые – одиночество и скука. В конце письма XII «Писем Баламута» бес отмечает, что христиане говорят про Бога, мол, это Тот, «без Кого ничто не обладает силой»[60]. Но они неправы, ведь
НИЧТО очень сильно, достаточно сильно, чтобы украсть лучшие годы человека, отдать их не услаждающим грехам, а унылому заблуждению бессодержательной мысли. Ничто отдает эти годы на утоление любопытства, столь слабого, что человек сам его едва осознает… Ничто отдает их длинным, туманным лабиринтам мечтаний, лишенных даже страсти или гордости, которые могли бы украсить их.
Грешники такого рода, разумеется, ненавидят всех, у кого, судя по всему, «есть какая-то жизнь», как сейчас принято говорить (и это очень меткое выражение). Им непременно надо убедить всех остальных тоже впасть в уныние и отчаяние. Отсюда в современной литературе так много злодеев, которые прежде всего характеризуются своей «пустотой» (как в стихотворении Т. С. Элиота «Полые люди»), образов зла в виде чего-то бессмысленного или бюрократического (взять хотя бы «Бойню номер пять» Воннегута или «Уловку-22» Хеллера), сюжетов о том, как с помощью лукавых речей можно скрыть несомненное зло (жители Омеласа у Ле Гуин – большинство из них – убеждают себя не верить тому, что видели собственными глазами), представлений об ужасе, кроющемся в повседневной жизни (Марлоу у Конрада очень прозаично повествует о «сердце тьмы», а восклицание Курца: «Ужас, ужас!» – так и остается без объяснения). В Средние века никто ничего подобного не писал. Может быть, Толкин и заимствовал слово wraith у Гэвина Дугласа из XVI века, но сама идея о Кольценосцах и о том, как в них можно превратиться, взята из его (и нашего) собственного жизненного опыта. Это придает созданному Толкином образу не просто художественную оригинальность, но и страшную убедительность.
Два взгляда на зло
Еще одно слово из эпохи Гэвина Дугласа, которое идет рука об руку со словом wraith, – shadow (тень, мрак, тьма), и Толкин употребляет его постоянно и целенаправленно. Последние строки поэмы о кольцах, которую Гэндальф читает Фродо в главе «Тень прошлого», звучат так:
Одно Кольцо покорит их, одно соберет их,
Одно их притянет и в черную цепь скует их
В стране по имени Мордор, где распростерся мрак.
О Гэндальфе, упавшем в пропасть, Арагорн говорит: «Его поглотила тьма»; по словам Берегонда, «Тень нависла надо всеми – и либо выстоять, либо сгинуть»; иногда «Тьма», «Тень» или «Мрак» означает самого Саурона – например, Фродо говорит Сэму: «Мрак, из которого они вышли, не может создать ничего настоящего». Это последнее утверждение во многом объясняет, почему Толкин использовал это слово так часто и акцентированно. Можно подумать, что с «тенью» ассоциируются в основном темнота, угроза или, может быть, забвение, но, возможно, Толкин пытался донести более метафизический смысл.
Существуют ли вообще тени? В древнеанглийской поэме «Соломон и Сатурн», из которой Толкин заимствовал загадки Горлума, Соломон задает Сатурну такой вопрос: «Что есть такое, чего нет?» Ответ сформулирован загадочно, но в нем содержится слово besceadeð (затеняет). Судя по всему, Сатурн говорит, что тени одновременно существуют и не существуют. Не существуют, поскольку тень – это не предмет, а отсутствие, создаваемое предметом. Существуют – поскольку они имеют форму и оказывают физическое воздействие, например, в виде темноты или холода. По крайней мере в фольклоре они могут быть отделены от своего источника и даже украдены. Поэтому небольшая вариация на тему поэмы о кольцах, прозвучавшая в последней строке эльфийской песни о Гил-Гэладе в исполнении Сэма (глава 11 книги I), кажется особенно зловещей. Она гласит (курсив мой):
И канула его звезда
Во мрачный Мордор – навсегда
[дословно: В Мордор, где обитает мрак].
Подобно тому как призраки могут быть материальными и в то же время нематериальными, в Мордоре (хотя Сэм не осознает, насколько зловещи произносимые им слова) отсутствие может приобретать некую жизнь, становиться присутствием, как, например, у Мильтона в поэме «Потерянный рай» (книга 2, стихи 666–673), где Смерть представляется как «бесформенное нечто»[61], «тенеподобный призрак» и так же, как у главаря назгулов, «То, что ему служило головой, / Украшено подобием венца / Монаршего».
Однако такими фразами Толкин создает на протяжении всей книги «Властелин колец» постоянную неоднозначность, которая служит одновременно ортодоксальным и критическим ответом на всю проблему существования и источника зла во вселенной, сотворенной, как твердо верили Толкин и Мильтон, милостивым Богом. Резюмируя позицию Толкина, очень характерную для ХХ века, можно сказать, что по поводу природы зла есть два мнения – оба они были сформулированы уже давно, глубоко укоренились, но остаются актуальными и по сей день, оба нелегко опровергнуть, но при этом они, судя по всему, безнадежно противоречат друг другу.
Одно из них – общепринятая христианская позиция, которую повторил и изложил современным языком, например, близкий друг и соратник Толкина К. С. Льюис в своей книге «Просто христианство». Эта книга создавалась в то время, когда Толкин писал первые главы «Властелина колец», а опубликована была в 1952 году. Как говорил сам Льюис, одним из поводов к ее написанию стало стремление изложить те догматы, с которыми может согласиться и он сам, североирландский протестант, и католик Толкин («просто» в названии книги относится к тому, что в христианстве «общее» или «главное»).
Кроме того, как наверняка знали и Толкин, и Льюис, самая известная формулировка такого взгляда на зло приведена в работе христианина, который тем не менее ни разу не упоминает в ней Христа или каких-либо сугубо христианских догматов, пытаясь дойти до всех своих заключений исключительно с помощью логики. Эта работа – De Consolatione Philosophiae («Утешение Философией»), а ее автор – римский сенатор Боэций, который писал свой труд, будучи приговоренным к казни по обвинению в заговоре с целью восстановить Римскую империю (этот приговор в итоге был приведен в исполнение: в 524 или 525 году нашей эры Боэций был замучен до смерти).