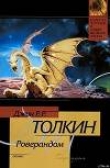Текст книги "Дж. Р. Р. Толкин: автор века. Филологическое путешествие в Средиземье"
Автор книги: Том Шиппи
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 28 страниц)
По легенде, смертный оказывается в гостях у эльфов, проводит там одну или несколько ночей, развлекаясь и танцуя на балу, а когда выходит и возвращается обратно, то обнаруживает, что стал чужим у себя на родине: все, кого он знал, давно умерли, а о нем самом сохранились лишь смутные воспоминания как о человеке, который пропал в царстве эльфов. Получается, что время у эльфов течет гораздо медленнее, чем у людей. Или все же гораздо быстрее? Ведь с эльфами связано еще одно верование, которое гласит: когда играет эльфийская музыка, все вокруг замирает. В датской балладе «Эльфийский холм» (Elverhøoj) прекрасная эльфийка поет: «Быстрая река, что прежде стремительно катила свои воды, теперь замерла, и рыбки, которые плескались в ней, лишь качают плавниками в такт». С легкостью допуская, что древние переписчики неправильно записали то или иное слово, и охотно исправляя их предполагаемые ошибки, Толкин не был склонен считать, что они переврали полностью всю историю только потому, что она, на первый взгляд, была лишена логики. Его задача как раз и состояла в том, чтобы вернуть утерянную логику на место. Кветлориэн в каком-то смысле представлял собой синтез этих двух тем – «ночи, которая длилась целый век» и «застывшего течения реки». Толкин пишет про Хранителей, что «никто после не мог сосчитать, сколько дней и ночей пробыли они в Лориене». Но когда они наконец покинули царство эльфов, Сэм был очень озадачен при виде луны: «Луна ведь у нас одна, что в Шире, что еще где-нибудь. То ли она с пути сбилась, то ли я – со счета». Он задается вопросом: «Это что же получается? Были мы в Лориене или не были? Или там время вообще не считано?» Фродо соглашается с ним и высказывает предположение о том, что там «все еще пребывает время, которое во всех остальных местах давно прошло».
Однако Леголас, который принадлежит к народу эльфов, дает более сложное объяснение произошедшему, пытаясь донести до друзей то, как это выглядит глазами эльфа, а не человека (об этом ничего не говорится ни в одной древней летописи):
«Время нигде не стоит на месте. Но в разных местах ход его неодинаков. Для эльфов мир тоже меняется, причем меняется и медленно, и быстро. Быстро потому, что сами эльфы почти неизменны, события и времена летят мимо, мало задевая их, – в этом печаль эльфийского народа. А медленно потому, что эльфы не считают уходящих лет. Смена времен года – только рябь для них, вечно бегущая по поверхности реки времени».
Слова Леголаса совершенно логичны с точки зрения бессмертного существа. Из них также понятно, почему простые смертные, оказавшиеся в мире, где течет эльфийское время, не могут понять, быстро оно проходит или, наоборот, медленно. Все эти истории про эльфов верны, а внутренние противоречия в сумме как раз и образуют сложный и более непредсказуемый образ эльфийского царства, которое одновременно ничуть не похоже на все остальные миры и при этом зиждется на древних традициях.
Культурные параллели: всадники Ристании
К концу тома «Хранители» темп повествования начинает ускоряться, а сама история обретает более четкие очертания. Сперва Селербэрн рассказывает Фродо и его спутникам о том, как выглядит местность, по которой им предстоит двигаться: «Примерно в этом месте в Андуин впадает Энтова Купель[46], берущая начало в Лесу Фангорна на западе». Затем то же самое делает и Арагорн: «А мы-то еще в средней полосе – у северной границы Ристанийской державы, которая проходит по реке Кристалинке».
Затем, в первой книге тома «Две твердыни», мы стремительно знакомимся с множеством новых персонажей – ристанийцами, урукхайцами, онтами и Саруманом.
Нельзя не обратить внимание и на то, что в соответствии с тщательно задокументированной самим Толкином хронологией событий, с которой можно ознакомиться в Приложении B, действие первой книги романа (с момента прощальной вечеринки Бильбо и до прибытия Фродо в Раздол) занимает семнадцать лет, второй – уже три месяца (с 20 ноября 3018 года до 26 февраля 3019 года), а в третьей и четвертой все события разворачиваются за десять и пятнадцать дней соответственно. Ускорение темпов повествования, возможно, связано с появлением на страницах романа конников Ристании. Даже к тому моменту, когда была написана значительная часть «Властелина колец», Толкин еще не имел ни малейшего представления о том, что в его истории вдруг появятся ристанийцы, или мустангримцы. Но их приход, судя по всему, во многом упростил стоявшие перед ним задачи: когда Толкин придумывал этот народ, в его распоряжении имелось множество материалов для вдохновения.
Дело в том, что ристанийцы, так же как и хоббиты, являются воплощением «английскости» – Древней Англии, конечно, а не современной, но сути дела это не меняет. Толкин впоследствии отрицал это и в сноске к Приложению F (II) настаивал, что «перевод» всех ристанийских имен на древнеанглийский вовсе не означал, что ристанийцы и англосаксы имели много общего. Однако процесс «перевода» носит весьма глубинный характер.
Можно начать хотя бы с того, что ристанийцы называли собственную страну «the Mark» (Марк). Это слово так же близко англичанам, как и, например, «the Shire» (Шир, или Хоббитания), – вернее, должно было быть близко, если бы не ненавистная Толкину тенденция к искусственной латинизации (и офранцуживанию) английского языка, которой писатель пытался противостоять, придумывая названия вроде «Бэг-Энд». У историков центральное королевство англосаксонской Англии принято называть Mercia (Мерсия), а ее обитателей – мерсийцы. Однако эти понятия наверняка являются всего лишь латинской версией исконных названий, бытовавших в то время, и жители Западной Саксонии (на чьем диалекте древнеанглийского и написано большинство древних текстов, сохранившихся до наших времен) называли своих соседей Myrce. Если бы название, которое они дали соседнему королевству, дожило до наших дней, оно, несомненно, звучало бы как *Mearc. Толкин же, уроженец Мерсии, как он часто сам себя называл, безо всякого труда бы перевел его обратно на мерсийский: если убрать западносаксонский дифтонг, то получится как раз слово *Marc, которое произносится как Mark (Марк). Во времена англосаксов жители Вустершира, Уорикшира и Оксфордшира, равно как и многих других графств, на вопрос о том, как называются их земли, отвечали бы, что они живут в собственном Шире (графстве) на территории под названием Марк. Оба этих слова являются одновременно и древними, и современными, и за прошедшие столетия они не претерпели никаких изменений.
Что до белого коня – эмблемы ристанийцев, – то, как и в случае прообразов Пригорья и Могильников, до источника вдохновения, подсказавшего Толкину этот образ, можно было добраться меньше чем за день пешей прогулки. Речь идет про знаменитый геоглиф «Уффингтонская Белая Лошадь», который представляет собой огромную меловую фигуру лошади, расположенную совсем неподалеку от могильного кургана Уэйлендз Смайти времен неолита. Все имена ристанийцев, клички их лошадей и названия оружия являются англосаксонскими, причем (что мало кто замечает) строго мерсийскими, а не западносаксонскими. Имена их конунгов – Теоден, Тенгел, Фенгел, Фольквин – представляют собой англосаксонские синонимы слова «король», за исключением разве что первого, Эорла, который был прародителем всей правящей династии. Его имя переводится как earl (граф), а в древнеанглийском оно означало «воин». Это слово появилось еще в те времена, когда никаких королей и в помине не существовало.
Впрочем, надо признать, что кое в чем ристанийцы отличаются от своих английских исторических предков – Толкин сделал их искусными наездниками. В литературных произведениях позднего англосаксонского периода, например в поэме «Битва при Мэлдоне» или прозаической летописи «Англосаксонская хроника», наглядно показано, как нежелание англосаксонского воинства осваивать искусство верховой езды приводит их к поражению и даже выставляет в нелепом свете. «Битва при Мэлдоне» начинается с того, что предводитель английской армии велит своим солдатам слезть с лошадей и вести наступление в пешем строю. Если верить «Хронике», то в 1055 году попытка английской армии воевать верхом закончилась полным провалом (и летописец винит в этом оглушительном поражении исключительно норманнских военачальников). Существует мнение, что битву при Гастингсе англосаксы проиграли из-за своего упорного стремления воевать в пешем строю. Впрочем, как мог считать и сам Толкин, при детальном рассмотрении всех фактов выводы о том, что англосаксы совсем не имели дела с лошадьми, становятся не такими очевидными.
Так, например, примечательно, что в современном английском языке не существует исконно англосаксонского обозначения для заросших травой равнин, где могли бы пастись табуны лошадей: в этом случае нам приходится довольствоваться заимствованиями из других языков, такими как «степь», «прерия», «саванна». Объяснение этому довольно простое: в Англии нет ни степей, ни прерий. Впрочем, если нечто похожее там все же было – например, на равнинах Восточной Англии, – возможно, было и название для обозначения таких пространств. Как вычислил Толкин, им могло быть слово emnet (ровный луг). Это слово является составной частью первого же топонима Ристании, который встречается нам на страницах книги. Название Eastemnet (Восточный луг) упоминается в самом начале главы 2 книги III, во время погони Арагорна и его спутников за орками, а Westemnet (Западный луг[47]) мы слышим из уст Эомера несколькими страницами позже. Причем в Норфолке существует реальная деревушка под названием Эмнет, которое, вероятно, происходит от древнеанглийского *emn-mæÞ, что в переводе на современный английский язык означает «ровный луг» и очевидным образом передает тот же смысл, что и «степь» и «прерия».
Если бы жителям Древней Англии действительно довелось увидеть своими глазами зеленые травяные просторы, они бы наверняка назвали их словом emnet, и нетрудно догадаться, как дальше развивались бы события, – там очень удобно пасти коней и заниматься верховой ездой. В любом случае вполне возможно, что они видели такие луга до переезда с материка на остров.
Толкин также наверняка знал, что довольно своеобразный и весьма ограниченный набор слов, использовавшихся для обозначения цветов в древнеанглийском языке, – grey (серый), dun (мышастый), fallow (сивый) и так далее – совпадает с названиями лошадиных мастей. Он использовал одно из них в качестве клички, которую носил конь Арагорна Хазуфел, что на современный английский язык можно перевести как «темная шкура».
Еще одним доводом в пользу того, что лошади занимали важное место в жизни англосаксов, может служить слово éored, которое Эомер использует в самом начале главы про конников Ристании, обращаясь с приказом к Эотану: «Выстрой эоред на дороге». Это слово из той же самой категории, что и sigel-hearwa, которое никогда не встречалось ни в одном из имеющихся у нас литературных источников и было «вычислено» редакторами в качестве объяснения ошибки, закравшейся в строчку в стихотворении. В строке 62 древнеанглийской поэмы «Максимы» (Maxims) мы находим такие слова: «Eorl sceal on éos boge, worod sceal getrume rídan», то есть «earl shall [go] on horse’s back, warband (worod) ride in a troop» («Предводитель едет верхом на лошади, армия гарцует в строю»). Слово worod здесь выглядит неуместно, нарушая общую аллитерацию, оно неправильно написано, да и в любом случае англосаксонские военные отряды обычно передвигались пешим строем (см. выше), а не верхом. Редакторы решили эту проблему, вычеркнув слово worod и добавив вместо него со звездочкой *éored, то есть «конный отряд», и именно это слово Толкин сумел правильно вписать в контекст при создании образа ристанийцев.
Таким образом, вполне возможно, что предки современных англичан не так уж чурались верховой езды, как можно предположить из более поздних летописей. В конце концов, их потомки впоследствии оказались страстными лошадниками.
Конники Ристании, как и многое другое у Толкина, представляют собой собирательный образ, в основе которого лежит множество различных источников. Они сочетают в себе одновременно старину и современность, чужеродное и привычное, обнаруженное в результате научных изысканий (как, например, слово *éored) и совершенно прозаичное (например, топоним Эмнет).
Очевидно, что, придумывая их нравы и обычаи, Толкин черпал вдохновение главным образом в древнеанглийском эпическом произведении «Беовульф», с которым был очень хорошо знаком. Дворец Теодена, как и замок Беовульфа, называется Медусельд, а крепость вокруг него – Эдорас (см. строку 1037 в «Беовульфе»[48]). В главе «Конунг в Золотом Чертоге» мы видим, что правила приветствия и приема чужестранцев полностью совпадают с церемонией, описанной в «Беовульфе». В поэме Беовульфа и его дружину встречает датский дозорный, который, выслушав их речи, самостоятельно решает пропустить прибывших и сопровождает в чертог конунга Хродгара. Там он их оставляет на попечение стража-привратника, который вынуждает гостей ожидать снаружи, а сам отправляется известить конунга об их прибытии. Затем привратник возвращается, приглашает их войти, но лишь при условии, что все свое оружие они сложат у дверей: «А ваше оружие покуда оставьте тут, у порога, щиты и копья»[49]. Беовульф входит в зал, где его приветствует конунг, но вскоре ему приходится выслушивать недоброжелательные речи, граничащие с оскорблением, от советника конунга, «сидевшего в стопах у владыки Скильдингов».
Все то же самое мы видим и в «Двух твердынях». Гэндальфа, Арагорна и их спутников возле крепостных стен встречает страж, который проводит их к привратникам и произносит почти те же слова, что датский дозорный в поэме. В «Беовульфе»: «А я возвращаюсь хранить границу от недругов наших!» У Толкина: «А мне – обратно, к воротам». В «Беовульфе» нет сцены, которая напоминала бы препирательства Гаймы и Арагорна по поводу требования оставить оружие у дверей (Беовульф, как и Беорн в «Хоббите», разумеется, предпочитает сокрушать противника голыми руками, так что оружие ему без надобности). В то же время показательно, что у Толкина сцена конфликта возникает не в самом начале этой цепочки событий, а гораздо позже. В древнеанглийской поэме она разыгрывается в тот момент, когда дозорный из береговой дружины решает, стоит ли ему поверить Беовульфу на слово и пропустить его и его людей к конунгу. После некоторых размышлений он оглашает свое решение, произнося примечательные в своей афористичности слова, по поводу которых редакторы и переводчики уже сломали немало копий:
ÆghwæÞres sceal
scearp scyldwiga gescad witan,
worda ond worca.
Я бы перевел это на современный английский так: «A sharp shield-warrior must be able to decide, from words as well as from deeds» («И сам ты знаешь, что должно стражу-щитоносителю судить разумно о слове и деле») (подразумевается, что по поступкам может судить любой глупец, а признаком ума является способность принимать правильные решения до того, как те или иные события произошли). Толкин явно размышлял над этими словами и решил заимствовать их для своей книги, слегка изменив формулировку, но не меняя сути. После того как Гайма принуждает Арагорна, Леголаса, Гимли и Гэндальфа оставить ему на хранение все, что бесспорно является оружием, возникает вопрос о том, как поступить с посохом Гэндальфа. Следует ли считать его оружием? «Посох в руке волшебника может оказаться не подпоркой, а жезлом», – говорит Гайма, и последующие события скоро покажут, что он был прав – и что Грима Гнилоуст предвидел как раз такой исход. Однако Гайма принимает решение оставить посох Гэндальфу:
«Однако ж в сомнении мудрость велит слушаться внутреннего голоса. Я верю, что вы друзья и что такие, как вы, не могут умышлять лиходейства. Добро пожаловать!»
(«in doubt a man of worth will trust in his own wisdom. I believe you are friends and folk of honour, who have no evil purpose. You may go in»).
Эти три фразы практически дословно воспроизводят слова датского дозорного в «Беовульфе». Первое предложение является парафразом максимы, о которой говорилось выше. Второе перекликается с его словами: «Я вижу ясно, с добром вы к Скильдингу путь свой правите». А третье – с его разрешением: «Теперь идите». Первая фраза Гаймы отвечает канонам англосаксонской риторики, которой была присуща аллитерация и четырехкратное ударение (doubt / trust, worth / wisdom), поскольку ристанийцы, как и англосаксы, питали слабость к нравоучительным сентенциям. Арагорн из явно тактических соображений изъясняется с дозорным в том же стиле, чтобы произвести на него нужное впечатление: «Однако же редкий конокрад пригоняет коня хозяевам».
Впрочем, диалоги со стражами преследуют гораздо более важную цель, нежели простое копирование «Беовульфа». Благодаря им мы получаем представление о том, как ристанийцы понимают честь и достойные манеры, поскольку этот обмен репликами в каком-то смысле шире обычного приветствия. В нескольких местах мы видим, что ристанийцы при всей своей безусловной дисциплине не соблюдают жесткие правила субординации, которые приняты в современной армии или, например, в бюрократическом аппарате. Эомер сомневается, стоит ли ему одалживать лошадей Арагорну, Гимли и Леголасу. Он знает, что Теоден уже и так пребывает в ярости из-за утраты Светозара, и к тому же ему был дан приказ доставлять всех чужестранцев к конунгу. Однако когда Арагорн категорически отказывается следовать за ним и объясняет причину такого отказа, Эомер решает ослушаться приказа конунга: «Следуй своим путем, а я – я дам тебе лошадей». Он знает, что наказание за такое ослушание может быть очень суровым, вплоть до смертной казни, но все равно поступает по-своему: «Как видишь, ручаюсь за тебя – и, может статься, ручаюсь жизнью. Не подведи меня».
Нельзя не обратить внимание на то, что второй по старшинству человек в отряде, Эотан, немедленно предпринимает попытку оспорить этот приказ, хотя в конечном счете уступает. Безымянный страж-привратник тоже решает ослушаться приказа, хотя ему велено не «пропускать ни единого чужестранца», потому что не желает подчиняться Гриме Гнилоусту, а Гайма, как мы увидим позднее, решает вопрос c посохом на собственное усмотрение. Он также возвращает Эомеру его меч до того, как получил соответствующее распоряжение, и это не ускользает от внимания Теодена. В современном мире подобное предвосхищение решения военного трибунала было бы расценено как очень серьезное нарушение, на которое никто не стал бы закрывать глаза. Однако Теоден не придает этому большого значения.
Все эти сцены призваны показать читателю, как ристанийцы относятся к свободе. И хотя, как описывает их Толкин, «крепки духом были ристанийцы и преданы своему государю», они, в отличие от нас, не подчиняются сводам письменных норм. Они в большей степени вольны принимать самостоятельные решения и полагают это своим долгом. Они не готовы поступиться значительной частью своей независимости ради подчинения старшим по званию, что нехарактерно для наших современников. Так Толкин наводит нас на вывод о том, что, даже если эти люди не слишком «цивилизованны» и находятся на «варварском» этапе развития, это ничуть не умаляет их достоинств. Они одновременно могут педантично следовать обрядам и при этом гораздо проще смотреть на многие вещи, чем наши с вами современники.
В ходе дальнейшего повествования Толкин еще неоднократно напомнит нам о том, что письменность у ристанийцев была не слишком развита. Буквально первая же характеристика, которую дает им Арагорн, звучит следующим образом: «Смышленые и простоватые: книг у них нет, лишь песни помнит каждый». Впоследствии он процитирует образчик их поэтического творчества: «Где ныне конь и конный? Где рог его громкозвучащий?» – в основу которого легли строки древнеанглийского стихотворения «Скиталец» (The Wanderer); а призыв Теодена, обращенный к его войскам в главе 6 книги III, – «Конники Теодена, конунг зовет на брань» – вдохновлен стихотворением «Фрагмент Финнесбурга» (The Finnsburg Fragment), к которому Толкин написал комментарии, опубликованные уже после его смерти, в 1982 году.
В томе «Возвращение короля» мы более подробно знакомимся с поэзией ристанийцев, которая следует строгим канонам древнеанглийского стихотворного размера: это и песнь о походе в Гондор (глава 3 книги V), и песнь про могилы у Мундбурга (глава 6 книги V), и прощальная песнь, которую сочинил в память о конунге Теодене его менестрель Глеовин (глава 6 книги VI). Обращает на себя внимание тот факт, что почти все ристанийские песни и стихи, которые встречаются по ходу повествования, полны глубокой печали: в культуре, где все передается из уст в уста, перед поэзией стоит именно эта задача – выражать скорбь по поводу неизбежного забвения и одновременно бросать ему вызов. Она выполняет те же функции, что и копья, которые ристанийцы втыкали в землю в память о павших, курганы, воздвигнутые над их могилами, и цветы, ковром укрывающие эти курганы. Проезжая мимо одного из таких захоронений, Эомер восклицает:
«Ржа и гниль источат их копья, но курган останется навеки – стеречь Изенгардскую переправу».
Когда они подъезжают к Медусельду по дороге, лежащей между курганами предков Теодена (их прообразами можно считать курганный некрополь в Саттон-Ху в Англии и захоронение Гаммель-Лейре в Дании), Гэндальф, глядя на белые цветы, которыми поросли могилы, говорит:
«Смотрите, как ярко они белеют! Называются поминальники, по-здешнему симбельмейны, кладбищенские цветы, и цветут они круглый год».
Толкин здесь озвучивает идею, которая нехарактерна для остальных многочисленных попыток реконструировать прошлые обычаи варварских народов: она заключается в том, что сам факт ненадежности средств передачи информации в этих обществах делает любые воспоминания бесконечно более ценными, а фольклор – одновременно исполненным грусти и полным ликования. Как часто бывает у Толкина, воссоздавая картины прошлого при помощи собственного воображения, он придает им особую эмоциональную глубину.
Культурные контрасты: Гондор и Ристания
Есть еще одна отличительная черта ристанийцев, на которую указывают как особенности их поведения, так и различные образы, вызывающие соответствующие ассоциации, но, чтобы описать ее, нам придется провести некую параллель. Как уже отмечалось выше, Толкин явно намеревался противопоставить друг другу Ристанию и Гондор, причем на нескольких уровнях: так, например, он негласно сравнивает Теодена и Денэтора (более подробно об этом сравнении будет рассказано в следующей главе) или (устами Эомера) описывает Боромира несколько снисходительно:
«Он больше походил на быстрых сынов Эорла, чем на суровых витязей Гондора, и стал бы, наверно, в свой час великим полководцем».
Эомер явно считает, что ристанийцы в бою гораздо сноровистее гондорцев, тогда как для самих гондорцев народ Ристании – это лишь «Средний Клан», то есть промежуточное звено между действительно цивилизованными людьми (которыми являются они сами), и Людьми Тьмы, например дунландцами или хородримцами.
Кто же из них прав и в чем состоят различия? И может ли так быть, что правы и те и другие? Ответы на эти вопросы Толкин скрыл в самом повествовании, предоставляя нам возможность поближе познакомиться с особенностями этих двух культур.
Контраст становится очевидным, когда мы наблюдаем два схожих эпизода, во время которых сперва Пин, а затем Мерри предлагают свои услуги Денэтору и Теодену соответственно (глава 1 и глава 2 книги V). В обеих главах разыгрывается примерно одна и так же ключевая сцена: хоббит вручает свой меч правителю в знак преданности, а тот принимает его клятву и возвращает оружие владельцу. Именно эта схожесть и позволяет подчеркнуть те нюансы, которые принципиально отличают ристанийского конунга от властителя Гондора. Мерри действует в порыве искренних чувств, «тронутый чуть не до слез лаской старого конунга», и отклик Теодена оказывается столь же сердечным. Вся церемония выглядит следующим образом. Мерри, обращаясь к конунгу, говорит: «Позволь Мериадоку из Хоббитании присягнуть тебе на верность!» – а Теоден отвечает на это: «С радостью позволяю. Встань же, Мериадок, – отныне ты наш оруженосец и страж Медусельда». Нет никаких сомнений в том, что, присягая Теодену на верность, хоббит берет на себя серьезные обязательства, но оба участника обряда обходятся буквально парой фраз.
В то же время Пин в схожей ситуации руководствуется совсем иными мотивами: его гордость уязвлена, и он обижен «презрительным, высокомерным голосом» Денэтора, допрашивающего своих гостей. Правитель Гондора принимает его предложение не сразу. Он сперва внимательно изучает его меч, который Пин добыл как трофей после истории в Могильниках, и рассказ хоббита, судя по всему, производит на него достаточное впечатление, чтобы Денэтор все же решился произнести: «Слушаю и принимаю клятву». Если Теоден выбирает куда более просторечную формулировку «с радостью позволяю», то ответ Денэтора исключительно официален: «Принимаю клятву»[50]. И хоббит, и хозяин Минас-Тирита в процессе этой церемонии обмениваются стандартными формулами, перечисляя все свои имена, звания и титулы, причем слова Денэтора, в которых упоминается «расплата за клятвопреступление», таят в себе некоторую угрозу, чего и в помине нет в ответном восклицании Теодена: «Прими свой меч – да послужит он на благо Ристании!» Вряд ли мы погрешим против правды, если скажем, что сцена с участием Мерри и Теодена производит куда более приятное впечатление, потому что конунг ведет себя гораздо любезнее, избегает формализма и демонстрирует искреннюю заботу по отношению к своему новоиспеченному юному оруженосцу.
Тот же контраст мы видим и в описании дворцов обоих правителей. В чертогах Теодена «повсюду таились тени и властвовал полусвет», но из окон «падали искристые солнечные снопы». Внимание на себя обращают и мозаичные полы, и разноцветные колонны, но в первую очередь в глаза посетителям бросается множество «выцветших гобеленов» на стенах, особенно один, на котором в белых, зеленых, красных и желтых тонах выткан образ Отрока Эорла, подсвеченный лучами солнца. Все эти особенности убранства очень напоминают зал замка Хеорот, принадлежащего конунгу Хродгару в «Беовульфе» (который, как и Медусельд Теодена и медусельд самого Беовульфа, был обречен погибнуть в пламени пожара); в зале Хеорота мы тоже видим «разноцветные полы», золоченые фронтоны и гобелены, служившие праздничным украшением. Толкин добавил к описанию Медусельда всего одно иностранное слово, louver: оно означало устройство, заменявшее дымоход в зданиях, которые отапливались дровами, но при этом не имели дымовой трубы.
Зал Минас-Тирита выглядит совершенно иначе: здесь мы тоже видим узкие окна и множество колонн, но все помещение лишено цвета и даже в каком-то смысле – жизни.
Ни занавесей, ни гобеленов, ни деревянной утвари; меж колонн застыли суровые изваяния.
В этот раз исконное название гобелена, web, в описании гондорского дворца выглядит столь же чужеродным, как и слово louver в чертогах конунга Ристании. Еще одно отличие состоит в том, что Теоден восседал на огромном золоченом троне, установленном на помост, на ступеньках которого, у него в ногах, сидел Грима Гнилоуст. В зале Денэтора тоже имеются и трон, и помост, однако трон этот пустует, а сам Денэтор словно в знак смирения сидит на простом кресле, установленном на нижней ступени помоста, то есть на том же месте, которое у Теодена занимал Грима. Таким образом, он словно дает понять, что в этом зале он не властитель, а лишь его наместник. При этом совершенно очевидно, что смирение Денэтора есть не что иное, как маска, под которой таится гордыня, и он дает выход этим чувствам в своем резком ответе Гэндальфу:
«Гондором правлю я, и никто иной, доколе не явится его законнейший повелитель».
Его пикировка с Гэндальфом по тональности напоминает едва не переросший в ссору диалог Арагорна и Боромира в главе «Совет», где гондорец пытался отстоять свое старшинство, а его оппонент, обладая этим статусом, не считал нужным заявить о нем официально.
По какому же праву тогда гондорцы считали, что относятся к Вышнему, а не к Среднему Клану, как объяснял хоббитам Фарамир? Отчасти мы можем судить об этом по еще одному, уже третьему по счету эпизоду во «Властелине колец», где проводится явная параллель между двумя сценами с участием разных персонажей. Речь идет про две встречи – Эомера с Арагорном в лугах Ристании (глава 2 книги III) и Фарамира с Фродо в Итилии (глава 4 книги IV). Эти две сцены явно имеют очень много общего. В обоих случаях вооруженный отряд натыкается на чужеземцев, которые забрели на спорную пограничную территорию. И там и там у предводителя отряда есть приказ задержать посторонних и доставить их правителю, но он принимает решение этот приказ нарушить, пусть даже и с риском для собственной жизни. В начале каждой сцены мы видим враждебную демонстрацию силы со стороны хозяев земель, которые, по сути, окружают пришельцев, и в обоих случаях младший член окруженной группы (Гимли или Сэм) практически выходит из себя в попытке отстоять честь своего лидера. Наконец, и там и там происходит разговор, первую часть которого слышат все присутствующие (в том числе все ристанийцы или все следопыты), а вторая происходит уже без посторонних, и предводитель группы настроен гораздо более миролюбиво. В то же время, при всей их явной схожести, встреча с ристанийцами и знакомство с гондорцами производят на читателя очень разное впечатление, и в этом случае, в отличие от двух предыдущих, чаша весов склоняется в пользу Фарамира и Гондора.
Во-первых, встреча Арагорна и его спутников с конниками на ристанийской равнине куда больше напоминает историю, которая могла бы разыграться в американских прериях, а не на английских лугах. Внезапное появление ристанийцев, которые мгновенно окружают чужеземцев, держа копья наперевес, ассоциируется, скорее, с команчами или какими-нибудь другими индейцами из старых американских фильмов, чем с героями английской старины. Невозмутимость Арагорна свидетельствует о том, что он не понаслышке знаком со стоицизмом, присущим, как гласят легенды, коренным американцам. Эомер явно настроен очень агрессивно, и диалог между двумя сторонами едва не перерастает в поединок, хотя следует признать, что и Арагорн со товарищи не торопятся назвать свои настоящие имена и настаивают на том, чтобы Эомер представился первым и дал ответ на их вопросы до того, как они ответят на его. Замечание Эомера о том, что «лучше бы мирным чужестранцам, забредшим в Ристанию в наши смутные дни, быть поучтивее», в свете этой сценки выглядит весьма справедливым. Напряжение спадает после того, как Эомер отзывает своих людей и смягчает тон беседы, перестав подчеркивать чувство собственного достоинства. Ему не чужды сомнения, он даже готов пересматривать собственное мнение и объяснять свои мотивы, а некоторые его слова звучат почти как извинение. В то же время он производит впечатление человека, который, будучи добрым и отзывчивым в глубине души, все же не может тягаться с Арагорном по уровню благородства. К тому же он слишком порывист и импульсивен, а эти свойства характера могут довести до беды.