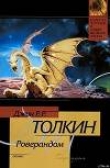Текст книги "Дж. Р. Р. Толкин: автор века. Филологическое путешествие в Средиземье"
Автор книги: Том Шиппи
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 28 страниц)
Но примечательно здесь то, чего они не делают. До наших дней дошло описание реального погребения вождя гуннов Атиллы, которое очень похоже на похороны Теодена, и Толкин ссылается на соответствующий текст в письме к своему сыну Кристоферу. Но в том случае всадники-варвары наносили себе раны, чтобы их вождь был достойно оплакан, орошаемый кровью мужей, а не слезами женщин, а после погребения Атиллы приносили в жертву рабов, участвовавших в обряде, чтобы они сопровождали его в загробный мир. Те варвары были гуннами, но при первом же упоминании англичан в исторических источниках римский историк Тацит сообщает о том, что они приносили человеческие жертвы своей богине Нерте (или богу Ньёрду), отправляя их на дно. В торфяных болотах Южной Ютландии было найдено немало сохранившихся тел утопленников, что подтверждает справедливость этих слов. Однако ристанийцы ничего подобного не делают. Они не христиане, но и на настоящих язычников тоже не похожи.
Что до гондорцев, то они уделяют церемониям гораздо больше внимания, чем кто бы то ни было в этой книге. Один из их обычаев напоминает благодарственную молитву перед едой: перед началом трапезы они обращают взор на запад – не только в память о Нуменоре, но «дальше на запад, к нетленному Блаженному Краю, и еще дальше, к Предвечной отчизне». Что характерно, Фродо и Сэм не понимают, о чем говорит Фарамир, и никто не дает им дополнительных пояснений, однако гондорцы верят в валаров – сверхъестественные силы, которые стоят выше людей, но ниже Единого. Вероятно, Толкину непросто было объяснить своему другу-иезуиту, каким статусом обладали эти «полубоги» и чем они отличались от языческих идолов. Кроме того, они являют собой своего рода анахронизм – впрочем, возможно, это было сознательное решение Толкина. Когда в главе 7 книги V Денэтор решает совершить самоубийство (для католика такой поступок, естественно, был вдвойне отвратителен), Гэндальф его отчитывает:
«Не волен ты, наместник, предуказывать день и час своей смерти… Одни лишь [языческие (heathen)][72] владыки древности, покорствуя темным силам, назначали этот час и, одержимые гордыней и отчаянием, убивали себя, а заодно и родню, чтоб легче было умирать».
Здесь Гэндальф говорит о погребальном жертвоприношении, признавая, что подобная практика существовала и в Средиземье, однако стоит отметить знаковое и в каком-то смысле нелогичное употребление им прилагательного heathen. Как это ни парадоксально, heathen – это слово из сугубо христианского лексикона. Оно представляет собой древнеанглийский аналог латинского paganus (изначально – «сельский, провинциальный», затем «языческий») – «происходящий из pagus (округа) или pays (местности)», но не peasant (крестьянин) в социальном смысле, а деревенщина, живущий в глуши, не знакомый с правилами поведения в цивилизованном обществе, – нехристь. Называя кого-то язычником, подразумевает ли Гэндальф, что сам он им не является? И если это так, то кто он тогда? Этот вопрос, как обычно, остается без ответа.
Самое глубокое в Средиземье проявление религиозных чувств описано в приложении А (V), в «Повести об Арагорне и Арвен». В ней есть несколько сцен смерти, в том числе матери Арагорна Гилраэни, при этом в них заметно отсутствие так называемого религиозного утешения. Гилраэнь умирает, заявив, что у нее «уже нет сил бороться» с надвигающейся Тьмой. Сын уверяет ее, что «за Тьмой придет рассвет», но она отвечает лишь загадочными поэтическими строками на квенья: «Я отдала свою Надежду [то есть Арагорна] дунаданам и ничего не оставила себе». Является ли упомянутый Арагорном «рассвет» некой надеждой на спасение, обетованием бессмертия? Или он имеет в виду лишь шанс на победу в войне, приближение которой чувствует Гилраэнь? В описании смерти самого Арагорна автор идет несколько дальше. Умирающий говорит своей жене-эльфийке:
«Уйдем в печали, но не в отчаянии. Слушай! Не навек привязаны мы к Кругам Мира, и за ними – больше чем память. Прощай!»
Это предполагает наличие за пределами Средиземья иного мира, а слова «больше чем память» могут указывать на грядущую встречу на некоем аналоге Небес. Однако это завуалированное обетование не убеждает Арвен, которая пожертвовала своим эльфийским бессмертием, чтобы выйти замуж за Арагорна. Пожалуй, самые печальные строки в этой повести посвящены ее собственной смерти в Кветлориэне, на Кургане Горестной Скорби, где она
покоится с тех пор. Мир меняется, дни ее жизни забыты новыми людьми, и золотой эланор не цветет больше к востоку от Моря.
Но вернемся от эмоций к грамматике. Синтаксис английского текста – «there is her green grave, until the world is changed, and all the days of her life are utterly forgotten» – оставляет ощущение двусмысленности. Означают ли они, что Арвен будет покоиться там до тех пор, пока мир не изменится, а сейчас дни ее жизни забыты? Или что Арвен будет покоиться там до тех пор, пока мир не изменится, а дни ее жизни не будут забыты? Если верно второе, то изменение мира уже произошло, и эта фраза означает лишь, что могила Арвен по-прежнему нетронута. Однако первый вариант тоже возможен, и в таком случае в нем читается полунамек на то, что, хотя Арвен еще покоится в могиле и дни ее жизни забыты, мир пока не изменился. Получается, что по ту сторону «тех пор» что-то есть – и в нашем будущем, и в ее.
Можно отметить, что Том Бомбадил разделяет это убеждение: он велит умертвию отправляться туда, «где врата всегда закрыты, / Пока мир не исцелится»[73]. То есть мир будет исцелен, будет изменен, а затем врата отворятся, и (возможно) воскреснут мертвые. Мудрейшие обитатели Средиземья (Гэндальф, Арагорн, Бомбадил) имеют некое представление об этом будущем воскресении, о жизни после смерти, но никогда не заявляют о нем открыто; кроме того, Арвен и Гилраэнь – а уж тем паче хоббиты – не разделяют их убеждение. Теоден, как и Торин в «Хоббите», исповедует некий культ предков, согласно которому мертвые уходят к праотцам, однако эта вера характерна лишь для самых знатных героев. Теоден и вовсе может иметь в виду лишь то, что он будет похоронен рядом со своими предшественниками и что его курган вознесется рядом с другими в Эдорасе.
Таким почти полным отсутствием религии общества Средиземья отличаются от всех известных нам человеческих обществ. В этом смысле его действительно можно назвать Нетландией. Более тактичным (и более приемлемым для католика) вариантом было бы утверждение о том, что Средиземье – это некое чистилище, обитатели которого, как некрещеные праведники или языческие философы у Данте, считаются не язычниками и не христианами, а чем-то средним.
Кроме того, Толкин не единственный писатель, выбравший местом действия такой аналог чистилища. Автор поэмы «Беовульф» опустил примерно те же подробности (погребение Беовульфа проходило как у Теодена, а не как у Атиллы) и тоже один-единственный раз употребил анахронизм hæðen (языческий) по отношению к данам-идолопоклонникам (об этом Толкин говорит в своей лекции 1936 года). Возможно, параллель с «Беовульфом» способна указать на задачу, которую ставил перед собой Толкин, и на его намерения, а также пролить некоторый свет на этот парадокс «в основе своей католического произведения», в котором ни разу не упоминается Бог.
Многие люди отмечали и еще больше – ощущали, что «Властелин колец» в той или иной мере представляет собой «мифическое» произведение. Однако слово «миф» имеет несколько значений. Одно из них, которое точно актуально в данном случае, связано с представлением о том, что основная задача мифа состоит в устранении противоречий, в посредничестве между несовместимыми явлениями и в объяснении таких явлений.
Для наглядности приведем пару примеров. Христиане, как и последователи других монотеистических религий, верят в Бога, Который является одновременно всемогущим и милостивым. При этом никто, даже Боэций, не может не заметить, что в мире существуют незаслуженные страдания, безнаказанное зло, невознагражденная добродетель. Противоречие между ними устраняется с помощью мифа об Адаме и Еве, райском саде и грехопадении человечества, который объясняет, что зло является плодом человеческого непослушания и существует для того, чтобы люди могли пользоваться свободой воли, свободой сопротивляться или поддаваться искушениям, без которой они были бы рабами, а не чадами Божьими. Это объяснение приводят тысячи христианских богословов, Мильтон в «Потерянном рае», а за ним и К. С. Льюис, который в 1943 году изложил сюжет «Потерянного рая» языком ХХ века в своем романе «Переландра».
В то же время, если верить скандинавской мифологии в пересказе Снорри Стурлусона, получается, что его предки-язычники уповали на защиту богов, таких как Тор, однако (в отличие от христиан) считали их не всемогущими и даже смертными. Пределы их силы описаны в мифе о путешествии Тора и Локи к королю великанов, где Тор старается изо всех сил, однако не может победить сначала Утгарда-Локи, затем Мирового Змея и, наконец, Элли (Старость). Обе эти истории – и о райском саде, и о путешествии Тора – основаны на некоем противоречии в вере и призваны его объяснить.
Однако для Толкина внутреннее противоречие, составляющее природу мифа, было повседневным явлением. Будучи профессором англосаксонского языка, английского языка и литературы, почти каждый день своей трудовой жизни он читал, преподавал или приводил в пример такие произведения, как «Беовульф», «Старшая Эдда» или «Младшая Эдда» Снорри Стурлусона, которые так или иначе имели неоднозначный статус в христианстве. Почти все они были записаны христианами, такими как автор «Беовульфа» и исландец Снорри (как минимум два столетия спустя). Но в некоторых случаях они могли быть написаны язычниками (как многие из поэм «Старшей Эдды») или имели явно языческое содержание (как «Младшая Эдда»), или повествовали о героях, которые, как было известно и самому автору-христианину, жили в языческие времена, а значит, наверняка были язычниками (как Беовульф).
Начнем с конца. Как следовало относиться к героям, принадлежащим к последней категории? Один из общеизвестных фактов по поводу «Беовульфа» состоит в том, что в конце VIII века, незадолго до уничтожения викингами Линдисфарнской обители, англосаксонский богослов Алкуин написал ее настоятелю гневное письмо, призывая его запретить монахам слушать рассказы о языческих героях – в частности, о некоем «Ингельдусе» (очевидно, он имел в виду второстепенного персонажа поэмы «Беовульф» – Ингельда, короля хадобардов). Он сформулировал свое мнение в форме вопроса, на который сам же и ответил:
Ибо какое отношение имеет Ингельд ко Христу? Дом мал, и не может вместить их обоих. Царь Небесный не станет сообщаться с заблудшими язычниками, которых называют королями, ибо вечный Владыка царит на Небесах, а заблудший язычник стенает в аду.
Так ли это? Если да, то такие поэмы, как «Беовульф», должны были бы изыматься из приличных монастырских библиотек (и, вероятно, многие из них действительно постигла эта участь). Но такое решение практически полностью уничтожило бы профессию Толкина и главное увлечение его жизни, поэтому примириться с ним он бы никак не смог. Кроме того, совершенно ясно, что, хотя автор «Беовульфа» ни разу не упоминает в своем произведении Христа, сам он был христианином ничуть не менее ревностным, чем его соотечественник Алкуин: просто они расходились во мнениях по поводу места язычников, особенно тех, кто (в отличие от викингов, которые уже готовились к наступлению на Линдисфарнскую обитель) не отверг Благую Весть, а просто никогда о ней не слышал и не причинял христианам никакого вреда.
Можно сказать, что вся поэма «Беовульф» служит для примирения противоречивых мнений, чем очень похожа на «Властелина колец». Оба произведения были написаны искренне верующими христианами, но ни в одном из них нет никаких характерных примет их веры; причем Толкин пошел еще дальше и не оставил в своей работе вообще ни одного упоминания религии ни в какой форме. В каждом случае смерть героев обставлена весьма двусмысленно. Уход Арагорна, как и гибель Беовульфа, оставляет смутное ощущение надежды или будущего утешения, однако ни в одном из произведений эта надежда не выражена в явном виде, и хотя оба описания смерти полны достоинства, они омрачены печалью и неопределенностью по поводу будущего. В «Беовульфе» присутствуют не только содержащие неясную угрозу упоминания «тьмы» или «мрака», но и намеки на нечто вроде валаров – ибо хотя героя Скильда в утешение данам посылает Бог, в путешествие по морю его отправляют существа, известные лишь как «они», которые наверняка исполняют волю Бога, но при этом, возможно, наделены сверхчеловеческой силой. Наконец, оба произведения разрешают одно и то же противоречие посредством медиации, чуждой таким ретроградам, как Алкуин.
Следует ли непременно верить в то, что все, кто жил до пришествия Христа или между Его воплощением и проповедью Евангелия, обречены и не имеют надежды на спасение? Ни Толкин, ни древнеанглийский поэт, чье имя не дошло до наших дней, не выражают по этому поводу никакого мнения и даже не упоминают об этом вопросе, но оба изображают языческий или дохристианский мир с большой симпатией, не показывая его неприглядную сторону – ни рабство, ни человеческие жертвоприношения, ни языческих богов. В их книгах совмещается несовместимое – язычество и праведность. Будет ли носитель обоих этих качеств осужден за унаследованное от предков язычество или спасен за личную праведность? В Средиземье (как мы видим, в это название вложено сразу несколько смыслов) этот вопрос не должен и даже не может подниматься.
Миф о Фродо
Связь между моим последним тезисом и центральным сюжетом «Властелина колец» состоит в имени Фродо и в его носителе. Здесь есть одна странность: несмотря на то что он должен был бы стать «наиболее известнейшим из хоббитов», его имя не поясняется и даже не упоминается в Приложении F, где говорится об именах и названиях, распространенных в Хоббитании.
Толкин раскрывает тему имен собственных очень подробно. По его словам, большинство из них переведены со всеобщего языка Средиземья на английский по смыслу, хотя в обоих этих языках происходили процессы стирания значений, в результате которых многие люди теперь не осознают, что такие составные части топонимов, как bottle (или bold), раньше означали «жилище», поэтому сейчас эти названия кажутся более странными, чем в прежние времена.
Имена хоббитов, как сообщает Толкин, делятся на две основные категории. К первой относятся имена, которые «ничего не означают», такие как Бильбо, Бунго, Поло и так далее. Некоторые из них случайным образом совпадают с современными английскими именами, например Отто, Одо, Дрого. Эти имена автор «оставлял как есть, лишь изредка меняя окончание», поскольку в именах хоббитов (как и в древнеанглийском языке) окончание – a указывает на мужской род, а – o и – e – на женский. Таким образом, настоящее имя Бильбо – Бильба. Однако существует и вторая категория: в некоторых семьях был обычай давать детям «громкие» имена, заимствованные из древних легенд. Толкин сообщает, что не стал оставлять их в исходном виде, но заменил полузабытыми именами из легенд, такими как Мериадок, Перегрин и Фредегар, которые звучат совсем не так, как в оригинале, но создают такое же впечатление.
Вопрос в том, к какой категории относится имя Фродо – единственное из имен значимых персонажей «Хоббита» и «Властелина колец», которое Толкин не разбирает и даже не упоминает в Приложении. Возможно, оно составляет третью категорию, куда не входит больше никаких имен. Это имя похоже на те, которые не несут никакой смысловой нагрузки, как Бильбо. В таком случае правильное его написание не «Фродо», а «Фрода». Однако имя Фрода несет смысловую нагрузку. Так же, как и имена Мериадок и Фредегар, оно заимствовано из древней героической литературы, однако, что немаловажно, почти совсем забыто – поэтому очень подходит этому персонажу. Фрода был отцом героя Ингельда, легенды о котором запрещали слушать монахам Линдисфарнской обители. Ингельд один раз упоминается в «Беовульфе» как «сын Фроды, счастливец», и больше в древнеанглийских источниках о Фроде ничего не сказано. Однако в древнескандинавском имя Фрода, которое звучит как Fróði (Фроди), встречается довольно часто и непоследовательно, как будто авторы позднее пытались привести в соответствие разные противоречащие друг другу легенды.
Одно можно сказать точно: и Фрода, и Фроди (по правилам в обоих требуется долгая гласная – fróda, fróði) в переводе с древнеанглийского и древнескандинавского означает «мудрец», и самый знаменитый Фроди во всей древнескандинавской культуре известен именно своей мудростью, прежде всего связанной с отказом от войны. Как утверждают и Саксон Грамматик (около 1200 года), и Снорри Стурлусон (около 1230 года), этот Фроди был современником Христа. В годы его правления не было ни убийств, ни войн, ни краж, ни грабежей, и это золотое время носило название Fróða-frið (мир Фроди). Оно закончилось из-за того, что этот покой на самом деле исходил от волшебной мельницы, на которой Фроди молол мир и благоденствие, но, когда он отказался дать передышку вращавшим жернова великаншам, те взбунтовались и намололи войско, чтобы убить Фроди и забрать его золото. Согласно норвежским народным поверьям, та волшебная мельница до сих пор стоит на дне Мальстрёма, но теперь она мелет соль, поэтому море соленое.
Есть ли между этой историей, «Беовульфом» и «Властелином колец» какая-нибудь связь, помимо имен персонажей? Одна из особенностей, которые, возможно, поразили Толкина, – это резкий контраст между Фродой и Ингельдом, отцом и сыном. Первый из них стремится к миру – второй же, яркий представитель северного героического общества, не отступится от своего и отомстит обидчику любой ценой. Есть что-то печальное, парадоксальное и очень правдивое в том, что имя Ингьяльд было популярно в Норвегии много поколений, и им интересовались даже линдисфарнские монахи, а история его отца быстро превратилась в притчу о бесплодном труде.
Кроме того, Фроди не только современник Христа, но и его аналог (разумеется, потерпевший неудачу) – тот, кто безуспешно пытается разорвать порочный круг войн, мести и героизма. Он терпит неудачу и в личном плане (его убивают), и идеологически – его сын и его народ радостно возвращаются к прежним дурным привычкам: мщению, ненависти и язычеству. В конце концов «мир Фроди» мог быть просто случайностью, неосуществившимся отражением пришествия Христа, о котором язычники даже не узнали. Возможно, этот собирательный образ Фроды/Фроди был для Толкина воплощением «праведного язычника», проблеском печальной истины, стоящей за героическими иллюзиями, мелькнувшим и вскоре погасшим светом, который не смог светить во тьме языческой эпохи.
Все это очень похоже на толкиновского Фродо. В начале книги его не зазорно будет назвать «обычным среднестатистическим хоббитом», ничуть не более агрессивным, чем все остальные, – все-таки в Хоббитании никто и никогда никого не убивал, – но способным за себя постоять. Он ударил мечом умертвие в Могильниках, попытался заколоть назгула на Заверти, вонзил клинок в ногу тролля в Мории. Он пожалел, что Бильбо не убил Горлума, когда ему представилась такая возможность. Однако после пребывания в Кветлориэне Фродо все чаще начинает проявлять сдержанность.
В главе 1 книги IV он грозится убить Горлума, но так и не делает этого, а позднее, в главе «Запретный пруд», спасает его от лучников, хотя Сэму кажется, что лучше бы промолчать и дать им его застрелить. В главе 2 книги VI Фродо расстается с Жалом и, оставляя себе оркский кинжал, говорит: «Вряд ли мне еще понадобится оружие». А через несколько страниц выбрасывает и кинжал со словами «не хочу я никакого оружия, ни нашего, ни ихнего». К этому моменту Фродо становится практически пацифистом. В главе «Оскверненная Хоббитания» он несколько раз демонстрирует непокорность – до того момента, как Пин обнажает меч в ответ на оскорбительные слова косоглазого охранца. И хотя Мерри и Сэм тоже выхватили мечи и бросились ему на помощь, «Фродо не шевельнулся». После этого он выступает в защиту даже Лотто, напоминает остальным, что «хоббитов убивать нельзя… в Хоббитании никогда друг друга не убивали», но потом отступается, ничего не отвечая на слова Мерри «драки не миновать». Во время битвы у Приречья он не обнажает меча, а его основная забота – удержать разгневанных хоббитов от убийства пленных. И даже здесь он действует довольно пассивно. Говоря с Мерри (который с ним не согласен и настаивает, что Хоббитанию не спасти «ни аханьем, ни оханьем»), Фродо способен отдать приказ: «Держите себя в руках!» Но когда приближается битва у Приречья, Мерри трубит в свой рог и окружающие разражаются возгласами, Фродо, по-видимому, все больше отходит на второй план:
– И все-таки, – упорно повторил Фродо [тем, кто стоял рядом][74], – лучше бы никого не убивать, даже охранцев, разве что придется поневоле.
Последние два пункта говорят о том, что Фродо не стал абсолютным пацифистом (подобное развитие событий, пожалуй, было бы немыслимо для человека, прожившего такую жизнь, как Толкин). Однако слова «и все-таки», видимо, указывают на то, что Фродо смирился с поражением в этом споре, а «тем, кто стоял рядом», – на то, что он уже не готов отстаивать даже отказ от применения силы. В конце концов он лишь говорит Мерри: «Вот и ладно… Давай распоряжайся». Он запрещает убивать Сарумана и пытается спасти даже убийцу-людоеда Гнилоуста, но судьбу первого берет в свои руки Гнилоуст, а второго – хоббиты-лучники.
Все это влияет на отношение к Фродо жителей Хоббитании. Как уже говорилось выше, Сэм «не без грусти замечал», что его хозяина затмили рослые и «вельможные» хоббиты Пин и Мерри и что «не очень-то его и чтут в родном краю». Как говорится, нет пророка в своем отечестве, и Фродо действительно все больше выступает не в роли героя, а в роли провидца. Впрочем, и в других местах слава о нем идет какая-то не такая. Можно вспомнить, как Иорета рассказывала своей кузине, что Фродо
«со своим оруженосцем, вдвоем они пробрались в Сумрачный Край, напали на Черного Властелина, а потом взяли да и подожгли его чародейский замок, хочешь верь, хочешь не верь. Врать не стану, сама не видела, в городе говорят».
Говорят в городе неправду, но это героическая неправда – такая, как нравится людям, ведь, по словам Мильтона,
…величье доблестных заслуг
Терпенья, мученичества – никем
Не прославляемо…
Интересно, что пел менестрель в «Повести о девятипалом Фродо и о Кольце Всевластья», но что бы там ни было, повесть эта теперь забыта. Конец приключения Фродо стерся из памяти Средиземья. Бильбо молва превратила в фольклорного персонажа – «Безумного Бэггинса»[75], эльфы и гномы остались в легендах об оборотнях и искусных оружейниках, и даже «черная башня»[76] упоминается в пьесе «Король Лир» в эпизоде с «бедным Томом». Но от Фродо не остается и следа, кроме разве что смутных намеков на короля-неудачника с благими намерениями и злой судьбой, чья история померкла, с одной стороны, перед славой его сына, обуреваемого жаждой мести и соответствующего тогдашним представлениям о героизме, а с другой – перед пришествием истинного героя, Христа, на фоне которого Fróða-frið (мир Фроди) кажется совсем незначительным явлением. Впрочем, Толкин умудрился обыграть в повествовании даже саму эту разрозненность источников.
«Какое отношение имеет Ингельд ко Христу?» – спрашивал Алкуин. Ответ очевиден: никакого. Но Фрода имеет отношение к ним обоим – одному он отец, другому аналог. Он выступает связующим звеном, посредником, как и толкиновский Фродо – самый срединный персонаж во всем Средиземье. Было бы совершенно неправильно предположить, будто Фродо воплощает образ Христа или представляет его аллегорически, равно как и Кольцо отнюдь не служит обозначением ядерного оружия. Как сказал Толкин по поводу Кольца (и как он с легкостью показал бы в отношении Христа), различия между ними более очевидны, чем сходства.
И все же Фродо олицетворяет нечто близкое: может быть, естественную для человека попытку проявить свою врожденную порядочность, уйти от инерции (Хоббитании), не погрязнув в обычном яростном героическом бесстрашии (как Боромир и остальные), и добиться пусть небольшого успеха, не располагая возможностями героев и мифических существ-«долгожителей» (longaevi), таких как Арагорн, Леголас и Гимли. Для этого ему надо уничтожить Кольцо, которое являет собой просто мирскую власть и амбиции, и он совершает этот поступок без надежды на помощь (или спасение) извне, из-за пределов «Кругов Мира».
И в этом еще одно свидетельство его современности, принадлежности к обществу, которое, как Толкин прекрасно знал, по большей части утратило веру в Бога и не смогло заменить ее никакой другой развитой теорией. Достаточно ли человеку той самой «врожденной порядочности»? Как христианин Толкин был бы вынужден ответить отрицательно. Но как специалист по языческой и околоязыческой литературе он не мог не видеть, что и у язычников была своя праведность и стремление к чему-то большему. Созданный им миф – или сказание – выражает одновременно надежду и печаль. И то, что это оценили многие из тех, кто разделял его истинные убеждения, и еще больше тех, кто их не разделял, – это большой успех.
Вневременная поэзия и подлинные традиции
Одно из различий между применимостью и аллегорией, между мифом и легендой состоит в том, что миф и применимость вечны, а аллегория и легенда привязаны к определенному времени. Разумеется, это различие не абсолютно, и в любой истории могут одновременно присутствовать и те и другие элементы. Саруман и бургомистр Озерного города оба являют пример некоего постоянного качества, которое может проявляться у людей в любую эпоху и которое, в частности, легко увидеть в современности. Но это не означает, что они лишаются своей особой роли в конкретной истории, происходящей в конкретное время, – было бы досадно, если бы их низвели до абстрактных ярлыков. К счастью, в тексте «Властелина колец» не раз встречаются примеры, показывающие отношение Толкина к отдельной эпохе и к вневременности мифа. Часто они бывают связаны с предметом, который пока не обсуждался ни в связи с «Хоббитом», ни в связи с «Властелином колец», однако имеет большое значение для обоих произведений и для их автора, – с поэзией Толкина.
Так, создается впечатление, что поэзия в Хоббитании – простая, незатейливая, бесхитростная как по теме, так и по средствам выражения – постоянно меняется. В первой главе «Властелина колец», когда Бильбо расстается с Гэндальфом и уходит из Бэг-Энда, в тексте встречается стихотворение под названием «Старая походная песня». Хоббит поет ее в дверях, и она, очевидно, тесно связана с конкретной ситуацией:
В поход, беспечный пешеход,
Уйду, избыв печаль, —
Спешит дорога от ворот
В заманчивую даль…
Бильбо поет о том, что собирается сделать, и «ворота», от которых «спешит дорога», – это та самая дверь, у которой он стоит, на которой много лет назад Гэндальф начертал свой волшебный знак и от которой Бильбо тогда действительно поспешил по дороге навстречу приключениям. В следующий раз те же самые стихи звучат уже в исполнении Фродо незадолго до первой встречи хоббитов с Кольценосцем. Однако можно заметить два изменения: во-первых, Фродо не поет, а декламирует, и во-вторых, вместо слов «беспечный пешеход» он произносит «усталый пешеход»[77]. Какая из этих версий правильная? Очевидно, ни одна. Можно сказать, что Фродо адаптировал песню Бильбо к своей собственной ситуации, куда менее радужной и более безнадежной, но не исключено, что и Бильбо в свое время сделал то же самое. Когда Фродо замолкает, Пин говорит: «Смахивает на вирши старины Бильбо… Или это ты сам сочинил в его духе? Не очень-то ободряет». Фродо же отвечает: «Даже не знаю… Пришло на язык так, будто сочинилось; но, может, мне это просто памятно с очень давних пор». Мы-то знаем, что Фродо не сочинил эту песню сам, ведь мы уже слышали ее от Бильбо. Но это не значит, что ее сочинил Бильбо или что он сочинил ее целиком. Спустя три страницы после выступления Фродо хоббиты запевают просто «Походную песню», как она значится в указателе, и на этот раз нам сообщают, что «слова сочинил Бильбо», а «напев был древнее здешних гор».
Следует отметить, что два эти произведения – «Старую походную песню», которую исполняют Бильбо и Фродо, и более длинную «Походную песню» в хоровом исполнении Фродо и его спутников – очень легко различить. Первая из них представляет собой восьмистишие с чередующимися рифмами ababcdcd. Вторая состоит из куплетов, в каждом из которых по десять строк: шесть длинных и четыре коротких. И все равно в указателе они перепутаны, и по вполне понятной причине. Дело в том, что «Старая походная песня» встречается в тексте еще раз: ее повторяет Бильбо в Раздоле, в конце главы 6 книги VI. Это одна из множества печальных сцен во «Властелине колец»: всем ясно, что Бильбо умирает.
Его подводит память, он постоянно засыпает и даже спрашивает: «Кстати же сказать, Фродо: помнится, я тебе подарил колечко, оно как?» – он уже забыл все, что случилось за это время. Он продолжает свою душераздирающе неуместную болтовню, а потом затягивает третий вариант «Старой походной песни», или стихов о дороге, на этот раз существенно измененный:
Другой теперь уйдет в поход —
Уйдет, избыв печаль, —
Спешит дорога от ворот
В заманчивую даль.
А я, усталый пешеход,
В гостеприимный дом
Вернусь из странствий, без забот
Забудусь мирным сном[78].
Говоря о «гостеприимном доме» и о «сне», Бильбо может иметь в виду – и даже наверняка имеет в виду – Раздол и сон, в который погружается сразу, как только замолкает (подобно тому, как слово «ворота» в первой версии стихотворения, вполне возможно, обозначало дверь его дома). Но всем присутствующим сразу становится ясно, что в этих строках есть определенный символизм и что «сон» означает «смерть». Сэм осторожно и тактично замечает, что Бильбо не больно-то много написал: «И нашу повесть вряд ли напишет», – а Бильбо просыпается лишь для того, чтобы ответить и в каком-то смысле назначить Фродо своим литературным правопреемником. То есть Бильбо, как и Фродо, перефразировал стихи в соответствии со своими личными обстоятельствами (развив заданную племянником тему «усталого пешехода») и с тем, что происходит сейчас в комнате. Но чем больше меняются строки, тем яснее становится их символический смысл: дорога – это жизнь, по ней можно идти беспечно или устало, но в конце концов с нее придется свернуть, уступив ее другим.