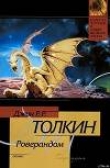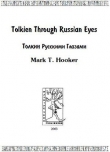Текст книги "Дж. Р. Р. Толкин: автор века. Филологическое путешествие в Средиземье"
Автор книги: Том Шиппи
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 28 страниц)
Мнение Боэция таково: зла не существует. То, что люди называют злом, – это всего лишь отсутствие добра. Кроме того, в своем неведении люди часто считают злом то, что в конечном счете или в соответствии с Божьим промыслом обернется им на пользу (например, смертный приговор). Философия говорит Боэцию о том, что «всё есть благая Фортуна»[62] (omnem bonam prorsus esse fortunam). Из этого убеждения следует, как Фродо говорит Сэму в главе «Башня на перевале», что зло не способно творить, «не может создать ничего настоящего», а значит, оно не было сотворено и возникло (это уже постулат из книги «Просто христианство») тогда, когда люди своей волей отошли от служения Богу и перестали связывать свои намерения с Ним. В конце концов, когда Божий замысел будет реализован, все зло может быть аннулировано, отменено, приведено к добру, подобно тому как грехопадение человека было искуплено вочеловечением и крестной смертью Христа. Как отметили все, кто читал Боэция (а среди его переводчиков на английский язык были король Альфред, Чосер и королева Елизавета I), с его мнением можно соглашаться или не соглашаться, но в силе духа ему не откажешь, учитывая, что эти строки он написал в камере смертников, ожидая казни. Его теория о том, что зла не существует, пользуется большим авторитетом как сама по себе, так и в ее общехристианском осмыслении.
Тому есть ряд подтверждений, которые Льюис изложил бытовым языком, а Толкин изобразил художественными средствами – как ни странно, на примере орков. Начнем с Льюиса. Со свойственной ему простотой в начале своей книги он заявляет о том, что даже злодеи чувствуют потребность оправдать свои поступки с точки зрения добра: нарушившие обещание ссылаются на изменение обстоятельств, убийцы утверждают, что их спровоцировали, зверства обосновываются как возмездие за другие зверства, совершенные ранее, и так далее. По словам Льюиса, «мы не знаем никого, кто любил бы зло просто за то, что оно зло»[63], и поскольку добро и зло в этом смысле не симметричны, то зло есть отсутствие, как считал Боэций, а также «паразит, а не что-то изначальное и самостоятельное», что очень похоже на высказывание Фродо. Однако это утверждение остается довольно абстрактным. И можно заметить, что Толкин там и сям предпринимает попытки проиллюстрировать его не только реалистично, но и даже забавно – для тех, кто обладает хорошим чувством юмора.
Наглядным, хотя и не замеченным многими примером таких попыток могут служить орки. Разговоры орков приводятся во «Властелине колец» шесть раз. Подробнее я рассматриваю их в своей статье, опубликованной в вышеупомянутом сборнике Кларка и Тиммонса, но для наглядности достаточно взять лишь одну их беседу. В последней главе тома «Две твердыни» Фродо, парализованный ядом паучихи Шелоб, попадает в руки орков, но Сэм успевает забрать у него Кольцо. Став невидимым, Сэм подслушивает диалог двух оркских главарей – Горбага из Минас-Моргула и Шаграта из Кирит-Унгола. Горбаг предупреждает Шаграта, что одного-то «лазутчика», Фродо, они поймали, но ведь был кто-то еще – видать, «огромный богатырь <…> с эльфийским мечом», – кто ранил Шелоб и остался на свободе. «Замухрышка», которого они поймали, небось, «тут вообще сбоку припека. Да тот великан с острым мечом и возиться-то с ним не стал, бросил подыхать: эльфы, они такие».
В речи Горбага явно слышится осуждение. Он убежден в том, что бросать товарищей нехорошо и достойно презрения. Кроме того, так обычно поступают противники – «эльфы, они такие», такой поступок вполне в их духе. Почти все, что говорит Горбаг, не соответствует действительности, и буквально на следующей странице мы видим пример оркского представления о нравственности. Шаграт знает кое-что, неизвестное Горбагу, а именно: у Шелоб припасены «разные яды на разные случаи». Обычно она сначала парализует свою жертву, а не убивает ее сразу. Шаграт спрашивает:
«Помнишь старину Уфтхака? Он вдруг запропал: день его нет, два нет, на третий идем – а он висит в уголочке живехонек и пялит зенки. Ну, мы и хохотали! Может, она его подвесила и забыла, но мы его так висеть и оставили – охота была с нею связываться!»
Что тут скажешь? Орки, они такие. Правда, осуждение в адрес тех, кто бросает товарищей, выражает Горбаг, а смеется над точно таким же своим поступком Шаграт, но, по всей видимости, между ними нет никаких разногласий по этому вопросу. И здесь, и в других случаях орки четко понимают, какие поступки заслуживают восхищения, а какие – презрения, и их представление полностью совпадает с нашим. Они не могут отвергнуть то, что Льюис называет «нравственным законом», и создать альтернативную нравственность, основанную на зле, так же как не могут отвергнуть законы биологии и начать питаться ядом. Они обладают нравственным началом, свободно и неоднократно рассуждают о том, что есть «хорошо», понимая под этим примерно то же, что и мы. Загадка в том, что это никак не влияет на их собственное поведение, и им, по-видимому, не присуща способность к самоанализу и самокритике (как показывает и процитированный выше разговор). Но человеку-то эти качества свойственны. И хотя орки занимают одну из низших ступеней на шкале зла, будучи просто «пехотой древней войны», Толкин явно и целенаправленно использует их для иллюстрации теории Боэция: зло есть лишь отсутствие, тень добра.
Проблема такого представления состоит в том, что оно противоречит естественной логике, а во многих обстоятельствах может быть чрезвычайно опасным. К примеру, можно прийти к следующему выводу: если согласиться с этим мнением, то следует отказаться от прохождения воинской службы по идейным соображениям и не оказывать сопротивления проявлениям зла на том основании, что это лишь ошибка восприятия. В конце концов, если верить Боэцию, зло причиняет больше вреда самому злоумышленнику, нежели жертве, и тех, кто его совершает (или кажется, что совершает), скорее, следует жалеть, а не бояться их и не бороться с ними. Король Альфред, который диктовал перевод Боэция на древнеанглийский язык в перерывах между отчаянными сражениями с викингами-язычниками и повешением пленных пиратов (а однажды даже своих же мятежных монахов), наверняка не во всем мог следовать заветам Боэция. А в то время, когда Толкин писал «Властелина колец», сдаться врагам его страны означало бы предать не только себя, но и многих других людей на милость бездушной машины концлагерей, газовых камер и массового уничтожения. Храбрый человек может быть готов воплощать учение Боэция в жизнь. Но вправе ли он навязывать последствия такой позиции другим, более беззащитным людям? Ни Толкин, ни король Альфред не стали бы так поступать.
В любом случае, в западном мировоззрении существует альтернативная традиция, которая никогда не имела статуса официальной, но которая естественно следует из житейского опыта. Согласно этой точке зрения, философствовать на тему зла можно сколько угодно, однако зло существует (это не просто отсутствие), и ему надо сопротивляться, с ним надо бороться – пусть не любыми доступными способами, но всеми праведными средствами. Более того, отказ от борьбы со злом с верой в то, что однажды Всемогущий устранит все невзгоды, – это нарушение долга. Такое убеждение опасно тем, что оно уводит в сторону ереси манихейства, или дуализма, – веры в то, что мир представляет собой поле брани между силами Добра и Зла, равными и противостоящими друг другу, так что между ними, по сути, нет никакой разницы, и каждый выбирает свою сторону лишь волей случая.
Получается, «Инклинги» могли проявлять некую терпимость к манихейству: в главе 2 книги II сборника «Просто христианство» Льюис, если можно так сказать, ставит дуализм на второе место после христианства, а потом уже начинает его критиковать, однако Толкину манихейство точно нравилось меньше, чем Льюису. Его очень задело замечание обозревателя литературного приложения к газете «Таймс» о том, что во «Властелине колец» хорошие и плохие просто пытаются уничтожить друг друга, так что между ними не ощущается никакой разницы: «С точки зрения нравственности здесь нечего выбирать» (цитата из письма, опубликованного в приложении к «Таймс» 9 декабря 1955 года, где обозреватель Альфред Дагган обосновывал свою позицию; позднее Толкин переписывался с Дэвидом Массоном, который оспорил именно вопрос (не)сходства добра и зла).
Толкин был более ортодоксальным христианином, чем Льюис, и менее терпимым ко всему, что приближалось к ереси. Тем не менее его воспитание, его вера и обстоятельства того времени позволяли ему остро ощущать глубинное противоречие между взглядами Боэция и манихеев, между авторитетом и опытом, между злом как отсутствием («Тьмой») и злом как силой («Черным Властелином»). Это противоречие в значительной мере определило сюжет «Властелина колец». Оно выражается не только через парадоксы призраков и теней, но и через Кольцо.
Зло и Кольцо
Неоднозначность Кольца показана при одном из первых же его упоминаний, в главе «Тень прошлого», когда Гэндальф попросил Фродо: «Дай-ка мне Кольцо». Фродо снял его с цепочки и «нехотя подал магу. Кольцо оттягивало руку, словно оно – или сам Фродо, или оба вместе – почему-то не хотело, чтобы его коснулся Гэндальф».
Оно или сам Фродо. Может показаться, что не так уж важно, какое из этих объяснений верно, но разница между ними представляет разницу между двумя мировоззрениями, о которых я говорил выше, – боэцианством и манихейством. Если Боэций прав, то зло коренится внутри, произрастая из человеческой греховности и отдаления от Бога. В таком случае Кольцо оттягивает руку из-за того, что Фродо (который, можно сказать, уже находится на самой ранней стадии формирования зависимости) подсознательно не хочет с ним расставаться. Но если и в манихействе есть крупица истины, то зло – это внешняя сила, которая каким-то образом привлекла на свою сторону само Кольцо, не обладающее сознанием. И тогда этот импульс действительно исходит от Кольца, подчиненного воле своего хозяина, который не желает быть узнанным.
Обе эти теории совершенно убедительны. Ранее описана сцена, в которой Бильбо не может себя заставить расстаться с Кольцом – забывает, что оно лежит у него в кармане, злится, когда Гэндальф начинает на него давить, не может принять решение, роняет конверт с Кольцом на пол, – и все читатели понимают, что это не случайности, а проявление собственных неосознанных желаний Бильбо.
Уж этому-то Фрейд нас научил! Однако весь сюжет «Властелина колец» пронизан представлением о том, что Саурон способен навязывать свою волю на расстоянии, приводя в движение силы зла, буквально оживляя Кольценосцев и даже орков. Гэндальф не раз говорит о Кольце как об одушевленном существе, которое предало Исилдура и покинуло Горлума, а в качестве объяснения приводит слова Бильбо о том, что «за ним надо приглядывать, оно бывает меньше и больше… а может вдруг соскользнуть с пальца и пропасть». С самого начала Кольцо предстает, с одной стороны, как некий усилитель движений души, умножающий неосознанные страхи или эгоистичные побуждения своих владельцев, а с другой – как разумное существо со своими собственными устремлениями и возможностями, что соответствует теориям о существовании зла внутри (по мнению Боэция) и вовне (по мнению манихеев).
Позднее эта двойственность проявляется более заметно и становится более значимой. Во «Властелине колец» Фродо надевает Кольцо шесть раз. Первый – в доме Тома Бомбадила. По-видимому, это не считается, поскольку на хозяина, что характерно, Кольцо не действует: Том не становится невидимым, надев его, и по-прежнему видит Фродо, когда его надевает он. Второй раз это происходит в «Гарцующем пони», когда Фродо «вдруг до ужаса захотелось исчезнуть». Разумеется, если бы он при этом надел Кольцо, это был бы его собственный поступок, «правда, захотел он будто не сам, а по чьей-то подсказке». В любом случае «он удержался от искушения». Он произносит речь, поет песню, а потом, падая со стола, где выделывал коленца, обнаруживает, что Кольцо оказалось у него на пальце. Случайно ли? По крайней мере, Фродо придумывает объяснение тому, как это могло получиться. Но в то же время «уж не само ли Кольцо, подумал он, сыграло с ним эту шутку и обнаружило себя по чьему-то желанию или велению?» Правду мы так и не узнаем, и второе объяснение не выглядит особенно правдоподобным. Кто из присутствующих в зале мог выразить такое повеление? Бит Осинник и иже с ним все-таки занимают слишком низкую ступень в иерархии злодеев и слишком невежественны, чтобы отдавать подобные приказы. Совсем иначе дело обстоит на Заверти, где на хоббитов нападают Кольценосцы.
Здесь манихейская концепция проявилась со всей очевидностью. Фродо помнил все предостережения, но «противиться не было сил». Ситуация отличается и от того, что было в Могильниках, где у Фродо мелькнула было мысль воспользоваться Кольцом, чтобы сбежать, но он без труда ее отбросил. На Заверти «он не думал о спасении… он просто принимал необходимость надеть Кольцо». Какое-то время он боролся с этим позывом, но в конце концов сопротивляться стало «невмоготу». Создается впечатление, что волю Фродо сломила более мощная сила – вне всякого сомнения, некое психическое воздействие призраков, на которое намекал Гэндальф. Но с другой стороны, при описании начала нападения (как и сцены в «Гарцующем пони») употребляется слово temptation (искушение)[64]: Фродо испытывает соблазн. Из этого мы понимаем, что, если бы он не устоял перед ним, ситуация развивалась бы совершенно иначе. Позднее Гэндальф сказал, что моргульский клинок не пронзил ему сердце, потому что он «на редкость стойко сопротивлялся». Возможно, он имел в виду, что Фродо увернулся, закричал и ударил Кольценосца мечом, сбив ему прицел в чисто физическом смысле. Но скорее всего, здесь есть и психологический аспект. Клинок действует через подавление воли, и если она не поддается, то его эффективность снижается, хотя он и не теряет силу полностью, как было бы в том случае, если бы зло сводилось только лишь к внутренним искушениям. Гэндальф сохраняет интригу замечанием: «У тебя, по-видимому, особая судьба… или участь… Я уж не говорю про твою храбрость…» Однако в данном случае он явно имеет в виду не одно из двух, а оба фактора – и судьбу, и храбрость. То же можно сказать и о характере Кольца.
На Амон-Ведаре (глава 10 книги II) Фродо надевал Кольцо дважды, оба раза вынужденно: сначала чтобы убежать от Боромира, а потом – чтобы незаметно покинуть Хранителей. При этом в первый раз он увидел Глаз Саурона и понял, что тот его ищет.
Он беззвучно шептал: Не отдам! Не сдамся! – а в беседке звучало: Отдам! Сдамся! <…> А потом в голове у него прозвенело: Сними! Сними же, дуралей, Кольцо!
В крохотном Хранителе противоборствовали две могучие силы. На мгновение они уравновесились, и он потерял сознание. А когда пришел в себя, то почувствовал, что ни Глаза, ни Голоса больше нет: у него снова была свободная воля, и он сорвал с пальца Кольцо – как раз вовремя.
При первом прочтении эта сцена кажется особенно загадочной, хотя ситуация немного проясняется, когда мы узнаем (как говорилось выше), что третий голос принадлежал Гэндальфу, который откуда-то «из заоблачных высей» противился воле «Черного Властелина». Но остальные два голоса – чьи они? Первый, судя по всему, принадлежит «ему самому», то есть Фродо. Второй может быть голосом Кольца – разумного существа, подчиняющегося призыву своего создателя, Саурона, как и всегда. А может быть, это, так сказать, подсознание Фродо, действующее под влиянием некоего стремления к смерти, присущего лично ему и усиленного Кольцом? Ведь, как мы знаем, Кольцо действует именно так. Оно овладевает людьми через их собственные помыслы, будь то жалость, стремление к справедливости, жажда знаний или желание спасти Гондор, и дает им абсолютную власть, которая их абсолютно развращает. Ему нужно что-нибудь, на что можно опереться, но, как говаривал отец Бильбо о драконах, у всякого есть слабое место. Носители Кольца могут «извиваться» между внешними и внутренними силами, но ведь именно так и превращаются в «призраков».
Манихейская сущность Кольца проявляется активнее по мере приближения к Мордору. Сэм надевает его дважды, только ввиду крайней необходимости, как и Фродо на Амон-Ведаре, но и он ощущает воздействие извне – «могучая нужна была сила, чтобы с ним совладать», – и тоже как внутреннее искушение. Впрочем, в этом случае очевидно, что соблазн превратиться в «Сэммиума Смелого, героя из героев» исходит преимущественно от Кольца, усиливающего любые мелкие эгоистичные помыслы, которые оно только способно найти. Сэм почти не замечает этого искушения, отмахиваясь от него как от тени, от простых «видений». Похожая ситуация сложилась на лестнице, ведущей в Кирит-Унгол: Фродо спрятался от Повелителя Кольценосцев, но тот его почуял. Фродо ощутил «гнетущее принужденье извне», под действием которого его рука «поползла к цепочке на шее». Но на этот раз «наконец воля Фродо проснулась», и ему удалось остановить движение руки, схватившись за фиал Галадриэли. Слово «наконец», несомненно, указывает на то, что раньше – на Амон-Ведаре, на Заверти, в «Гарцующем пони» – Фродо поддавался этому соблазну. Однако в данном случае очевидно, что «принужденье» исходит «извне».
Тем не менее впереди еще последняя и самая главная сцена – на Роковой горе, в кузницах Саммат-Наура. По мере приближения к ней ощущение внешнего принуждения становится все сильнее. Сэм видит, как Фродо вновь и вновь тянет руку к Кольцу и тут же ее отдергивает – «пока что воля одолевала искушение». Поэтому, когда Фродо наконец видит Глаз, нащупывает цепочку с Кольцом и шепчет Сэму: «Удержи мою руку, у меня нету сил» – а тот берет его за руку и держит ее без малейших усилий, даже «бережно», это вызывает удивление. Сила, с которой борется Фродо, имеет не физическую природу – это не магнит, действующий на всех без разбору. То, что для Фродо непреодолимо, для Сэма попросту незаметно. Точно так же для Фродо Кольцо становится непосильной ношей, но, когда Сэм поднимает его на закорки, ожидая, что то же самое «растреклятое Кольцо их обоих пригнет к земле», он почти не чувствует веса.
Однако, хотя внешняя сила не имеет власти над Сэмом, она все равно стремится на него воздействовать, вступив с ним в своеобразный диалог (как в сцене на Амон-Ведаре). Выглядит это так, будто Сэм ведет «спор с самим собой». Один голос полон оптимизма и решимости уничтожить Кольцо. Второй звучит как его «собственный голос», однако дважды называет его Сэмом Скромби, будто это кто-то другой; он утверждает, мол, идти дальше невозможно, что делать – непонятно, и вообще «ложись-ка, братец, спать, ну их в болото. До вершины все равно не доберешься». Чей же это голос? Конечно, не исключено, что в Сэме говорит его собственное уныние: большинство людей иногда начинают мысленно беседовать сами с собой. С другой стороны, вполне возможно, что это опять Кольцо усиливает внутренние переживания, на этот раз облекая их в речевую форму. Когда Сэм наконец поставил второй голос на место, земля под ними задрожала и послышался отдаленный грохот, словно какая-то внешняя сила признала его решение и выразила свое недовольство.
Все это складывается в вопрос о том, что помешало Фродо преодолеть последнее препятствие. Он пошел в Саммат-Наур, оставив Сэма бороться с Горлумом, а когда Сэм последовал за ним внутрь, то обнаружил, что даже звездинка Галадриэли уже не может ему помочь. Там, «в самом сердце владений Саурона… все другие силы подчинялись ему». И в эту минуту, стоя на краю Роковой Расселины, Фродо сдался. Он произнес:
«Я пришел. Но мне угодно поступить по-иному, чем было задумано. Чужой замысел я отвергаю. Кольцо – мое».
С этими словами он надел его в шестой и последний раз. Сделал ли он это по принуждению или поддался внутреннему искушению – вопрос принципиальный. Его слова свидетельствуют о втором, потому что он, судя по всему, твердо принимает ответственность на себя: «…я отвергаю. Кольцо – мое». Против этого говорит нарастающее ощущение приближения к самому сердцу силы, которой «подчинялись» все остальные. Если это так, то у Фродо было не больше шансов устоять, чем при разливе реки или оползне. Интересно также отметить, что в английском тексте Фродо говорит не «I choose not to do» (дословно: «я выбираю не делать»), а «I do not choose to do» («я не выбираю делать»). Может быть, Толкин не случайно написал именно так – все же он был специалистом в области языка. Фродо не выбирал – выбор был сделан за него.
Проблему решил Горлум, претворив в жизнь слова Фродо, сказанные за несколько минут до этого: «Если ты меня еще раз коснешься, будешь низвергнут в Роковую Расселину, в негасимый огонь», и поэтому вопрос, конечно, становится сугубо теоретическим. Но Толкин и был теоретиком, а они часто осознают значение теоретических вопросов, даже если его не осознают остальные. Виновен ли Фродо? Поддался ли он искушению? Или его просто победило зло? Если задаться такими вопросами, в них можно уловить неожиданный и зловещий отблеск, свидетельствующий о том, что противостояние между боэцианством и манихейством – это отнюдь не столкновение традиции и ереси, а вопрос, который стоит в самом центре христианской веры. В молитве «Отче наш», которую во времена Толкина знали абсолютно все, да и сегодня знает большинство англоговорящих людей, есть семь пунктов, или прошений, из которых два последних звучат так:
И не введи нас во искушение,
Но избави нас от лукаваго.
Это одно и то же, выраженное разными словами? Или (что более вероятно) в молитве высказано два разных, но взаимодополняющих прошения к Богу: уберечь нас от нас самих (источника греха по Боэцию) и защитить от внешнего воздействия (источника зла в манихейском представлении)? Если верно второе, то двойственное, неоднозначное восприятие зла у Толкина – это все же не заигрывание с ересью, а выражение некой правды о природе вселенной, которая была недоступна философу Боэцию, а может быть даже и рационалисту Льюису.
Вне всякого сомнения, работая над сценой в Саммат-Науре, Толкин держал в уме «Отче наш». Об этом он и сам упоминал в своем личном письме Дэвиду Массону, с которым, как говорилось выше, обсуждал критику в свой адрес. Г-н Массон, работавший в библиотеке Лидсского университета, любезно показал мне это письмо, где Толкин цитирует последние три строки из молитвы «Отче наш» (включая «И остави нам долги наша») и сообщает, что ему пришли в голову именно эти слова и что сцена в Саммат-Науре задумывалась как «сказочный пример» такой молитвы. Толкин никак не прокомментировал видимую тавтологию в молитве и неоднозначность созданного им образа зла, но они образуют единое целое. Во «Властелине колец» никогда нельзя с уверенностью понять, исходит ли опасность от Кольца изнутри, из греховной природы, или снаружи, от простой враждебности. И, надо сказать, в этом одна из основных сильных сторон этого произведения.
Мы все понимаем – по крайней мере, в минуты просветления, – что значительная часть бед проистекает из нашего собственного несовершенства, иногда страшным образом умноженного: так спешка, агрессия и нежелание пораньше уйти с вечеринки могут обернуться гибелью человека в автомобильной аварии. Это искушения. В то же время существуют и другие катастрофы, за которые никто не чувствует своей ответственности, например (как писал Толкин) бомбежки и газовые камеры. По убеждению Боэция, все они на самом деле могут быть связаны: ни один человек не в состоянии увидеть всех последствий происходящего. Но наш опыт говорит об ином. Было бы ошибкой обвинять во всем какие-то внешние силы зла, как любят делать ксенофобы и популярные журналисты, но столь же неправильно и увлекаться самоанализом, в чем весьма преуспели современники Толкина – холеные писатели из высшего общества, принадлежащие к движению «модернистов».
Разумеется, персонажам «Властелина колец» было бы куда проще, если бы не было этой неопределенности по поводу природы зла. Если бы зло было просто отсутствием добра, то Кольцо осталось бы всего лишь усилителем душевных порывов, и было бы достаточно просто его спрятать или, например, отдать Тому Бомбадилу. В Средиземье же нас убеждают, что это стало бы роковой ошибкой. И наоборот, если бы зло было всего лишь внешней силой, не находящей отклика в сердцах добрых людей, то кому-то, наверное, пришлось бы отнести его в Ородруин, но это не обязательно должен был быть Фродо. За дело могли бы взяться Гэндальф или Галадриэль, и по дороге им пришлось бы сражаться только с врагами, а не с товарищами и не с самими собой. Но если бы это было так (а большинство произведений в жанре фэнтези гораздо ближе к такому варианту, нежели «Властелин колец»), то эта книга многое бы потеряла и превратилась бы в сложную военную игру наподобие «Подземелий и драконов». Потеряла бы она и в том случае, если бы была написана в духе философского трактата или религиозного романа, без привязки к реальному миру – миру войн и политики, из которого Толкин, очевидно, и почерпнул свой опыт столкновения со злом.
Положительные силы: удача
По поводу сцены в Саммат-Науре, разумеется, возникает и еще один вопрос: из-за чего упал Горлум? В тексте об этом ничего не сказано. Это просто случайность – еще один пример «предвзятости фортуны», которая, по мнению Мэнлоува, не дает воспринимать произведение Толкина всерьез. Но очевидно, что это все же не просто случайность, а результат последовательности принятых в тот или иной момент решений. Бильбо не стал убивать Горлума, когда много лет назад, в главе 5 «Хоббита», ему представилась такая возможность. Гэндальф и эльфы не казнили его и не избавились от него, когда он находился в их власти, – напротив, они «обходятся с ним по-доброму». Фродо позволил ему идти с ними в Мордор и даже немного поспособствовал его исправлению и превращению обратно в Смеагорла. И наконец, Сэм, невзирая на все предательства Горлума, вновь пощадил его на Роковой горе, очевидно, из своего рода сочувствия: он «знал, что не сделает этого», не нанесет ему смертельного удара, потому что понимал, что значит быть носителем Кольца. Гэндальф пророчески намекает на то, что произойдет, почти в самом начале книги (возможно, этот эпизод был добавлен позже). Когда Фродо негодует: «Какая все-таки жалость, что Бильбо не заколол этого мерзавца» – Гэндальф отвечает ему, по своему обыкновению ловя собеседника на слове: «Именно жалость удержала его руку». Более того, он утверждает, что Бильбо так мало пострадал от этой зависимости именно «потому, что начал с жалости». Фродо вспоминает этот разговор, когда они с Сэмом ловят Горлума в Могильных Топях, и получает за это свою награду, как и Бильбо получил свою, – каждому по заслугам. Фродо избавляет Горлума от Жала, а Горлум в конце концов спасает его от Кольца. Я уже приводил в пример слова Гэндальфа «даже мудрейшим не дано провидеть все», однако на этот раз в них можно увидеть не только сюжетный ход, но и утверждение в духе Боэция. Более того, после выявления закономерности большинство людей способны проследить ее дальше, а смерть Горлума подтверждает закономерность, которая не раз уже была выражена в поговорках Средиземья – взять хотя бы еще одно пророческое заявление Гэндальфа, адресованное Пину в главе 4 книги V: «Предатель проведет самого себя и невольно совершит благое дело».
Конечно, даже если смерть Горлума не просто случайность, может остаться ощущение, что его судьба сложилась как-то уж слишком складно, – в жизни так не бывает. Но прежде чем выносить такое суждение, стоит рассмотреть значение слов fate (судьба), accident (случайность) и так далее. Иногда Толкин использует слово chance (случай), но обычно с оговорками. Том Бомбадил, спасший хоббитов от Старого Вяза, говорит: «Just chance brought me then, if chance you call it» («Я забрел туда случайно, если можно так сказать»)[65] (курсив мой). По словам Гэндальфа (см. Приложение А (III)), разрушения северных земель удалось избежать, «потому что Торин Дубощит встретился со мной в Пригорье однажды вечером на исходе весны. Всего-то какая-то случайная встреча, как говорят у нас в Средиземье» (курсив снова мой). Получается, случаем люди называют то, что они не в состоянии растолковать, однако это говорит лишь об ограниченности их понимания. Но если это так, то как объяснили бы события те, кто понимает чуть больше?
Во «Властелине колец» есть несколько намеков на наличие за пределами Средиземья сверхъестественных сил. Из «Сильмариллиона» мы узнаем о том, что Гэндальф, как и Саруман и даже Саурон, – майар, духовное существо, изначально посланное для спасения человечества и других разумных созданий. В своем письме Роберту Марри, написанном в ноябре 1954 года, Толкин даже сообщает: «Я бы дерзнул сказать, что он – воплощенный „ангел“» – разумеется, как это часто бывает, это слово употреблено с учетом его этимологии: от греческого angelos (вестник) (см. «Письма», № 156). Гэндальф и сам говорит, что после схватки с барлогом «нагим меня возвратили в мир». Он не уточняет, кто его возвратил, но опять-таки на основе «Сильмариллиона» можно предположить, что речь идет о валарах – силах, защищающих Средиземье при Боге, или при Эру, Едином. Однако, судя по всему, валары напрямую не вмешиваются в дела Средиземья. Гондорцы, на которых мчится олифант, кричат: «Оборони нас валары!» – но мы так и не узнаем, оборонили они их или нет. Зверь действительно проносится мимо, но, возможно, это опять случай. А может быть, «случай» – обычный метод действия валаров?
Об этом можно сказать две вещи. Во-первых (как, наверное, никто на свете не знал лучше самого Толкина), люди склонны придумывать слова, которые выражают одновременно и ощущение, что некоторые вещи происходят случайно, и представление о том, что в этих случайностях прослеживается закономерность. В древнеанглийском языке есть слово wyrd, которое в большинстве словарей переводится как fate (судьба). Толкин знал, что этимология двух этих слов совершенно различна. Слово fate происходит от латинского fari (говорить) и означает «то, что было сказано» (имеется в виду «богами»). Древнеанглийское же слово восходит к слову weorÞan (становиться) и значит «то, что стало, то, что окончено», то есть в том числе имеет значение «история»: историк по-древнеанглийски wyrdwritere – тот, кто записывает wyrd. Wyrd может быть враждебной силой в том смысле, что никому не дано изменить прошлое, однако не настолько враждебной, как fate (судьба) или даже fortune (фортуна), которые распространяются и на будущее. Впрочем, как отмечалось выше (стр. 87–88), в современном английском языке есть на удивление точная параллель – слово luck (удача). Составители Оксфордского словаря не торопятся принимать эту идею, однако объяснение, основанное на том, что это слово происходит от древнеанглийского (ge)lingan (случаться) и изначально наверняка означало «то, что случилось, то, что вышло», представляется продуктивным. В английском языке есть выражения good luck (когда удача улыбается) и bad luck (когда она отворачивается) – в зависимости от того, удачно ли карта ляжет (the luck of the draw). Но даже сейчас почти каждый на том или ином уровне верит в то, что удача – это нечто большее. Как говорилось в первой главе, убежденность гномов в том, что Бильбо отпущено удачливости больше, чем другим, имеет параллели и в современном мире. Мы уже не верим в богинь судьбы, но по-прежнему одушевляем удачу, называя ее госпожой Удачей, и говорим, что у кого-то «началась полоса удачи». Удачу можно «оседлать» – именно так поступает фермер Джайлз из сказки Толкина «Фермер Джайлз из Хэма», и не зря. Удаче можно немного помочь: когда дракон нападает на рыцарей, фермер Джайлз оказывается в выигрышном положении, в хвосте кавалькады, «волею судьбы – а может, самой серой кобылы». Однако полагаться исключительно на удачу – стратегия не слишком разумная, и в этом древние и современные источники поразительно единодушны.