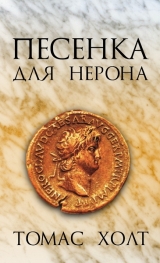
Текст книги "Песенка для Нерона"
Автор книги: Том Холт
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 33 страниц)
На следующее утро, после неторопливого завтрака и купания, вы двинулись по дороге на Камарину. Я объяснил, что раз уж я все равно зашел так далеко, то ничего не мешает прогуляться еще чуть дальше, но практически на сто процентов уверен, что не найду ничего даже вполовину столь прекрасного, как их сыр, и вернусь через пару дней с телегой, чтобы забрать все, что они смогут продать, оплата на месте. Им было искренне жаль расставаться со мной, что вообще приключается крайне редко.
– Еще одно доказательство того, о чем я тебе говорил, – объяснил я Луцию Домицию, когда деревня скрылась за холмами. – Превратности судьбы и все такое. Всего за один день из каторжников, направляющихся в каменоломни, мы превратились в почетных гостей деревни, для которых ничего не жалко. Вся жизнь такова, – продолжал я, – неудача, удача, то вниз, то вверх; и признаком мудреца, истинного философа, является умение принимать и хорошее, и плохое так, как будто разницы между ними нет. И никакой разницы, в сущности, действительно нет. .
– Ох, заткнись, Гален, – ответил он. – У меня от тебя голова трещит.
Разумеется, он просто дулся из-за того, что ему пришлось ночевать с животными, в то время как я спал в постели, но я ничего не сказал. По сицилийским меркам стоял прекрасный день, и я был не в настроении пререкаться. Мы шли по хорошей, ровной дороге, по обе стороны раскинулись пшеничные поля, солнце сияло, а у нас с собой была кварта вполне пригодного для питья вина, которым нас снабдил фермер. Ко всему прочему, женщина пела где-то вдалеке – должно быть, старая карга, идущая за водой или на постирушки.
Мелодия звучала приятно.
Луций Домиций остановился как вкопанный, как будто угодил в коровью лепешку.
– Ты это слышишь? – сказал он.
– Слышу что?
– Женщина поет, – сказал он. – Вот, слушай.
Я пожал плечами.
– Да, слышу, – сказал я. – И что?
Лицо у него приобрело характерное выражение.
– Это моя песня, – сказал он. – Я ее написал.
О Боже, подумал я, попали.
– Не, – сказал я. – Вряд ли. Возможно, звучит похоже, вот и все.
Он нахмурился.
– Это моя песня, блин, – сказал он. – «Ниоба, камыши волнуются». Ты что думаешь, я собственную музыку не узнаю?
– Ну хорошо, хорошо, – сказал я. – Раз ты так говоришь. Не возражаешь, если мы продолжим путь? Или мы должны торчать тут, как парочка дурачков, пока она не допоет?
Тут, наверное, уместно рассказать о Луции Домиции и его музыке.
Что ж, я приложу все усилия, потому что будь я проклят, если что-нибудь в этом соображаю. Что до меня, то я никогда не мог понять, почему люди переводятся на такое говно из-за музыки, поэзии и всего такого. Музыка, поэзия – это просто одно из ремесел, вроде изготовления мебели, горшков или инструментов. Разумеется, там тоже есть свои уровни простоты и сложности, как и в любом другом деле. То же самое можно сказать о столовых приборах или башмаках, но уж конечно же вы не видели, чтобы люди бились в экстазе из-за искусно изготовленной пары обуви. Но на самом-то деле в чем разница между башмаком и одиннадцатисложной одой, если на минутку забыть о том, что башмаки оберегают ваши ноги от сырости? Это просто еще одна вещь, изготовляемая людьми, а если им очень везет, то еще и за деньги, хотя насколько мне известно, большинство поэтов и музыкантов живут на то, что сбывают продукцию собственным друзьям – в тех случаях, когда их друзья отличаются крепкой выдержкой и терпением.
Ну да бог с ними. Так вот, у меня столько же слуха, сколько у капусты зубов, но рискну заметить, что музыка Луция Домиция была не хуже любой другой, а может, даже и получше. Подумаешь. Нам с этого не было особого проку. Ладно бы он был готов воспользоваться своим божественным даром, чтобы заработать для нас медячок-другой, распевая на свадьбах или играя на волынке у сельских кабачков – я бы еще как-то понял, зачем это надо. Но такого сроду не случалось. По его словам, его ужасала мысль, что некто, слышавший его в старые времена, когда он выступал перед тысячными толпами в театрах и на ипподромах, в мгновенной вспышке озарения сопоставит его с императором Нероном, который, оказывается, вовсе не умер, а ходит со шляпой на задворках борделя для извозчиков в Верхней Пеонии. Ну да, конечно. Не думаю, что это было настоящая причина. Я думаю, что музыка и поэзия напоминали ему о прошлом, о том, кем он был и что потерял, и он просто не мог этого вынести. Как будто он чувствовал, что обязан заплатить за то, что выбрался тогда из дворца живым – и за Каллиста, конечно – и честной ценой будет то, что он любил большего всего в мире, или, может быть, следующее после самого любимого. Что ж – кто может сказать, что это неправильно? В конце концов, все мы должны приносить жертвы богам, когда они делают что-нибудь для нас, и жертва должно что-то значить, благодарность не выразить какой-нибудь безделицей. Большинство людей, конечно, просто отправляют повара на рынок, чтобы тот купил парочку самых дешевых тощих кур, потому что богам сгодится любая пакость, а что им не подойдет, отправится в похлебку для слуг. Лично я не одобряю благодарности такого сорта, хотя и не прикидываюсь религиозным. Луций Домиций, однако, приносил в жертву что-то действительно ценное для него, и по мне так это было правильно.
Кроме того, это избавляло меня от необходимости слушать, как он репетирует, что само по себе было прекрасно.
И вот значит, в то во всех прочих отношениях прекрасное утро мы стояли посреди дороги как накренившаяся триумфальная арка и ждали, когда Луций Домиций дослушает свою песню в исполнении старой курицы. Она, казалось, собиралась продолжать вечность, но в конце концов иссякла и заткнулась.
– Ладно, – сказал я. – А теперь, если не возражаешь, не продолжить ли нам бежать, спасая наши жизни? Если это совершенно для тебя удобно, я хочу сказать.
Разумеется, я слегка преувеличивал, поскольку вокруг, насколько было видно, не наблюдалось ни малейших признаков солдат, но это не значило, что они не возникнут в любую минуту, а кроме того, это звучало лучше, чем, скажем «прогуливаться, спасая наши жизни». Впрочем, без разницы. Я в любом случае зря колыхал воздух, потому что он вообще меня не слушал. Он был слишком занят, плюхаясь в жалости к себе, ублюдок. Глаза покраснели и распухли, а по щеке катилась большущая слеза. С моей точки зрения, это был уже перебор. Я хочу сказать, мелодийка была приятная, голос у старушки оказался хорош, но это никак не причина выплакивать глаза.
– Эй, – сказал я. – Луций Домиций, соберись. Сейчас не время и не место.
Он повернул голову и посмотрел на меня. Ну и видок у него был.
– Полагаю, ты прав, – сказал он. – Я извиняюсь. Очень непрофессионально с моей стороны, вроде как ржать над собственными шутками.
Ну, я мог бы достойно на это ответить, но не стал. Было не до ссор. Это бы только задержало нас, а мне уже осточертело торчать на открытом месте.
– Не переживай на этот счет, – сказал я, схватил его за рукав и поспешил вперед.
Но к полудню, когда мы сели отдохнуть под ореховым деревом и немного перекусить тем, чем уж там нас снабдили добрые хозяева (сыром, ясное дело), он оставался все таким же задумчивым.
– Чертовски странно, – сказал он, – услышать эту песню в сицилийской глуши. Я изумлен, что она добралась так далеко, – он ухмыльнулся.
– Должно быть, кому-то она понравилась, – предположил я. – Это весьма возможно. Запоминающаяся мелодия. Приятные слова. Стоит одному удовлетворенному слушателю начать ходить по деревне, мурлыкая ее себе под нос, и вот уже все его односельчане ее знают. Была такая песня, помню, в наших местах, когда я был ребенком, что-то про бродячего точильщика и фермерскую дочь...
Он почему-то кинул на меня ядовитый взгляд.
– Ладно, так или иначе, – сказал он. – Довольно об этом. Давай-ка выкинем ее из головы.
Лучше бы ему этого не говорить, потому что весь остаток дня я напевал эту прилипчивую мелодию. Просто не мог от нее избавиться. Я все еще мурлыкал ее под нос тем вечером, когда мы приземлились за столом на грязном постоялом дворе из двух комнат.
– Не мог бы ты заткнуться? – прошипел Луций Домиций. – Люди пялятся.
Я как раз собирался возразить, что уж кому говорить, когда к собственному изумлению услышал ту же мелодию, доносящуюся с другого конца комнаты. Ничего страшного в этом не было, конечно. Мы решили посмотреть, кто ее поет.
Оказалось, что это вонючий старый возчик, который лежал в углу неопрятной грудой и прихлебывал из небольшой ванны горгонью кровь, которую местный управляющий имел наглость выдавать за красное вино. Если мы рассчитывали на разумный ответ, не было никакого смысла обращаться к нему, но рядом с ним на скамье сидел другой мужик, вероятно, его приятель – чуть помоложе, не настолько траченный молью и с виду относительно трезвый.
– Эта песня, которую поет твой друг... – начал я.
Он посмотрел на меня и нахмурился.
– Да, знаю. Извиняюсь за него, – он наклонился над столом, потряс своего дружка за руку и заорал, – МЕНИПП, ТУПОЙ СТАРЫЙ ПЕРДУН, ЗАТКНИСЬ, – так громко, что все головы повернулись в нашу сторону.
– Да все нормально, – вежливо сказал я. – Не хотели вам мешать. Просто эта песня... она откуда-то мне знакома, только не могу вспомнить, где ее слышал.
Он бросил на меня косой взгляд и заржал.
– Ясное дело, вы двое не из наших мест, – сказал он, – или вы бы знали эту песню. Эта песня у нас знаменитая.
Луций Домиций не произнес ни слова, но расцвел так, что шея у него покраснела.
– Серьезно? – сказал я. – Народная?
Он ухмыльнулся.
– Можно и так сказать. Хорошая история, кстати. – Это был намек, так что я присел рядом и махнул кабатчику подать еще вина. Пока его несли, человек стал рассказывать. – Эта песню сочинил сам император Нерон. Жирный, уродливый, кровожадный убийца, – добавил он с чувством. – Поэтому я подумал, что вы удивлены, услышав ее из уст уважаемого человека. Но в наших местах она стала известна благодаря каменоломням.
– Каменоломням, – повторил я. – Тут что ли каменоломни поблизости?
Он кивнул.
– Точно так. Дико ужасное место, как ни посмотри, хотя сам я там не был. В общем, это одно из тех мест, куда злобное говно Нерон отправлял людей умирать. Он загнал сюда сотни, если не тысячи, и до года дотягивал, может, только каждый двадцатый, ну, так рассказывают. Все богатые и могущественные римские вельможи, которые как-то его обидели, а еще те, денег которых он захотел и посадил по дутым делам. Он всегда так делал.
– Помню, – сказал я со вздохом. – Никто не был в безопасности.
– Да уж, блин, точно. В общем, – продолжал он, подливая вино и разбрызгивая его, – одна из штук, которые проделывал этот гад Нерон, была такая: он закатывал гулянки для всех высокородных римлян, а когда они оказывались в его дворце в Риме, он приказывал запереть двери и заставлял их сидеть часами и часами и слушать, как он играет на арфе и поет. Это было чистое убийство, как ни посмотри, потому что он играл, как свинячий навоз, а голос у него был как у кота в масляном прессе.
И вот была как раз такая гулянка, а в переднем ряду сидел старый толстый римский сенатор. Не помню, как его звали, да и насрать. Этот сенатор сидел так уже три часа или больше, после знатного ужина с морем вина, а музыка все играла и играла, и в конце концов он не смог больше держаться, голова его свалилась на грудь и он захрапел. Ну, сраный Нерон это заметил и взбесился от злости: что?! оскорбление его творчества?! что за говно?! и позвал стражников и отправил жирного старого беднягу на пять лет в каменоломни.
– Какой ужас, – сказал я. – Продолжай .
– Ну, что, – сказал возчик. – Проходит пара лет, и как-то раз Нерон, сидя на своем золотом троне и с кем-то болтая, спрашивает, а что случилось со старым таким-то и таким-то, не видел его с морковкина заговения. Ясное дело, все эдак задергались, потом кто-то говорит, разве ты не помнишь, Цезарь, ты спихнул его в яму за то, что он заснул во время твоего чудесного выступления.
Тут старик Нерон, который уже успел в тот день пропустить стаканчик и маленько расслабился, говорит – нельзя такое допускать, отправьте гонца, пусть его немедленно освободят. Ускакал гонец, возвращается с сенатором, который едва жив, и уже совсем не такой мясистый, как бывало; и до сих пор на нем висит клочьями пурпурный сенаторский плащ, всем его дико жалко, ну и происходит сопливая сцена, во время которой Нерон прощает его и все прямо глаза выплакивают и все хорошо. Но Нерон говорит, у меня есть идея, давайте закатим пьянку, наш старый как его там откинулся, надо это отпраздновать, а все думают – вот дерьмо, потому что знают, чем это кончится, но говорят – какая свежая идея, Цезарь, давайте. Приносят бухло, и как только все рассаживаются, Нерон встает и начинает выступление. Ну, он закончил одну песню и добрался до середины следующей, когда старый сенатор встает и медленно идет из комнаты. Нерон в страшной ярости. Он поворачивается и говорит сенатору – куда, так тебе перетак, ты собрался? А сенатор вздыхает так тяжело-тяжело и говорит – назад в каменоломни, Цезарь, а ты куда думал?
Я не оглядывался и не говорил ни слова. Пришлось откусить большущий кусок языка, но я справился. Возчик тем временем продолжал.
– Так оно и вышло, как он сказал; и каждый день из следующих трех лет, до тех пор пока Нерон не получил, наконец, свое и какой-то козел не перерезал его подлую глотку, —после этого, конечно, всех несчастных каторжников выпустили из каменоломен и отправили по домам – этот старый сенатор пел ту самую песню, под которую он уходил из зала, пел ее снова и снова, пока все в каменоломнях и ближайших деревнях не выучили ее наизусть. Вот так, – закончил он, пожав плечами. – Думаю, местные жители – единственные люди на земле, кто знает эту говенную музыку. Наверное, можно назвать это неувядающей славой, если ты не возражаешь.
Неувядающая слава. Снова она.
Как-то раз, гораздо позже, я стоял на рынке и читал «Одиссею» с лотка книготорговца. Прежде чем у вас возникнет неверное впечатление обо мне: я делал это не для удовольствия, а проверял кое-какие факты для истории, которую сейчас вам рассказываю, ну да это неважно. В общем, там есть один очень странный эпизод – Одиссей возвращается из Трои, потратив десять лет, чтобы забраться в никуда и пережить все возможные ужасные приключения с чудовищами, которые пожирали его друзей, и вот, наконец, кораблекрушение, все остальные мертвы, а он выброшен на остров, где никто не знает, кто он такой. Местные, которые почему-то во много раз добросердечнее всех известных мне островитян, приводят его в царский дворец, где он от пуза ест, переодевается и садится у огня погреть кости – и за все это время никто и не думает спросить у него, кто он такой, потому что, ясное дело, гостеприимство само себя вознаграждает, добрые люди всегда готовы помочь в беде любому, и неважно, принц это или нищий. Ну да, конечно. Так или иначе, он сидит там инкогнито, набивает щеки добрым пшеничным хлебом и сыром, и тут поднимается дворцовый певец и заводит песню о – догадайтесь, о чем – об удивительных приключениях великого героя Одиссея, который отплыл из Трои, пережил чудесные приключения и пропал, никто не знает, куда.
Вот она, неувядающая слава. Одиссей стал знаменит уже при жизни, но вы спокойно можете поставить на кон передние зубы, что приключения, о которых пелось в песне, не имели ничего общего с теми, в которые угодил Одиссей. Либо те первые приключения произошли с какой-то неизвестной личностью, и певец вместо нее вставил в рассказ Одиссея, либо просто выдумал все из головы, а Одиссея использовал, чтобы было интереснее.
То же самое вышло с Луцием Домицием, как вы, наверное, уже и сами догадались. Точно так же, как тот Одиссей, который слушал песню, был совсем не тем Одиссеем, о котором пелось, Луций Домиций не был тем Нероном Цезарем, о котором рассказывал возчик. То же верно и для меня. Гален, который рассказывал всей деревне, что он состоятельный сыроторговец – простой мелкий жулик; но я уверен, что по сей день люди, живущие в самой заднице Сицилии, ждут возвращения богача Галена, который скупит весь сыр и сделает всех их богатыми, так что они станут свободны и безгрешны и все их проблемы останутся в прошлом. Как будто я оставил позади маленький кусочек себя, и он вырос и изменился, как привой на дереве, и живет своей жизнью. О чем сам я могу только мечтать.
– На самом деле, – сказал следующим утром Луций Домиций, – это очень старая история.
– Да ну? – сказал я.
– О да, – он уверенно кивнул. – Ей по крайней мере четыреста лет. В самых ранних ее версиях, которые я слышал, дело происходит при дворе Дионисия, который был диктатором Сиракуз во времена Платона.
– Ох, – сказал я. – Так значит, это неправда. В смысле, ты не...
Вид у него сделался смущенный.
– Этого я не говорил, – ответил он. – Я только сказал, что этот анекдот – бородатый.
– Но ты, значит... я имею в виду...
– Я бы предпочел не говорить об этом.
Ну и ладно, это меня не касалось. Тем не менее, была в этом какая-то натяжка – чтобы кто-нибудь, даже римский сенатор, каждый из которых безумен, как целая бочка хорьков, был готов отправиться в каменоломни ради одной крылатой фразы? Ни в жизнь не поверю. С другой стороны, я простой крестьянский парень из аттической глуши, что я могу знать о римских аристократах?
– Что ж, – сказал я, – по крайней мере мы знаем, куда мы идем. – Я поболтал о том о сем в кабаке, и узнал, что мы не далее чем в трех днях пешего пути от Камарины, а стоит нам добраться дотуда, и мы сможем запрыгнуть на корабль до Африки, не зависая там слишком долго.
По правде сказать, меня уже слегка тошнило от видов Сицилии. Вроде и живописное место, но на манер скалы, нависшей прямо над вашим домом. Не стоило ее толкать.
– Три дня ходьбы, – сказал Луций Домиций. – Не думаю, что эти башмаки столько выдержат. Я думаю, в следующей деревне нам надо купить пару мулов.
Я покачал головой.
– Не стоит нам этого делать.
– Почему, блин, нет? Денег у нас хватит. И вообще, мы сможем продать их, когда приедем в Камарину, вернуть деньги и сэкономить время.
– Плохая идея, – сказал я.
Это его рассердило.
– Что, черт возьми, с ней не так? И еще, – продолжал он. – Сам твердишь, что чем раньше мы уберемся отсюда, тем лучше, потому что нас тут ищут. Мы доберемся верхом гораздо быстрее, чем пешком.
– Категорическое нет, – сказал я. – Мы идем в Камарину на своих двои, успокойся. Никаких мулов.
– Да что такого плохого в мулах?
Он начал действовать мне на нервы.
– Я просто их не люблю, доволен?
– Понятно. Не хочешь сказать, почему?
– Нет.
– Как хочешь.
На самом деле ничего секретного тут не было, и Луций Домиций прекрасно все знал, или знал бы, если бы слушал меня хоть сколько-нибудь внимательно. Дело было в том, что у нас с мулами просто не складываются отношения. Думаю, это как-то связано с теми временами, когда мы с Каллистом были в Вифинии; в одном из тамошних городков мы учинили нечто, принесшее нам такую популярность, что какой-то чудик вызвал стражников, а у нас были некоторые причины не общаться с ними. Но мы не нервничали, потому что у городского борделя были привязаны два мула, и мы решили – запрыгнем на них и исчезнем задолго до того, как солдаты сюда доберутся. Поэтому мы взяли этих мулов, отправились восвояси и почти покинули зону риска, когда мой мул встал, как вкопанный и остался стоять, будто увидел голову горгоны – никакие мои действия не могли заставить его сдвинуться с места. И вот я ору и пинаю совершенно неподвижного мула – а тут появляются солдаты. В следующий момент мы уже сидим в холодке, а мулы добавлены к списку преступлений (а за скотокрадство само по себе в Вифинии вешают; Вифиния – ужасное место и в лучшие времена, уж поверьте на слово). Примерно так всегда и протекало мое общение с мулами. Если бы Луций Домиций предложил ослов, бычью повозку или даже лошадей, я мог бы и согласиться, да, потому что в любое время предпочту езду ходьбе. Но мулы – ни за какие коврижки, никогда.
В общем, мы пошли пешком и к концу дня забрели в городок.
Место как место: два постоялых двора, баня, пекарня, даже дурацкий маленький театр и ипподром. В другое время я бы предложил задержаться здесь на денек-другой и посмотреть, не получится ли разыграть хорошую аферу. Но деньги у нас были, и чего мне хотелось больше всего после дня ходьбы – так это скинуть башмаки и положить ноги на скамеечку на несколько часов. Мы выбрали менее зловещий из постоялых дворов, заплатили вперед за кувшин местного яда и пару тарелок жратвы и приготовились вкушать вечерний отдых, как пара господ.
В нашем деле важно никогда не выходить из роли. Ну, например, если вы сыроторговец, который только что вошел в незнакомый город, то вы должны потратить некоторое время на расспросы о местном сыре, заключение сделок и так далее. В противном случае, два к одному, что кто-нибудь скажет: на следующий день мы видели тех двух скупщиков сыра в городе, но сыр их почему-то совсем не интересовал, и скажет он это никому иному, как офицеру стражи или торговому уполномоченному, которые как раз занимаются нашими поисками, и они спросят этого чувака: эти двое, о которых ты говоришь – случайно, не маленький крысолицый грек и италиец с бычьей шеей? – и через пару секунд на нас наденут воротнички.
Поэтому мне не оставалось ничего иного, как начать спрашивать людей на постоялом дворе, нет ли у кого сыра на продажу, и очень скоро я опять оказался по колено в фермерах, это если не упоминать управляющего из большого поместья, и все они пытались заманить меня к себе, чтобы угостить ломтиком-другим. И я отвечал: о да, я бы не отказался, но только нас время поджимает, торопимся оказаться на берегу как можно скорее, чтобы успеть на корабль домой, пока он без нас не уплыл, но через месяц или около того обязательно вернемся, и уж тогда непременно заглянем к вам. Их это вроде бы вполне удовлетворило, и они заверили меня, что мы не пожалеем, потому что каждый из них, так уж вышло, производит лучший сыр на Сицилии – суди хоть по запаху, хоть по фактуре, хоть по чему угодно. В общем, в тот вечер я провернул больше работы, чем настоящий сыроторговец делает за неделю, и не поимел с этого ни медяка, конечно же. Подумалось вдруг: если хотя бы половину усилий, которые уходили на ложь и мошенничество, мы потратили на превращение в честных дельцов, я был бы сейчас богачом, имел собственную виллу у моря и пил вино с собственных виноградников. Но увы, увы.
Не стоит и говорить, что Луций Домиций палец о палец не ударил за весь вечер – и, в общем, правильно сделал, поскольку он был всего лишь скромным рабом и его дело было сидеть в углу с кружкой раствора для травления бронзы и половиной ломтя ячменного хлеба. Надо отдать ему должное: за долгие годы он так понаторел в этом, что практически достиг совершенства; не сказать, что роль требовала от него слишком многого, но к молчаливому сидению в углу он определенно имел большой талант. Иной раз, когда он вкладывал в представление душу и сердце, я окидывал взглядом кабак и не мог его найти, пока он не поднимался с места – вот до чего он был хорош. Нет, его работа (кроме простого пребывания в образе раба) заключалась в том, чтобы слушать, перехватывая обрывки бесед и разговоров, которые многое могут значить в нашей профессии.
Это может быть что угодно: какой-нибудь болтливый клоун может оказаться потенциальной добычей; иногда полученную таким образом информацию можно использовать в афере – скажем, если в городке ждут торговцев с письмом или распиской и не знают при этом, как те выглядят; так можно загодя получить предупреждение о появлении префекта, например, или участника одного из наших старых дел.
Так вот, когда я покончил со своей работой и пора было идти спать, мы вышли во двор, как будто у нас лошади, за которыми нужно приглядеть или что еще, и я спросил его, услышал ли он чего толкового.
– Еще как услышал, – ответил он со встревоженным видом. – Сюда движется римский сенатор – то ли объезжает свои поместья, то ли еще что. Нам лучше поскорее убраться отсюда.
Это было не лишено смысла. Римский сенатор вполне способен узнать бывшего римского императора. Но с другой стороны, я не разделял его опасений. Я уверен, что большинство людей видят то, что ожидают увидеть, а ни один из этих упакованных в пурпур ребят не ожидает встретить в сельском кабаке в сицилийской глуши мертвого цезаря, одетого как бродяга. Богатые не видят рабов, пока они им не понадобятся, и даже если этот сенатор увидит Луция Домиция и заметит сходство, то просто подумает: о, поглядите-ка, вон раб, который немного похож на Нерона. Он может рассказать об этом своим дружкам или написать поэму, но сам никогда не поверит, что видел императора. Совершенно исключено, но рисковать все равно не стоило. В конце концов, нам тут ничего интересного не светило, и всего-то надо было встать пораньше, а не залеживаться в постели. Велика беда.
– Ладно, – сказал я. – Есть какие-нибудь соображения, откуда этот персонаж движется? Небось, из Сиракуз.
Он вздернул голову вверх, на греческий манер (прекрасный штрих).
– Не сказали, – ответил он.
– Ну ладно, – я пожал плечами. Как я и говорил, я совершенно не беспокоился. – Двинемся дальше в Камарину. Главное выйти засветло, по росе. Не думаю, что его сенаторство собирается вытаскивать свою аристократическую задницу из постели до позднего утра. Поэтому мы встанем с петухами, ополоснем морды и вперед. Заплатим хозяину, выскользнем до того, как конюхи начнут работать, без шума.
Просто на всякий случай я поддался на нытье Луция Домиция и раскошелился на пару мулов. Верхом мы будем двигаться раза в полтора быстрее, а один мужик, с которым я толковал накануне, предложил их мне по очень хорошей цене. Стояло довольно приятное утро, дорога для разнообразия оказалась хорошая и ровная, и я стал объяснять Луцию Домицию все прелести мавританской идеи. Часа через я совершенно забыл о римском сенаторе.
Нет, ну вы же не будете винить меня за недостаток логики, да? Я нигде не прокололся: все просчитал, взвесил возможности, выбрал самый разумный путь. Не вижу, как я мог предсказать то, что произошло – разве что Афина Паллада явилась бы мне во сне с готовым пророчеством. Жизнь вообще несправедлива. Вы следуете правилам, не отклоняетесь, стараетесь изо всех сил и вправе ожидать, что все пойдет хорошо и вы не окажетесь по колено в говне.
Никаких предупреждений, конечно. Вот мы заводим наших мулов на невысокий холм, и в следующее мгновение видим прямо перед носом офигенно величественную процессию, движущуюся навстречу. Прятаться негде, мы торчим строго на верхушке холма, а дорога за нашими спина на целую милю пуста.
Этим вашим римским сенаторам, богатейшим людям мира, приходится постоянно ломать голову, на что бы потратить деньги. Мы с вами считаем, что задача выполнена, когда на сегодня-завтра у нас есть что съесть, а если очень повезет – то еще и смена одежды. Жизнь римского сенатора далеко не так проста.
Если говорить о доме, то подавай ему виллу размером с Трою и достаточным количеством лакеев и слуг, чтобы укомплектовать легион. Если надо куда-то поехать, то появляется или карета с шестеркой снежно-белых лошадей, или паланкин, украшенный изображениями всех двенадцати подвигов Геракла в сусальном золоте, который тащат восемь совершенно одинаковых германцев. Кроме того, существует риск, что Его Всевластие заскучает, перемещаясь из точки А в точку Б. Поэтому помимо кучеров или носильщиков его сопровождают прислужники, и секретари, и два сирийца, которые вытирают сопли с его подбородка, когда он чихает, и половина манипулы телохранителей со здоровенными дубинками – просто на тот случай, если царь Персии подкрадется со всей своей армией и попытается украсть набор для педикюра из слоновой кости.
И вот мы стоим вдвоем, а на нас, как Ганнибал со слонами, движется вся эта колонна: пехота в авангарде, затем два мужика с вениками и топорами (показывая, что едет не просто богатый ублюдок, а высокий государственный чин), с десяток всадников, потом карета, за ней фургон, в котором лежат чистые одежды Его Совершенства.
Известно, как надо поступать в подобной ситуации: следует со всей возможной прытью убраться с дороги, сдернуть шляпу и уставиться на собственные ноги, показывая, что знаешь свое место. По этому поводу я не переживал, не возражал и вообще был бы счастлив, как свинья в дерьме, выполнить все положенные процедура за несколько мгновений. К несчастью, сейчас решения принимал не я, а мой проклятый мул.
Едва я дернул за повод и моя рука чуть не выскочила из сустава, то сразу понял, что это последний раз, когда я дал уговорить себя нарушить первое правило выживания в этом враждебном, жестоком мире: никаких сраных мулов. Стоит ли говорить, что как только мой мул бросил якорь, мул Луция Домиция последовал его примеру. И вот мы стоим, загораживая путь, а римляне с каждой секундой все ближе.
Передний человек завопил:
– Уберите этих проклятых животных с дороги! – Что ж, это сильно помогло. Я тянул изо всех сил (каковых у такого тощего мелкого типа, как я, немного), и Луций Домиций тянул тоже – и если его мул не двигался с места, то что требовать от меня?
В общем, процессия остановилась примерно в шаге от нас, и было совершенно очевидно, что никого этого не обрадовало. Пехотинцы схватили нас и швырнули в сторону; я приземлился на задницу, Луций Домиций треснулся башкой о мощеную дорогу. Они попытались переместить мулов, но у них тоже ничего не получилось. Подъехал один из кавалеристов, но мой мул, должно быть, сказал какую-то гадость по-лошадиному, потому что его прекрасная белая кобыла ни с того ни с сего распсиховалась и попыталась перекинуть своего наездника через голову. Затем дверь кареты отворилась и появилась идеально круглая голова. Она закричала:
– Из-за чего остановка? Что происходит?
Чудесно, мы встретили сенатора.
Главный головорез закричал в ответ, пытаясь разъяснить ситуацию:
– Это мулы, господин, их не сдвинуть с места!
Сенатор нахмурился и секунду подумал.
– Убейте их, – сказал он. – Я не намерен торчать тут весь день.
Кавалерист спрыгнул с лошади, передал поводья головорезу, выхватил меч и рубанул моего мула по шее.
Бедная скотина еще не долетела до земли, а он уже проделал то же самое со второй, и через секунду лакеи стащили оба трупа на обочину. Проблема решена.
И я был бы счастлив, если бы на этом все и кончилось. Но римские сенаторы обожают выказывать справедливость как раз тогда, когда это никому не нужно. Он приказал привести нас, и вот мы стоим прямо перед ним, сжатые со всех сторон его подхалимами.








