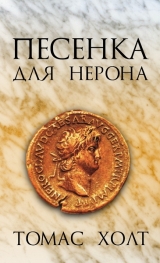
Текст книги "Песенка для Нерона"
Автор книги: Том Холт
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 33 страниц)
Томас Холт
Песенка для Нерона
Один
Короче, сидели мы в камере смертников в Дамаске – это в Сирии, и уж поверьте, вам бы там не понравилось: убийственно жарко, а люди недружелюбны – в ожидании солдат, которые должны были вывести нас оттуда и распять.
Я постучал его пальцем по плечу (он сидел в углу и дулся) и сказал:
– Луций Домиций, можно задать тебе вопрос?
– Отвали, – пробурчал он, так что я еще раз постучал его по плечу.
– Слушай, —сказал я. – Мы вместе уже – сколько? – лет семь или восемь, я сбился со счета, и все это время я хотел тебя спросить...
– Спросить что?
Я пожал плечами.
– Ну, это немножко личное, а сам знаешь, какой ты становишься нервный, когда мы говорим о прошлом. Но с минуты на минуту за нами придут и мы умрем, так что я подумал, ну чего плохого, если я спрошу?
– И?
– Не возражаешь, если я задам тебе вопрос?
Он не повернулся, но его плечи вроде как колыхнулись.
– Да, почему нет? Что ты хочешь узнать?
– Это правда, что ты убил свою мать?
– Бога ради, Гален, – на сей раз он повернулся. – Больше тебе ничего не пришло в голову в такой момент?
– Да все нормально, – сказал я. – Не горячись. Просто хочу знать, вот и все.
Он вздохнул.
– Ты просто хочешь знать.
– Точно. Ну давай, чисто по-дружески. Мы же с тобой старые друзья.
У него сделалось выражение, такое, знаете, «у меня нет слов».
– Нет, – сказал он. – Нет, я ее не убивал.
– А, хорошо, – сказал я. – Только вот все говорят, что убил.
– Значит, все ошибаются, – ответил он. – И не в первый раз. Не стоит верить всему, что подслушаешь в банях.
– Прекрасно, – сказал я, подняв руки вверх. – Я тебе верю. Раз ты говоришь, что не убивал, значит, не убивал. Но только ты должен признать, что убийство матери – это не такая вещь, которую можно просто взять и выдумать. Обычно, когда люди такое говорят, какая-то доля правды в этом есть.
Он нахмурился.
– А, – сказал он. – Ты имеешь в виду, я убил ее чуть-чуть?
Я вздохнул.
– Опять ты за свое, – сказал я. – Злишься. Стоит мне только заговорить о прошлом, ты злишься. Многих бы такое обращение обидело. Тебе повезло, что меня трудно обидеть.
– Я знаю, – сказал он странным тоном.
– Ну что ж. Если ты говоришь, что не убивал старушку-мать, я тебе верю, безо всяких сомнений. Ладно, а как насчет твоей жены?
Он уставился на меня так, будто я брежу.
– Что насчет моей жены?
– Ты ее убил?
– Нет, блин, я не убивал ее, – отрезал он. – Ни ту, ни другую, – добавил он.
Я заглянул в кружку для воды, просто на тот случай, если с тех пор, как я смотрел последний раз, минуты две назад, кто-то незаметно прокрался за нашими спинами и наполнил ее. Позвольте заметить, сирийские тюрьмы – самое гнусное место на земле. Жарко, как в аду, и на день выдают по махонькой кружечке воды.
– Спасибо, – сказал я. – Это все, что я хотел знать. Просто когда годами слышишь эти истории, становится любопытно. Ну, ты знаешь.
– Нет, – сказал он. – Не знаю. В чем вообще дело? Неужели тебя беспокоит мысль о том, что ты заперт в одной камере с маньяком-убийцей?
Я рассмеялся.
– Сроду так не считал. Ты вот думаешь, я шучу, а я ведь как-то сидел с убийцей. Вот это было настоящее чудовище: украл мальчишку-раба из барака какого-то большого поместья, порезал его на кусочки, зажарил на масле и съел. Сказал, был голоден, а денег не было даже на тарелку кильки. В общем, я сидел с ним... в Беневентуме, кажется, было дело, а может в Анконе, в общем, без разницы – и приятнее человека я не встречал. Мы нацарапали доску для шашек на полу, а шашки сделали из хлеба.
Он нахмурился, типа он о чем-то задумался.
– И что же с ним в конце концов сталось?
– О, его казнили, – ответил я. – В принципе, их можно понять. Нельзя, чтобы такие жуткие ублюдки шлялись по сельской местности. Но со мной он держался очень вежливо.
Он снова развернулся и уставился в стену.
– Я бы не возражал, если бы ты заткнулся. Мы скоро умрем, и мне хотелось бы привести в порядок мысли.
– Справедливо, – сказал я. – И надеюсь, ты не против, если я спрошу, просто из любопытства. Ты совершенно уверен насчет жен, кстати?
Он издал странный звук; я не совсем понял, что он значил.
– Совершенно уверен, – ответил он.
– Просто, – продолжал я, – твоя первая жена... боже, как ее звали? Память, как решето. Олимпия? Орфиция?
– Октавия.
– Точно, Октавия. Разве ее не казнили или типа того?
– Да.
– А, так ты все-таки...
– Нет, не все-таки, – он потер глаза большими пальцами. Он всегда так делал, когда обижался. – Ее обвинили в супружеской измене и суд приговорил ее к смерти. Я тут абсолютно не при чем. На самом деле я пришел в ужас, когда узнал. Доволен? Или ты хочешь, чтобы я какую-нибудь клятву тебе принес?
– Нет, нет, я верю тебе, – сказал я. – В конце концов, зачем тебе врать? Особенно сейчас, когда мы того и гляди умрем. Ну то есть – какой смысл?
В общем, так он мне сказал, и, повторяю, зачем бы ему врать? Я не первый встречный и поперечный, и Бог свидетель, он знал за мной столько грехов, что хватило бы на дюжину повешений и четвертований, даже если бы мы не должны были умереть сразу же, как сержант вернется с обеда. Стало быть, он мог не боятся, что я стану его шантажировать или еще что; а уж если б я собрался его шантажировать... ну в общем, вы поняли, я уверен. Так что да, я верю ему. Лжеца не обмануть враньем, говаривала моя старая матушка, и за все время наших с ним странствий я не припоминаю ни одного раза, чтобы он мне соврал. Не то чтобы я проверял, конечно.
В общем, можете мне верить или не верить, как угодно. Между Лондиниумом и Вавилоном хватает магистратов, городских префектов и начальников стражи, которые не поверят мне, если я скажу, что огонь жжется – и правильно сделают, поскольку знают меня только с профессиональной стороны. Даже если и так, повторяю – зачем мне врать? Мне с этого никакой выгоды, разве что я хотел бы сохранить доброе имя моего друга, если б было, что сохранять. Не важно. Насколько мне известно, Луций Домиций Агенобарб Нерон Клавдий Германик Цезарь Август не убивал свою старенькую маму, первую жену и вторую жену. Кроме того, я не думаю, что он совершал все те преступления, которые ему приписывают – вроде устроенного им пожара и всего такого. Не такой это был человек.
А когда проводишь в чьей-нибудь компании многие годы, ночуя в канавах и под телегами, попадаешь с ним в тюрьмы, подземелья и камеры смертников и выходишь на свободу, и Бог знает, что еще, то узнаешь человека довольно хорошо.
Ну так вот, свое мнение о нем я высказал, а верить или нет – дело ваше.
В любом случае, даже если кое-что за ним и водилось – а всей правды вам все равно не узнать, слышите вы только то, что вам хотят рассказать – для начала, мать его была злобной старой сукой, с какой стороны не посмотри на нее, а что касается жен, то не думаю, что они были сильно лучше: все аристократы жестоки, как бойцовые петухи, и на три четверти не в своем уме из-за близкородственных браков и прочего. Так что даже если он что-то и совершил из того, что про него рассказывают, я не могу его винить. В конце концов, я и сам не девственная весталка, чего уж тут скрывать. Все, что я знаю, это как он обращался со мной и моим бедным братом, земля ему пухом. А ради этого я не боюсь подставиться, когда говорю: нет, он не был злодеем, чудовищем и что там еще про него говорят. Он был нормальный мужик.
Если вам интересно, из камеры смертников мы выбрались только так.
Повезло, конечно, спорить не буду – еще бы четверть часа, и нам конец. Но прямо перед тем, как сержант должен был нас забрать – потом он мне рассказывал, что он уже шел с ключами, и если б его внезапно не прохватило и не пришлось заскочить посрать, то мы бы стали кормом для ворон – явился глашатай от наместника с известием, что жена Его Великолепия родила двойню после двенадцатичасовых схваток, а он за это время успел пообещать госпоже Диане (по-вашему Артемида) освободить всех заключенных, приговоренных сегодня к смерти, если с ней все будет хорошо. Вот так все тогда закончилось и это нормально. Понимаете, если посмотреть свежим взглядом, становится удивительно, как часто со мной происходят самые поразительные вещи. Наверное, я нравлюсь богам, ну или типа того.
Ладно, если хотите пример, вот история о том, как я повстречал Луция Домиция – вот это была задница, скажу я вам. Короче, нас, Каллиста и меня, привязали к крестам и установили стоймя, и я такой говорю себе: Гален, вот теперь ты всрался по-настоящему. Толпа орала и кидалась всякой дрянью – почему, кстати, люди это делают? Они же тут вообще не при чем. Сержант стражи ухмылялся нам самой скотской ухмылкой и показывал эту ихнюю деревянную дубинку, которой ломают распятым ноги, чтобы они не могли привстать и вдохнуть, когда в толпе вдруг возникло какое-то шевеление, как будто все ломанулись освободить дорогу, и появился портшез, который несли здоровенные германцы в окружении дюжины стражников; все они внезапно остановились, а в маленькое оконце в портшезе высунулась какая-то рожа и спросила, что происходит.
– Да просто казнь, Цезарь, – ответил один из стражников. Вообще-то совершенно дурацкий ответ, тот мужик и сам все прекрасно видел. Тут он, однако, подозвал этого стражника и что-то ему прошептал, а тот побежал и прошептал что-то сержанту стражи, а этот пошел и заговорил с тем первым, в паланкине.
– Что они натворили? – спросил мужик из паланкина.
– Очень серьезное преступление, Цезарь, – сказал сержант.
– Правда? Убийство?
– Хуже, Цезарь.
– Силы благие! Хуже убийства? Это очень плохо. И что же конкретно?
– Они прикидывались тобой, Цезарь.
Некоторое время стояла тишина, а потом из портшеза раздался совершенно удивительный звук – это, конечно, смеялся Луций Домиций.
– Правда? – спросил он.
– Так и есть, Цезарь.
– О, думаю, мне надо посмотреть на них.
Германцы опустили портшез на землю, двери открылась и он вышел. И знаете что? Несмотря на то, что я висел, привязанный за руки, и едва мог дышать, я обо всем этом на мгновенье забыл, потому что этот тип – и я не дурак, я прекрасно понял, кто это – ну, не каждый день ты встречаешься с Императором Рима. А кроме того, он оказался полной копией моего брата Каллиста.
Я сказал – точной копией: на самом деле, когда они стояли рядом, различить их было просто. Ну, скажем, у Каллиста волосы были потемнее, не такая толстая морда, да и шея потоньше. Но все равно они были офигенно похожи, и Луций Домиций, увидев это, натурально охренел.
– Ну-ка быстро снимите его, – сказал он. – Чистое преступление казнить такого красавчика.
Понятное дело, все вокруг принялись ржать, как в театре, и по сей день я не уверен, на полном ли серьезе Луций Домиций приказал сержанту отпустить нас или просто пошутил. Сержант, однако, не стал испытывать судьбу – с прямым приказом императора Рима шуток не шутят. Он взлетел на крест, как хорек по водосточной трубе, и спустил Каллиста вниз так осторожно, как будто тот был фарфоровый.
Это было прекрасно, но не для меня.
– Эй! – заорал я. – А как же я?
Должно быть, в этом было что-то смешное, потому что все вокруг опять принялись ржать, а Луций Домиций посмотрел на меня и спросил:
– А это кто? Вон тот крысолицый чувак, слева. Он, кажется, чем-то очень огорчен.
– Это брат самозванца, Цезарь, – сказал кто-то, а Луций Домиций пожал плечами и выразился в том духе, что некрасиво спасать одного брата, а второго оставлять воронам, и в следующий же момент я стоял обеими ногами на земле (на которой уже никак не надеялся оказаться, вот уж точно). Как же меня стало тут колоть и щипать везде, где только можно – конечно, после того как я повисел на одних запястьях – но у меня хватило ума не разевать рта и не жаловаться. Удача – чудесная штука, и отпугивать ее не стоит.
*
Мы, греки, все время треплемся. Тем и прославились. Если вы бывали в Греции, то знаете, почему. Если не были... что ж, все очень просто: на самом деле Греция – это несколько пыльных клочков ровной поверхности, затерянных среди гор. Почвы на них с палец, а дождей не бывает. Чтобы просто выжить, нужно целыми днями лупить по засохшим комьям глины мотыгой. Поэтому если говорить о всяких путных вещах – типа там золота, серебра, мебели, одежды и хлеба настолько мягкого, что на нем нельзя править бритву – то их у нас немного.
Понятно, что когда у тебя нет практически ничего, жить становится совершенно незачем, если только не забыться в общении. Если не брать в расчет муравьев, то самые общительные существа в мире – это греки. Одно из моих самых ранних воспоминаний – это путешествие из нашей деревни в соседнюю по прямой, пыльной дороге между крохотных полей, лежащих по обе ее стороны. На каждом из этих полей торчал сгорбленный человечек, который, опершись о мотыгу, трепался поверх межевой стены с другим сгорбленным человечком. Говорю вам, болтовня греческих крестьян подобна гудению пчел: ее слышно издалека и куда бы ты не шел, она несется со всех сторон.
Спросите кого угодно, кто знает в нас толк и вы узнаете, что самые греческие греки – это мы, афиняне. Назовите какую угодно греческую черту, и можно биться об заклад, что в Афинах ее в два раза больше, чем где угодно еще.
У нас больше всех гор на квадратную милю, и наши горы самые сухие и скалистые. Мы круче всех в торговле и заключении сделок. Мы самые хитроумные, и самые хитрожопые тоже мы. Самые большие усилия ради того, чтобы жить, не ковыряясь в земле, предприняты нами. Мы самые разговорчивые. Афинское прошлое – самое славное и ослепительное среди прошлых всех греческих городов в мире. Никакого будущего, ради которого стоило бы проявить немножко хитроумия, но зато великое прошлое, которым мы ужасно гордимся.
Взять вот хоть нашу семью. Сейчас мы никто, но зато знаем своих предков на сотни и сотни лет назад, вплоть до невероятно знаменитого и потрясающе богатого комедиографа Эвпола из Паллены. После него семья катилась под гору, конечно, потрясающее богатство растратилось вместе с общественным положением, уважением и всем прочим. Но поскольку универсальный закон гласит, что отцы во всем превосходят сыновей и все сущее год от года становится все говеннее, мы никогда не ныли и не жаловались.
Когда я был маленьким, мы жили с дедушкой в Филе – это примерно так далеко от Афин, что если поселиться чуть дальше, то перестанешь быть афинянином. У деда была жалкая маленькая ферма, двенадцать акров или около того, раскиданных вокруг дома, и плюс к тому кабак. Кроме него там жили моя мать, мой брат Каллист и я, а также наши двоюродные братья Терион и Плут, сыновья дяди Адреста, который записался в легион и домой не вернулся. С детства я знал, что со мной и Каллистом что-то не так, потому что мы жили при кабаке, чистили лук и ходили за лошадьми, пока Терион и Плут работали в поле с дедушкой. Мы с братом принимали это как должное – ну, это вообще нормально для детей – а кроме того, чистить лук куда как проще, чем его выращивать, так что мы не парились. Но всегда было понятно, что когда дедушка умрет, нам наладят пинка под задницу и мы отправимся в мир, а Терион и Плут поделят между собой ферму и кабак. К счастью для нас, дедушка ухитрился продержаться до шестидесяти пяти, когда Каллисту исполнилось семнадцать, а мне – шестнадцать. Когда же дедушка наконец подвернул боты – мне он всегда нравился, несмотря на скверный нрав – Терион получил землю, Плут – кабак, а нам досталось по паре сандалий, по плащу, по караваю хлеба каждому и одно направление на двоих – в город.
Мать вся рыдала, когда мы покидали дом, но зная ее, мы не очень-то переживали по этому поводу и двинулись прямо в Афины, чтобы найти удачу и славу.
Когда мы туда добрались, запасы удачи как раз исчерпались, но прославились мы практически мгновенно – в основном среди сержантов стражи и охранников рынка. Я почему-то всегда верил, что у меня талант к воровству. Не знаю уж, откуда я взял эту веру – может быть, какой-то бог, сука, вложил мне ее в голову – но очень скоро я убедился, что горько заблуждался. Правда заключалась в том, что я не был прирожденным вором. Если на то пошло, то я находился где-то на две-три отметки ниже среднего. Это ужасный позор, и я был бы очень рад ошибаться, но факт остается фактом.
Причем не то чтобы я замахнулся на что-то не по чину. Первое, что я попытался спереть, было яблоко. Это яблоко я могу представить сейчас так же ясно, как когда его увидел. Оно было маленьким, сморщенным, немножко овосковевшим за зиму, и в тот день, когда мы с Каллистом в первый раз оказались в городе, лежало на самом краешке прилавка на главном рынке Афин. Последние остатки хлеба мы прикончили накануне вечером, денег у нас не было вообще – как и идей, где их раздобыть – и вдруг я увидел это яблочко, прямо у себя перед носом. Казалось, никого оно не интересует. Продавец препирался с какой-то теткой насчет гнилого граната, а народ вокруг прислушивался к спору, как это в обычае у греков. Казалось, всего-то и надо навалиться на прилавок, заложив руки за спину, ухватить яблочко и пойти себе восвояси. Всего-то делов. Трехлетний ребенок справится.
Да, но я не был трехлетним ребенком. Дети могут довороваться до убийства без каких-то проблем, потому что они такие милые и невинные, что их не заподозришь ни в чем. Меня же подвело собственное лицо. Я выгляжу, как вор – очень многие говорили мне об этом, и я подозреваю, что как раз потому-то и вообразил себя вором – да к тому же я страшно волновался: как-никак, первая попытка – ну, то есть, не в кругу семьи. В результате, как только я обхватил яблоко липкими мизинцами, огромная, с противень, рука обрушилась мне на плечи и какой-то клоун принялся орать на весь рынок, взывая к страже.
Как выяснилось, продавец, который спорил с теткой, был хозяином соседнего лотка, а тот, которому на самом деле принадлежало мое яблочко, сразу меня приметил.
Вот так, не успев войти в город, я оказался в каталажке при рынке, где я мог вдоволь сожалеть, что не остался в Филе и не умер там от голода, потому что если уж тебе суждено умереть ужасной смертью, лучше делать это среди друзей. В этот момент я в полный рост жалел себя, а заодно психовал по поводу драгоценного братца, бросившего меня в беде – как только начались проблемы, он каким-то образом сделался невидимым. Я как раз составлял список грубых слов, которыми собирался назвать его при нашей следующей встрече на том берегу Стикса, когда сержант – длинный, тощий корсиканец – просунулся в камеру и сообщил, что ко мне пришли.
Посетителем, конечно, оказался Каллист, только его было не узнать. На нем была потрясающая зелено-оранжевая туника, вышивка по рукавам, все дела. На ногах у него были пятидесятидрахмовые сандалии, а с головы прямо капало дорогущее масло, которое воняло фиалками и немытыми подмышками. В общем, он поблагодарил сержанта зычным, властным голосом и дал ему драхму.
– Это он? – спросил сержант.
Каллист вздохнул.
– Боюсь, что да, – ответил он, и в его голосе было столько печали и разочарования, что можно было разрыдаться. – Что ж, – продолжал он. – Я могу только извиниться. Это уже третий раз с тех пор, как мы сошли с корабля в Коринфе. Я все время твердил ему, что с ним будет, если он не возьмет себя в руки, да только он не слушал. На самом деле, это такая болезнь.
Сержант скорчил рожу.
– Тебе надо продать его поскорее, – сказал он, – пока он не наделал дел.
– Знаю, – Каллист щелкнул языком, как это делают богачи. – Но не могу, в том все и дело. Видишь ли, он был любимчиком моего бедного отца, а я обещал, когда он лежал при смерти, что я присмотрю за бедолагой и постараюсь держать его под присмотром, – он потряс головой, разбрызгивая масло по дощатому полу. – С моей стороны было бы непорядочно не попытаться компенсировать затруднения бедного лоточника. Как ты думаешь, десяти драхм будет достаточно?
Сержант ухмыльнулся.
– Точно так. Да за десять драхм этот Мнестр продал бы собственного отца, если б знал, кто он.
– Превосходно, – сказал Каллист. – Послушай, удобно ли будет, если я отдам деньги тебе, чтобы ты передал их этому самому Мнестру? Просто я стесняюсь сам идти к нему.
Улыбка сержанта говорила, что если Мнестр и увидит когда-нибудь хотя бы одну из этих драхм, то только если сержант решит купить у него пару яблок.
– Да конечно, – сказал сержант. – Без проблем. Ладно, ты, – обратился он ко мне, – встал! Должно быть, сегодня твой счастливый день.
Вот так, видите? Каллист не выглядел вором. Каллист выглядел благородным человеком... да чего там, он выглядел, как император, только мы тогда этого еще не знали – настолько благородным, что его никто никогда ни в чем не подозревал. Это означало, что он просто зашел в бани, скинул одежку, занырнул и поплескался, сделал прическу, получил массаж – ну, полный комплект. Затем он вернулся в раздевалку и принялся натягивать самый дорогой прикид, какой увидел – а если бы служитель что-нибудь спросил, ему было достаточно посмотреть на него поверх своего носа, чтобы бедолага слинял сей же момент, в опасении, что его выпорют за оскорбление знатного господина. И так уж ему повезло, что при одежде оказался толстый кошелек, который чертовски облегчил мое освобождение.
– Не развевай рот, – прошипел он мне, когда мы выходили из камеры, – и Бога ради, постарайся выглядеть как раб.
Ну, это-то было нетрудно. Таким порядком мы прошли где-то с квартал, просто чтобы исключить всякие неожиданности, а затем свалились в тени и принялись трястись, как листики.
– Я все, – сказал Каллист. – С этого момента мы будем честным людьми. Иначе я не выдержу.
– Чепуха, – сказал я. – Ты просто гений. Где ты, однако, взял все это барахло?
Тут он мне рассказал, как было дело, и я сразу же – как будто какой-то бог спустился с неба и все мне растолковал – сразу же понял: никакого воровства, мы станем мошенниками. Во-первых, почетнее, во-вторых, доходнее.
– Ты, должно быть, с ума спрыгнул, – сказал Каллист, когда я изложил ему свое видение. – Мне и этого раза хватило. Я несколько лет жизни потерял. Мне было до того страшно, я чуть не обосрался.
Ну, вот вам мой братец во всей своей красе. Я посмотрел ему в глаза и сказал:
– Не будь смешон. Ты одарен от природы. Да ты даже меня убедил, хотя я тебя знаю всю жизнь. Конечно, ты волновался, и это нормально. Ты актер. Все актеры волнуются перед выходом на сцену, это хорошо известный факт. Проклятье, да было бы странно, если б ты не волновался. Но ты привыкнешь, обещаю – а я когда-нибудь врал тебе?
Он прищурился.
– А у тебя была такая возможность, что ли? – спросил он.
Это было не очень порядочно с его стороны, но я был выше.
– Проблема с вами, с актерами, заключается в том, – сказал я, – что вы в себе не уверены. То же самое с флейтистами мирового класса – те тоже думают, что ничего из себя не представляют.
– Да ну, – ответил он. – И сколько же флейтистов мирового класса ты знаешь?
– Одного, – сказал я. – Хризиппа, который появлялся в наших местах, когда мы были маленькие. Я помню, он сказал как-то, что перед выходом на сцену его всегда тошнит. Нервы, понимаешь ли.
Он нахмурился.
– Да Хризипп блевал постоянно, – сказал он, – в основном потому, что упивался дешевым вином на голодный желудок. И вряд ли он относился к мировому классу.
– Один раз он выступал в Неаполе, – указал я, – один раз в Антии и еще один раз на Капри, перед самим императором Тиберием. Если это не мировой класс, то уж я не знаю что.
Каллист потряс головой, как собака, которой вода попала в ухо.
– В жопу Хризиппа, – сказал он. – Ты пытаешься соскочить с темы, как всегда. А я говорю, что мне хватило одного раза. С этим покончено.
– Ты шутишь.
– Серьезно.
– Нет, ты шутишь.
– Гален, ради всего святого, заткнись, – он потер глаза. Он всегда так делал, когда его что-то беспокоило. – Любой другой извлек бы из этого урок, – продолжал он. – В первый и единственный раз, когда ты попробовал нарушить закон, тебя поймали. Причем поймал тебя быстрее, чем пес хватает крысу. Это ни о чем тебе не говорит?
– Конечно, говорит. Это говорит мне, что воровство с рыночных прилавков – дело неблагодарное, а вот жульничество – просто, как два пальца, особенно для такого прирожденного артиста, как ты. Да ты сам это знаешь. Это так же очевидно, как сидящая на твоей тунике оса.
– Последний раз тебе говорю, – сказал он, чуть не плача, – я не собираюсь этим заниматься, и все на этом. Одно дело – вытащить тебя из неприятностей, и совсем другое – зарабатывать этим на жизнь, чего я делать не собираюсь.
– Ладно, – сказал я. – Прекрасно. А что еще мы можем?
Тут я его поймал, конечно, и он это знал. Он ничего не ответил, просто сидел там с несчастным видом, но он знал, что я прав. Два молодых парня из деревни, без денег, без связей... ладно, был двоюродный брат Антилл, который вроде как готов был взять нас на работу, но как вам понравится идея провести остаток жизни, отдраивая дубильные ямы? Как мне представлялось, у нас было два варианта: преступная жизнь или армия. А если присмотреться, два ли это варианта?
Странно, конечно, но мне выпал шанс – спустя годы – поговорить об этом с мудрейшим человеком в мире, и я спросил его, что бы он сделал на нашем месте, и он сказал, что, наверное, то же самое. Ну, это меня обрадовало как ничто другое, как вы можете вообразить, потому что я все время думал об этом, годами, а бывали времена (в основном в камерах смертников или в очереди на галеры), когда я сомневался, что в тот жаркий день в Афинах я сделал правильный выбор. Но, похоже, он был правильный, а это много для меня значило. Одно дело, когда ты сам по себе принимаешь решение и потом с мрачной рожей ждешь, окажется оно правильным или нет – и совсем другое, когда мудрейший человек в мире подтверждает, что ты не ошибся.
На случай, если вы родились в Британии или ваш папа до тридцати лет держал вас в конюшне, скажу, что мудрейшим человеком в мире был Луций Анней Сенека, философ, и я встречал его, когда мы с Каллистом зависали при императорском дворе после того, как встретили Луция Домиция. В те дни, как вы, конечно, помните, Сенека практически в одни руки правил империей, поскольку был учителем Луция Домиция, когда тот был еще пацаном. Не стоит и говорить, что этим должен был заниматься Луций Домиций, он был император и все такое, но при этом он был молодым парнем, который толком не знает, какой нынче час – зато у него хватило ума оставить все важные вопросы людям, которые понимали, что делают, и которым он мог доверять. И главным из них был Сенека... в конце концов, он был мудрейшим человеком в мире, и он вел всю бумажную работу, все бабки, все переговоры с заграничными царями и все остальное, а военной стороной занимался начальник стражи, несчастный старый боец по имени Бурр. В общем, это не относится к нашей истории, и я упоминаю о всем этом только затем, чтобы вы знали, как вышло, что такой низкий тип, как я, разговорился с таким утонченным господином и ученым, как Сенека.
Это был жаркий ленивый летний день, когда все во дворце или спали после обеда или занимались чем-то совершенно личным. В такие дни можно было часами бродить туда-сюда по коридорам, дворам и галереям дворца – и не встретить ни одной живой души. Я болтался без дела – тут ничего необычного, конечно – и не встречал никого, только редкие писцы пробегали мимо с полными руками свитков и табличек; я брел куда-то, не знаю куда, в поисках собеседника. В конце концов я вышел на дворик с довольно миленьким фонтанчиком и некоторое время просидел там с разинутым ртом, думая ни о чем конкретном, а потом откуда ни возьмись появился какой-то старый, печального вида тип, плюхнулся рядом с мной на скамью и принялся ковырять в ухе пальцем.
Я сразу понял, кто это, поэтому захлопнул рот и перестал двигаться, только пялился в маленький пруд под фонтаном. Он тоже ничего не говорил. Прочистив одно ухо, он взялся за другое, и я решил, что он сосредоточен на работе, как и положено мудрейшему человеку в мире. Затем, довольно неожиданно, он повернулся ко мне и спросил:
– Ну, из каких ты будешь?
Мне показалось, что я его понял.
– Я Гален, – ответил я. – Брат Каллиста.
Он нахмурился, а потом рассмеялся.
– Нет, я о другом, – сказал он. – Я спросил, стоик ты или эпикуреец?
Я понятия не имел, о чем он говорит.
– Ни тот, ни другой, – сказал я. – Я из Филы в Аттике.
Было видно, что он изо всех сил сдерживается, чтобы не рассмеяться.
– Извини, – сказал он. – Я задумался о чем-то постороннем.
Я, может быть, и не самая острая бритва на столе, но и не совсем дурак. Когда ты оказываешься на одной скамье с человеком, который управляет миром, и вид у него такой, как будто он не прочь поболтать, ты начинаешь болтать. Кроме того, как я уже говорил, я грек, и готов болтать и безо всяких причин.
– Вот эти вот, – спросил я, – о которых ты только что говорил – это вообще что?
Он улыбнулся.
– Стоики и эпикурейцы?
Я кивнул.
– Они самые.
Он откинулся назад и обхватил колено руками.
– Это названия двух основных школ в ортодоксальной нравственной философии, – ответил он, но тут же спохватился, потому что его слова явно пролетели у меня мимо ушей, как стая синиц. – Разные точки зрения на жизнь, – объяснил он, – разные способы отличать правильное от неправильного, добро от зла. Стоики считают, что все, что происходит с нами, уже предрешено, еще даже до нашего рождения. Они держатся той точки зрения, что у каждого из нас свое предназначение, и то, что мы там себе думаем, никак не влияет на все, что с нами случается. Поэтому значение имеют только намерения – хорошие или плохие. Мы не можем изменить свои действия, потому что те уже совершены, но способны управлять своими настроениями,– он погладил бороду. – Посмотри на это так. Предположим, ты актер в театре. Ты не можешь выбирать, что тебе говорить, потому что все слова сочинены драматургом, и тебе нельзя изменить в своей речи даже одного слога. Твоя работа – произнести эти слова самым наилучшим образом. Пьеса может быть совершенно негодной, но ты все равно способен блеснуть, сыграв свою негодную роль талантливо. Ну, так считают стоики.
– Кажется, понимаю, – соврал я. – А те, другие? Эпи-чего-то там?
– Эпикурейцы, – ответил Сенека. – Они верят в нечто совсем иное. Они считают, что все в жизни случайно, и ничто не имеет никакого смысла, кроме того, который ты сам вкладываешь. То есть, – продолжал он, – правое и неправое целиком определяется нами, и единственной веской и разумной причиной делать что-то является удовольствие, получаемое нами, или же преимущества, извлекаемые нами из наших действий.
Ну, пока он этого не произнес, я был уверен, что я стоик, поскольку в том, что я делал, не было никакой моей вины. Но как только он сказал об удовольствии, я осознал, что определенно отношусь к другой партии, к эпикурейцам. Удивительно, как просто совершить ошибку в таких простых и незамысловатых материях.








