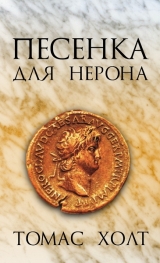
Текст книги "Песенка для Нерона"
Автор книги: Том Холт
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 33 страниц)
– Да все в порядке, – заявил один из них охрипшим голосом. – Мы тебе верим. Садись и играй, пока тебе прет удача.
Поскольку Луций Домиций проиграл четыре круга из семи, выражение «прет удача» изрядно расширяло понятие «поэтическое преувеличение», но он радостно согласился и снова сел. Они вручили ему кости и он продолжил проигрывать.
Боже, как он проигрывал. Где-то через час он был в минусе на одну тысячу сестерциев, то есть примерно на треть мифических запасов своей соли.
Затем они типа как очнулся от сна, чтобы обнаружить, что обмочил постель.
– Это ужасно, – произнес он. – Что скажет брат? Мы собирались потратить деньги на посвящение алтаря нашей мачехи, да упокоится она в мире. Он меня убьет.
Его было так жалко, что все игроки, как один, уставились в сторону и никто не сказал ни слова. Однако тот из них, которому досталась большая часть товара Луция Домиция, ухмыльнулся голодной улыбкой и сказал:
– Я тебе вот что скажу. Я дам тебе шанс отыграть все назад. Все сразу. Что скажешь?
Луций Домиций покусал губу.
– Не знаю, – сказал он. – По-моему, я и так натворил достаточно бед.
Игрока это не остановило.
– Вот мое предложение, – сказал он. – Все или ничего. Один круг. Ты можешь вернуть все зараз. Давай, это фантастический шанс.
Луций Домиций разыграл эту ситуацию как надо. Сперва он не хотел об этом и слышать. Затем, пока игрок поднимал ставки, он втянулся в разговор, по шажку за раз, пока наконец они не договорились: все, что он уже проиграл плюс соль еще на пятьсот сестерциев против того, что было в банке – двести сестерциев, плюс арфа. Ну вот, разве можно вообразить предложение щедрее?
Луций Домиций прошел через все стадии сизифовых мук, прежде чем кивнул и произнес: ладно, давай. Игрок засиял, как солнце над Адриатикой, и вручил ему кости. Воцарилась мертвая тишина. Луций Домиций потряс кости в кулаке и метнул их. И проиграл.
– О, ну что ж, – сказал игрок. – Не расстраивайся. В следующий раз повезет.
Луций Домиций смотрел на кости, как Орест на Фурий.
– Хорошо, – сказал он. – Еще один бросок. Всю оставшуюся соль против того, что ты уже выиграл. Всего один круг, – добавил он жалобно. – Ну пожалуйста.
Но игрок покачал головой.
– Извини, – сказал он. – Я не могу. Это значит искушать Судьбу, а я глубоко религиозен.
Наступила мертвая тишина. Все таращились на них. Затем Луций Домиций кивнул.
– Что ж, это правильно, – сказал он. – Подожди здесь, я принесу соль.
Игрок сморщился.
– О нет, – сказал он. – Это вряд ли. Я пойду с тобой.
– Да как хочешь, – ответил Луций Домиций, пожав плечами. – Мне без разницы. Пошли.
И он пошел прочь, а игрок следовал за ним, как хорошо натасканная борзая.
Я немного подождал и двинулся следом. Вышло так, что на пути попался темный, узкий переулок. Я ударил его не сильнее, чем необходимо; он был алчным ублюдком, но ведь это мы его надули, а не он нас.
– Прекрасно, – сказал я, выпрямляясь. – Теперь у нас есть арфа. Давай убираться отсюда, пока его дружки не начали нас искать.
Мы оттащили его в подвернувшуюся навозную кучу, а сами направились к воротам Пренесты.
– Надо запомнить этот трюк на будущее, – сказал я, пытаясь не отстать от Луция Домиция, который двигался широкими шагами. – В смысле, так не только арфы можно выигрывать.
Но он вскинул голову.
– Мы завязали, – сказал он. – Таков был план. Теперь, когда у меня есть это, – и он обнял арфу, как младенца, – мы забудем о жульничестве навсегда. Свободны и безгрешны, разве не так ты говорил?
Если нас кто-то и высматривал на воротах, то очень незаметно; когда мы покидали город, в затылке у меня не чесалось (хотя это не самый надежный признак, уж поверьте; как-нибудь я расскажу вам о том случае в Норике, когда мужик, которого мы окучивали целый вечер, думая, что он глава местной воровской гильдии, оказался вестовым военного префекта).
План предполагал переход в тридцать с чем-то миль до Пренесты по прямой, ровной военной дороге. Пренеста была городом, в котором бродячему арфисту было легко найти работу – множество всадников и дельцов, выдававших себя за всадников, держали там дома или виллы, в целом городские, но в то же время достаточно деревенские, чтобы можно было играть в Цинцинната; помимо этого там было полным-полно таверн и постоялых дворов, где тоже можно было пустить шляпу по кругу и обнаружить в ней кое-что помимо яблочных огрызков и выпавших волос. Процветающая, богатая Центральная Италия, владения Бога. Пока мы шли, ощущая под ногами идеально вытесанные военные плиты и то и дело уворачиваясь от несущихся колесниц и грохочущих телег с капустой, Луций Домиций принялся упражняться в игре на арфе. Десять лет прошло, сказал он, и все это время он даже не притрагивался к ней. Мастерство, конечно, не пропьешь, не уставал подчеркивать он; но кожа на пальцах стала тонкой, а мускулы ослабли.
Тут он был прав. Для начала единственными звуками, которые он сумел извлечь, было тихое блямканье – как треснувшая наковальня под молоточком златокузнеца. Но он немного поколдовал со струнами и колками и наконец произвел то, что глухой мог бы принять за музыку, если бы отвлекся в этот момент на что-то интересное.
– Хорошо, – сказал он (блям, блям). – Как ты думаешь, что мне следует включить в репертуар? Ничего такого особенного, лишь бы хватило на часовое выступление и повторы.
Я потер подбородок.
– Как насчет «Дочери испанского центуриона»? – предложил я. – В детстве она казалась мне веселой песенкой.
Он сощурился на меня поверх носа.
– Не думаю, что знаю ее, – сказал он. – И вообще, я думал о чем-то более элитарном, чем пивные баллады. Для начала что-нибудь из Гелиодора, может быть, а затем нечто более интеллектуальное: Фрикс или Стрепсиад. «Слезы Ниобы» всегда хорошо встречали в провинциях.
Я зевнул.
– Сделай милость, – сказал я. – Людям за городом не нужна культура, им нужно что-нибудь, чему можно подпевать, хотя бы без слов. Например, вечные «Что за мужик» и «Я спрячу меч».
– Ох, я тебя умоляю, – у него сделался такой вид, как будто я только что пернул. – Ладно, если нам придется играть в египетском борделе, где музыкант нужен только чтобы заглушать вопли. Но если я собираюсь играть для благородных... – он нахмурился. – В смысле, богатых людей... неважно. Я хочу сказать, если ты развлекаешь нескольких друзей за ужином, для создания нужной атмосферы требуется нечто утонченное.
– Херня, – возразил я. – Тут нужно что-нибудь ритмичное, поживее, а не нудятина для волосатиков. Я тебе так скажу, – добавил я, заметив, что он раздувается, как лягушка-бык. – Надо вспомнить понемногу и того и другого. В этом случае ты сможешь прочувствовать атмосферу в доме и выбрать подходящий репертуар, когда до этого дойдет.
Он скорчил рожу, но я, разумеется, был прав, поэтому вот что он решил:
На каждую изысканную одиннадцатисложную пьесу – по одной старомодной разухабистой песенке с хорошим хоровым припевом. Когда мы остановились на ночь на постоялом дворе, я чувствовал себя слегка как Одиссей после сирен. Ну что ж, по крайней мере, Луций Домиций не пел. И очень правильно делал, иначе бы кровь пролилась еще до восьмой мили.
Дела у постоялого двора шли неплохо: конюшни полны, путешественники посиживают на веранде, слуги и кухарки снуют по двору, разнося еду, воду и прочее. Быстрый взгляд на расценки, выведенные на внешней стене, сразу позволял понять, какого сорта было это заведение.
Хлеб 1г
Приправы 2г
Сено на одного мула 2г
на одну лошадь 3г
Вино: Фалернское 4г/6
Домашнее 2г/6
Ординарное 1г/6
В общем, понятно: цены не для возчиков. Хороший знак, подумал я; тот, кто согласен выкинуть две монеты за кружку питьевого вина, не пожадничает бросить в шляпу грош или два, если ему понравится мелодия.
На самом деле, это удивительно, с какой щедростью люди, от которых в иных обстоятельствах не допросишься грязи из-под ногтей, сорят монетами, услышав кусочек песни в общественном месте. Практически любой норовит что-нибудь кинуть, кроме очень бедных и очень богатых. Если б я мог начать все сначала, я бы стал арфистом.
Разумеется, хороший тон и здравый смысл требовали спросить у хозяина разрешения на выступление. Как мы и ожидали, он не возражал: приятные мелодии могли бы развлечь клиентов, сказал он, а то и привлечь кого-нибудь из проезжающих. Пока мы не путаемся ни у кого под ногами, все будет хорошо. Более того, если мы покажем класс, он пришлет девушку со вчерашним хлебом, а попозже позволит бесплатно переночевать на сеновале.
Луций Домиций, конечно, частенько бредил, но тут у него хватило ума отложить Гелиодора и Стрепсиада и сосредоточиться на балладах и популярных песенках. В результате все прошло замечательно, и мы оба остались довольны – я из-за денег, а Луций Домиций (как он сам заявил) из-за того, что нет лучшего аккомпанемента выражаясь по-музыкальному, чем ритмичный перезвон меди. Через некоторое время собралась небольшая толпа и стала просить нас сыграть на заказ. Большинство желало услышать «Ушел в солдаты» или «Карлика Агриппины» или «Вот эту: там-тиди-дам-там-там», но один беззубый отставной солдат попросил сыграть «Берега Скамандера». Если вам эта песня неизвестна – а она почти никому не известна – то это прилипчивая короткая штучка некоего Луция Домиция Нерона Клавдия Цезаря Германика – наверное, единственная из его вещей с мелодией, которую можно насвистывать. Разумеется, старый солдат ничего не бросил в шляпу; на самом деле в следующее же мгновение он уполз к стойке за выпивкой. Но для Луция Домиция это оказалось буквально даром небес; думаю, если бы старикашка попытался развести нас на деньги, Луций Домиций отдал бы ему целую шляпу серебра просто из благодарности.
К счастью, до этого не дошло. К тому моменту, когда мы отступили на сеновал с корзиной черствого хлеба (с образцами древнего салата и ломтем твердого сыра, добавленными из щедрости), нам до четырех сестерциев не хватало всего ничего. Не просто хорошие деньги – практически целое состояние.
– Я говорил тебе, – сказал я. – Мы должны были заняться этим несколько лет назад. Шестнадцать монет просто за то, что ты немного пощипал сушеные кишки. И при этом даже работать не надо.
Луций Домиций насупился.
– Ты был невнимателен, – сказал он. – Это и есть работа. Чертовски тяжелая работа. Я играл четыре часа, ни разу не присев...
– Это не работа, – указал я. – Раньше ты играл для удовольствия. Проклятье, да тебе приходилось подкупать людей, чтобы они пришли и послушали. И даже если считать это работой, то четыре часа поишачить за трехнедельную плату – почти так же хорошо, как быть сенатором, сдается мне.
– Как тебе угодно, – он устроил целый спектакль, чтобы показать, как устал – зевки, потягивание, вот это все. – А теперь нельзя ли попросить тебя завалить хлебало? Я собираюсь поесть этих отбросов и отправиться спать, если не возражаешь.
Я не обиделся, по крайней мере – не сильно.
– Ладно, – сказал я. – Мы поделим заработок, а потом можно будет...
Он нахмурился.
– Что ты имеешь в виду – поделим? – спросил он недовольно.
– Поделим, – повторил я. – Ты возьмешь свою половину, я – свою, как мы всегда делали.
Он рассмеялся.
– Забудь об этом, – сказал он. – Я заработал эти деньги, у меня они и останутся. Скажи спасибо за еду и крышу над головой.
Я не верил своим ушам.
– Что ты сказал? – спросил я.
– Ты меня слышал. Я работаю, я получаю. Или ты подыгрывал мне на флейте, да я не заметил?
– Ты ублюдок, – сказал я. – Вот что, давай сюда мою долю, пока я не рассердился.
Думаете, небось, что он рассыпался в извинениях? Ничуть не бывало. Наоборот, он вроде бы разозлился на меня.
– Ты вороватый мелкий грек, – рявкнул он. – О какой нахрен доле ты говоришь? Ты ни хрена не делал, только сидел, задрав ноги. Ты даже со шляпой не ходил.
Я уговаривал себя сохранять спокойствие, действовать разумно; незачем выходить из себя.
– Козел, – сказал я, начиная трястись и запинаться. – Чья вообще это была идея, твою мать? Кто уговорил тебя этим заняться, когда ты твердил: о нет, я не рискну, вдруг кто-нибудь меня узнает? Кто сказал, что мы можем спереть арфу? Кто отоварил того малого по башке? Если на то пошло, кто спас тебя от Стримона, когда все остальные на тебя забили? Если бы не я, ты бы уже был трупом.
– Мне это нравится, – фыркнул он. – Ладно, если ты решил поиграть в эту игру, то кто спас тебя от людей префекта в Александрии? Кто вернулся за тобой в ту тюрьму в Дамаске, хотя меня даже никто не искал?
– О, отлично, – сказал я. – Надо думать, ты сам спасся от торговца свечками и его ребят в Истрии, и я был совершенно не при чем.
– Прежде всего это ты меня втравил в то дело, что да, то да, – сказал он. – Но все, что я помню об Истрии, это что по твоей милости мы оба чуть не убились, когда ты предложил выпрыгнуть из окна.
– Да пошел ты в жопу, – сказал я. – Ладно, а рыботорговец в Галикарнасе? Он руки тебе собирался отрубить своим тесаком.
– Херня. И раз ты уж ты начал – что скажешь о том случае, когда ты висел на кресте, а я приказал тебя снять? Попробуй-ка это побей!
– Да, но ты это сделал только из-за Каллиста... – я осекся; нам обоим было понятно, что это уж слишком. Иначе я бы сказал: а как насчет того раза, когда мой брат умер, чтобы ты жил? и все стало бы совсем плохо.
Он уставился на солому.
– Ну, – сказал он, – пожалуй, ты помогал мне выбрать песни. И придумал, как добыть арфу. И...
Я вскинул голову.
– Половина – слишком много, – сказал я. – Думаю, надо пересмотреть доли. Как насчет разбивать три к одному?
– Ровно пополам, как мы всегда делали, – настаивал он. – Иначе будет слишком сложно. Кончим тем, что станем рядиться из-за половины гроша.
– А еще лучше, – сказал я, – назначить тебя казначеем. Все деньги будут у тебя, а когда надо что-нибудь купить, платишь ты. То есть зачем вообще их делить? Мы вроде не собирались разбегаться.
– Не собирались, верно, – сказал он, глядя в сторону. – Вряд ли это произойдет после всего, что было. Давай тогда ты будешь носить деньги...
– Чего? Таскать лишний вес? Ну уж нет. Ты большой, сильный, тебе и переносить тяжести, – я щелкнул языком. – Извини, – сказал я. – Я не должен был так орать. Ты этого не заслужил.
– Да плюнь. Ешь свой ужин, пока он не сгнил.
Всегда одно и то же; усложняет положение не то, что ты скажешь, а то, что не скажешь. Еще того хуже, когда ты не говоришь об этом так громко, что услышит даже глухой. Мы вроде не собираемся разбежаться, нет, вряд ли это произойдет после всего, что было. Он не сказал: вот к чему все пришло даже после того, как я получил возможность начать сначала – я должен околачиваться у таверн в твоей компании. Думаю, это от игры на арфе он так раскипятился. Пока он не играл, не пел, не занимался всем этим дерьмом, то мог удерживать себя глубоко внутри. Ему приходилось концентрироваться на других задачах – убежать и не попасться – когда ты в бегах и голодаешь, не до отвлеченных размышлений. У тебя есть повод их избегать. Но когда ты свободен и безгрешен и новизна положения начинает стираться, как серебряная рубашка с фальшивой монеты, ты останавливаешься и думаешь: погодите-ка, я жив и на свободе, но что это, блин, за место и как я сюда попал? А после этого: а как мне вернуться домой? Немного напоминает Одиссея, серьезно; ты пережил встречу с Циклопами, сталкивающиеся скалы, сирен, царство мертвых, ведьму, которая превращает людей в свиней, кораблекрушение и Бог знает что еще – и вот ты выползаешь на пустой берег, поднимаешься на ноги и обнаруживаешь, что лишился всего. Все твои корабли потонули, все твои люди мертвы, сокровища и оружие валяются на дне морском, одежды содраны рифами. Ты стоишь голый на берегу незнакомой земли и говоришь богам: спасибо вам большое, вы очень помогли; я сделал все, я теперь долбаный герой – и посмотрите, до чего я дошел. Ты стоишь на этом берегу, и ничего у тебя нет, кроме себя самого. Но только у Луция Домиция даже этого не было. С одной стороны, у него была арфа; с другой стороны, у него был я. Невезучий мудило.
(Тут я подумал: да, но когда Одиссей сказал, кто он такой, ему дали корабль и куда больше сокровищ, чем он награбил в Трое и потерял по пути; его подбросили до дома и еще и помогли с разгрузкой, после чего все его проблемы остались в прошлом. Он стал свободен и безгрешен, вернул все, что потерял, и жил себе поживал и горя не знал. Луций же Домиций – ну, у него снова была арфа, он играл, а люди слушали и даже с удовольствием; равнялось ли для него это кораблю, полному сокровищ? Не удивлюсь, если да. Он никогда не отличался здравым смыслом, друг мой Луций Домиций.
А потом я подумал: а что насчет рассказа Бландинии о том, что он делал, чем он был? Предположим, когда он вышел на берег после кораблекрушения, только это в нем и осталось? Предположим, что это и был настоящий Луций Домиций, и единственной причиной, по которой он ничего такого не вытворял за наши с ним десять лет, было отсутствие возможностей? Вы думаете, что знаете кого-то. Вы думаете, что верно оцениваете его характер, но это не так: именно так мошенники, жулики и ублюдки вроде меня зарабатывают на жизнь – притворяясь хорошими, будучи гнилыми внутри. Ну, положим, я никогда не был успешен в этих играх – не потому, что был хорошим, а скорее потому, что был недостаточно плохим; и если кто и проявлял какой-то талант к нашему делу, то как раз он. Он мог продать историю, войти в роль, заставить вас поверить, что он кто-то, кем на самом деле не являлся. Вы думаете, что знаете кого-то, но все, что у вас есть – это в самом лучшем случае фрагменты и кусочки. Это не касается Каллиста, конечно. Он был другим… и кстати, вот что меня всегда озадачивало в Одиссее. Ну то есть, мы вроде как должны поверить, что на этом чуваке оттоптался каждый бог, сколько их есть на небесах. Все десять лет – одно жуткое приключение за другим. Не успевал он выбраться из одной смертельно опасной ситуации, как сваливался в следующую, еще ужаснее и еще смертоноснее предыдущей, его преследовали чудовища, солдаты, рыночные охранники и мясники с огромными тесаками, хотя поэт о них, кажется, не упомянул. Все это время он строил аферы, жульничал и лгал всякому, кого встречал, врал и изворачивался, уворачивался и подныривал – и так через весь мир, от Трои до Сицилии. Даже когда он вернулся, против всякой вероятности, домой, встретили его без особого ликования. О нет – снова ложь, фокусы и аферы, которые закончились жуткой кровавой баней прямо в его собственном обеденном зале – один против сената и народа Итаки, и ради чего? Весь этот героизм, все эти великие деяния, память о которых будет жить вечно – и что он с них получил в конце? Золото, серебро, трофеи, пурпурные покрывала, триумфальную арку и процессию вдоль главной улицы под руку с прекрасной юной царевной? Хрена лысого. Все, что он заработал – это привилегию спать в собственной тесной спальне рядом с полинявшей старой кошелкой, сморщенной, как груша, которую он не видел двадцать лет. Я вас спрашиваю – к чему было уродоваться? Дурачина должен был остаться на Схерии и найти работу.
Ну впрочем, не мне говорить. Был там, сделал это; но только я-то никогда не был царем, или князем, или хотя бы императором римским, а если я заявляюсь домой и попытаюсь перестрелять врагов из лука, то меня тут же пришпилят к ближайшему дереву – и поделом. Когда я выйду на берег, нагой и лишенный всего, меня арестуют за бродяжничество и запрут в каталажке. Я мог бы подкатить к воротам дворца на Схерии, одетый только в смущенную улыбку, и твердить, что я пропавший царь Итаки, пока не посинею, но никто мне не поверит. Думаю, рассказывать историю имеет смысл только тогда, когда она правдива, или когда вы способны убедить в этом слушателей).
День мы провели в безделии. Мы поняли, что нет никакой необходимости спешить в Пренесту. На самом деле, мы договорились, что вообще идем туда только потому, что люди предпочитают знать, что они куда-то направляются, а не болтаются без всякой цели. Но казалось глупым покидать этот уютный, безопасный кабак, где для нас всегда было что поесть и где поспать, возможность заработать и где мы не были нежелательными персонами. Надо быть тупым, как армейский сапог, чтобы бросить все это ради призрачного шанса найти то же самое, протопав двадцать миль по пыльной дороге.
– Раньше или позже, – сказал я Луцию Домицию, – их начнет тошнить от нашего вида и на нас спустят собак – вот тогда мы и отправимся в Пренесту. А пока...
Он зевнул.
– Конечно, – сказал он. – Почему бы и нет? С ума сойти, а? – он расхохотался. – До чего странно, должно быть, провести всю жизнь в одном месте. Люди, однако, уже делали это, так что это должно быть возможно. Например, возьми это место. Можно биться об заклад, что кабатчик унаследовал его от папаши, а тот от своего, и так до Энея и Ларса Порсенны. В некотором смысле в точности, как империя, только поменьше. И, – добавил он, кусая соломинку, – в рассуждении проблем и усилий и близко не стояло. Чистое удовольствие, должно быть, рулить кабаком.
Я рассмеялся.
– Да уж конечно, – сказал я. – Я вырос в кабаке, забыл? Это чертовски тяжелый труд, и днем, и ночью; и от обычной-то работы, где у тебя один или два начальника, радости мало. В таверне же каждый козел, который входит в дверь, оказывается твоим начальником, и всю свою жизнь ты занят тем, что выполняешь указания незнакомцев. Шло бы в жопу такое удовольствие.
Он пожал плечами.
– Да ты просто сам такой, Гален, – сказал он. – Ты же так про любое место, в котором мы оказывались, говорил. Не успеваем мы в него попасть, как оно оказывается помойкой, забытой богами, подмышкой вселенной – по крайней мере, пока мы не попадем в следующее, и тогда уже оно оказывается самой отвратительной точкой на земле. За все те годы, что мы с тобой, я не припомню ни единого географического пункта, о котором ты сказал хоть одно доброе слово.
– Да, но это не потому, что я такой злой. Это потому, что мы с тобой бывали только в жутких задницах.
– Серьезно? – он посмотрел на меня. – Ты не думал, что могут быть объяснения попроще? Ну, кто знает. Может, ты и прав. Ну а что насчет этого кабака? Это тоже ужасная дыра или скверное десятилетие наконец позади мы и попали в какое-то чуть более достойное место, чем обычно?
– Кабак в порядке, – сказал я. – Ну то есть ничего дурного о нем не скажешь. Закусочная как закусочная; не плохая, не хорошая, никакая. Будь ты рядовым гражданином, торговцем, например, и остановись тут по дороге, ты бы ее даже не запомнил.
– Верно, – сказал он. – Ты только что сделал очень толковое замечание, но только не об этом постоялом дворе и даже не обо всех них в целом. Оно о людях. О, я знаю; если бы мне довелось провести здесь хоть одну ночь в прежние времена, я бы страшно разозлился на того, кто там планирует поездки – ну как же, мне пришлось ночевать в маленьком жалком кабаке! Кто-нибудь угодил бы за это в каменоломни. Но, как я и сказал, это замечание обо мне, о том, каким я был тогда. Оно ничего не говорит важного об этом месте.
О том, каким он был тогда.. . Интересно, подумал я.
– Конечно, – ответил я. – Но тебя вряд ли можно было считать обычным гражданином. Я говорю о заурядных людях. Не о римских императорах и не о незадачливых засранцах вроде нас с тобой – с пустым брюхом и подметками толщиной с кожуру лука. Нельзя судить о вещах по тому, что думают о них очень богатые и очень бедные. Они всегда не такие, как все.
– Занятно ты смотришь на вещи, – сказал он. – Разумеется, если так посмотреть, я никогда не был заурядным человеком. Император и бродяга – противоположные концы, а в середине – ничего. Ты знаешь, наверное, у меня выработался очень странный взгляд на мир. Даже уникальный.
Мне начала надоедать эта дискуссия... нет, вы подумайте только! Грек, наевшийся болтовней. Если бы вы мне сказали, что такое возможно, я бы рассмеялся вам в лицо. – Наверное, – сказал я. – Такой уникальный, что толку с него никому никакого. И особенно нам, само собой.
В этот вечер Луций Домиций опять играл и пускал шляпу по кругу. Заработок оказался поменьше: три с половиной сестерция против вчерашних почти четырех, но это все равно были единственные деньги, помимо которых никто из нас за всю жизнь не заработал честным трудом ни гроша. Хорошие деньги, особенно за пощипывание овечьих кишок. Если бы мы только знали об этом, не уставал я себе повторять, если бы мы знали об этом где-нибудь девять лет и девять месяцев назад. Мы оба сегодня были бы богачами – ну, или по крайней мере мы бы заработали достаточно, чтобы купить несколько акров, маленькую ферму на склоне холма, с виноградником и междурядьями, засаженными ячменем, чтобы земля не пропадала. Только если бы кто сказал нам – в те времена – что через десять лет тяжелого труда мы сможем заделаться, если повезет, мелкими крестьянами... ну, это предложение не того сорта, что вызывают трепет, а?
Кабатчик, во всяком случае, был доволен. По его словам, вино улетало со свистом, то ли потому, что мы воодушевляли людей выпить еще, то ли они спасались в кабаке от кошачьего концерта, который мы учиняли на дворе. Его устраивали оба объяснения, и чтобы отблагодарить нас, он распорядился вдобавок к черствому хлебу и объедкам выдать нам тем вечером по сырой луковице. Фантастика?
Погодите ахать, дальше – больше. На четвертый день нам достались свиные ножки, а на седьмой нам предложили перебраться с сеновала в каретный сарай. Я сделал несколько грубых прикидок и рассчитал, что такими темпами к концу года мы станем владельцами кабака. Пять лет – и мы наместники провинций.
– Так что он делает? – расспрашивал кабатчик моего арфиста на десятый вечер, пока мы расправлялись со своим луком. – Ну то есть ты играешь на арфе, и очень недурно, если хочешь знать мое мнение, и клиентам это нравится. Но я не видел, чтобы он хоть что-то делал.
– Он мой антрепренер, – отвечал Луций Домиций с набитым ртом. – Антрепренер, личный наставник, инструктор по игре на арфе. Кабы не он, я никогда бы не стал тем, кем стал.
– Точно? – кабатчик пожал плечами. – Ну, глядя на него, и не подумаешь. Ладно, лишь бы вас все устраивало, ребята. В общем, я тут подумал. Почему бы вам не попробовать сыграть не на дворе, а в кабаке? По крайней мере можно попробовать день-другой, и если не пойдет, вы всегда можете вернуться во двор.
Луций Домиций вскинул голову.
– Мне нравится на дворе, – сказал он. – Прекрасная акустика. Почти как в Тарентском театре. Ты там бывал?
– Кто, я? – кабатчик был слегка шокирован. – Я нигде не бываю. Слишком много дел. За всю жизнь дальше деревни не уезжал.
– Серьезно? – Луций Домиций задрал бровь. – Ты и в Риме никогда не был?
– В Риме? Боже, нет.
– Но он всего лишь в дне пути по хорошей дороге. Даже меньше, если верхом.
– И откуда такой занятой человек, как я, сможет выкроить этот день? Кабак сам по себе не работает, знаешь ли.
Луций Домиций прищелкнул языком.
– Величайший город мира у тебя прямо за дверью, и ты в нем не бывал. Тебе что, даже не любопытно?
– Нет.
Это, кажется, все объясняло.
– Прекрасно, – сказал Луций Домиций. – Да и с чего тебе любопытствовать? Всего-навсего скопление домов и лавок, да плюс несколько храмов и тому подобного. Делов-то.
Кабатчик кивнул.
– Именно так я и думаю, – сказал он. – И вообще, если я захочу поглядеть мир, мне достаточно окинуть взглядом питейный зал. Кого там только нет! У меня всякого сорта люди останавливаются. Торговцы, дельцы, всадники, даже чужеземцы. Один раз ночевал сенатор. Мне не нужно путешествовать, все сами являются ко мне.
– Верно, – Луций Домиций мрачно улыбнулся. – Кто знает, может, когда-нибудь прямо здесь, у тебя в кабаке, остановится римский император.
– Это было бы что-то, – сказал кабатчик. – Хотя не сказать, чтобы я об этом мечтал. Для дела хорошо – люди приезжали бы посмотреть, где ночевал сам Цезарь; но ему ж подавай все по первому разряду и быстро, и я не уверен, что он стал бы платить. Когда тут был сенатор, он погнал меня в деревню за выдержанным фалернским и гиметским медом, и мы ни разу не видели его денег. Ублюдок, – добавил он печально. – Да недельный запас свинцовых белил для его дружка стоит дороже, чем все заведение. Тем не менее, какой смысл жаловаться?
В общем, так мы и жили; и сказать по правде, видал я местечки и похуже. Через некоторое время стало немного скучно, поскольку заняться было совершенно нечем. Спасало только то, что кругом постоянно толпился народ и было, с кем поговорить. Так я узнал кое-что новенькое. Новый император, Тит Цезарь, справлялся отлично; по общему мнению, он вполне мог оказаться и получше старика, ведь он родился благородным, а Веспасиан Цезарь начинал жизнь никем. В последнее время в городе происходило много интересного: открытая война между двумя уличными бандами, во время которой сгорел целый квартал и погибла куча народу – даже один высокородный господин был зарублен в собственном доме, хотя он, вероятно, был как-то связан с разбойниками. Конечно, стражники обрушились на них, как лавина и показали бандитам, где их место, потому что это не дело – перегораживать улицы баррикадами и поджигать дома, Тит Цезарь не тот человек, который станет это терпеть. По всему выходило, что банда побольше – ребята Стримона – были выполоты, как сорняк, хотя самого Стримона и не поймали (впрочем, это только вопрос времени); другого, Сцифакса, уже некоторое время никто не видел, так что он, возможно, принял разумное решение и свалил из города. В общем, такая мощная атака на криминалитет впечатляла и лишний раз показывала, как важно, чтобы на троне сидел человек решительный. Не то что в недоброй памяти старые дни, соглашались все.
У меня новости вызвали смешанные чувства. По всему выходило, что мы с Луцием Домицием умерли очень вовремя, потому что иначе на месте Стримона и Аминты я бы испытывал сейчас самые нехорошие чувства по отношению к нам, равно как и желание разделить с кем-нибудь свои неудачи. Более того, будь я еще жив, я бы очень серьезно подумал о переезде, возможно, в Индию, Иберию или на Острова Лотофагов – и уж никак не околачивался бы на постоялом дворе не более чем в дне пути от города. Но когда вы мертвы, труп ваш сгорел, на угли рухнуло одно или два здания, можно не беспокоиться о подобных вещах. Можно сказать, что смерть была самым разумным решением в моей жизни.
Пару раз я ловил себя на мыслях о сокровищах Дидоны. Ну, я с вами согласен; но у меня образовалась масса свободного времени при отсутствии всяких дел. Я думал: конечно, все это напоминает о рыбьем меху и перьях кентавров, но такие люди, как Стримон и Аминта, вообще-то не склонны верить в сказки. Если они по этому поводу так расстарались, значит, за историей что-то да стоит – что-то, о чем Луций Домиций или его всадник, возможно и не знали. Может, и вправду в какой-то пещере лежит огромная груда золота и серебра, а если так, в сидении на месте нет никакого прока. Это привело меня опять-таки к мыслям об Одиссее, как его выбросило на тот берег, и в результате он завладел большим количеством золота и серебра, чем у него было после разграбления Трои. Я думал о словах Луция Домиция, что если бы он нашел сокровища Дидоны, то оплатил бы все долги империи и все его проблемы остались бы в прошлом. И я подумал: а что если нас с Луцием Домицием как раз и выбросило на берег без ничего, кроме кожи и грязи под ногтями, чтобы мы нашли это сокровище? В один миг мы бы стали так богаты, как он когда-то был, и даже богаче. Я думал: а что, что если мы найдем Схерию и ее счастливый берег?








