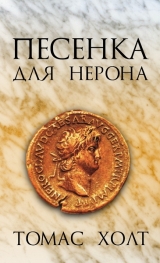
Текст книги "Песенка для Нерона"
Автор книги: Том Холт
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 33 страниц)
Единственным мрачным пятном на моей новой жизни была компания. Я пытался убедить ее, что в городе, где живут все ее друзья, ей будет лучше, но она отбила эту атаку, возразив, что никаких друзей у нее нет; за сорок с чем-то лет никто не сказал ей ни единого вежливого слова. Я напомнил ей, что деревенский дом – не более чем жалкая маленькая дыра, едва ли лучше конуры в сравнении с ее прекрасным, хорошо обставленным городским жилищем, но она ответила, что это ее не смущает, и вообще, пристроить пару новых комнат не составит никаких проблем. Я даже предложил купить ей постоялый двор; пожалуй, тут она призадумалась, но в итоге, увы, не пошла и на это. Нет, сказала она, ее место – рядом со мной. В старые дни мать из нее была так себе, но сейчас у нее появился шанс все исправить, и на это она намерена положить остаток дней по эту сторону Реки, нравится мне это или нет. В общем, она сдала свой дом в деревне (из этих денег, кстати, я не увидел и ломаного обола) и переехала ко мне: она сама, большой кедровый сундук с одеждой, паршивый старый хорек (которого по каким-то необъяснимым причинам звали Гален) и богиня Жажда, которая была ее постоянной сожительницей на протяжении пятидесяти лет и разлука с которой была немыслима.
Что ж, для сельского хозяйства ее появление оказалось полезно, потому что стоило ей поселиться в доме, как я обнаружил, что мне гораздо больше нравится проводить время под открытым небом, где я по три раза перепахивал пар или окучивал лозу тяжеловесною, мать ее, мотыгой. Получалось так, что если я задерживался в полях до заката, то к моему возвращению она упивалась до состояния комы и, в общем, почти не беспокоила меня, разве что иной раз вопила во сне или блевала в очаг (незабываемый запах горящей рвоты).
Соседи были невероятно впечатлены моим усердием и неизменностью, с который я поднимался до рассвета и шагал в поля с мотыгой на плече, а также тем, что на моей земле невозможно было отыскать ни единого сорняка или не разбитого кома.
И тем не менее, бывали случаи, когда я заканчивал работу чуть раньше, чем нужно, и по возвращении заставал ее более или менее в сознании. В эти дни мне особенно не хватало Луция Домиция, потому что он смог бы объяснить мне в деталях, как именно они сконструировали тот хитроумный корабль – тот, который он построил для своей старушки-матушки. Не то чтобы Фила располагалась близко к морю, но я же находчивый чувак и уж что-нибудь да придумал бы.
Был один из таких мирных совместных вечеров – я с помощью сыромятной кожи чинил сломанную ручку лопаты, она растеклась по столу с зажатой в клешнях чашей размером с голову – когда она заявила, что это стыд и позор, что мать богатого ублюдка должна сама за собой убираться, в то время как даже у матерей плотника и кузнеца для домашней работы есть девушки-прислужницы. Я оглядел весь этот хлев, в котором должен был жить с момента ее появления и подумал, если это уборка, то могла бы и не напрягаться; однако ничего не сказал, а на следующий день сел на лошадь и поехал в город.
Вообще-то если вам нужно купить человека, то Афины – подходящее место. Из-за заезжих римлян здесь все засыпано деньгами и корабли с островов всегда заходят в Пирей, прежде чем плыть дальше вдоль побережья, включая и суда, идущие с Делоса, который является величайшим рынком двуного скота на Земле. Просто так уж мне везет. О, к моим услугам был широкий выбор полевых работников, ремесленников, учителей, домашних слуг, да кого угодного. Но единственными доступными рабынями помимо обычного набора флейтисток (основного товара для такого разгульного города, как Афины) оказались несколько жалких старых куриц, выдаваемых за прачек и домашних работниц, которые отдали бы концы на половине подъема по пути домой, и несколько опытных вышивальщиц, совершенно мне не нужных и слишком дорогих.
Я не знал, что делать. Можно было пару дней подождать новых поставок, конечно. Но это означало возвращаться домой с пустыми руками и выслушивать по этому поводу нытье, а затем снова тащиться в город и повторять все сначала. Буду с вами честен, я не большой дока в работорговле. Это лишний раз показывает, какую сомнительную, бесчестную жизнь я вел; но каждый раз при виде строя рабов и аукционера, вышагивающего вдоль шеренги с палкой в руке, я не мог не думать, что выпади кости чуть менее удачно – и стоять мне в этом строю, причем попутно возникало подозрение, что там мое место по праву и есть.
Поэтому пошло оно все в задницу, не отстану, пока не доведу дело до конца.
Я отправился в банк и взял письмо в их отделение на Делосе; отправил на ферму гонца с сообщением, что буду отсутствовать несколько дней, устроил лошадь в конюшне и побрел в Пирей, где выбрал один из кораблей, отправляющихся в Делос с послеполуденным отливом. Занятно было снова оказаться на корабле. Я твердил себе, что Острова отстоят очень далеко от Африки и Сицилии, и только совершенно необыкновенный шторм сможет сбить нас с курса и отогнать туда. Большую часть путешествия я провел, свернувшись в комок на носу – один из немногих случаев морской болезни, приключившихся со мной; удивительно, как хорошо мне, практически лишенному практики, удавалось болеть ею – поэтому я не особенно разглядывал Андрос, Тенос или южное побережье Эвбеи. По этому поводу я не особенно переживал и только порадовался, когда закричали «Делос!» и стало можно перебраться на что-то более надежное, чем палуба.
Если бы я знал, что такое Делос на самом деле, я бы остался дома. О, это вполне приятное место, если вас интересуют пейзажи и прочее, и к тому же здесь расположен известный на весь мир храм Аполлона, который едва можно разглядеть сквозь сплошную стену ларьков и лавок, торгующих керамическими статуэтками, жидким, как моча, супом из бобов и латука и средством от слепоты. Я не особенно предавался любованию видами: корабль, на котором я приплыл, задерживался здесь всего на ночь, чтобы наутро отправиться обратно в Пирей, и я был полон решимости вернуться на нем, если не найду другого, отплывающего еще раньше.
Не думаю, что на земле есть более людное место, чем Делос – даже включая Рим. И я абсолютно уверен, что нигде концентрация страданий, боли и унижения на квадратный фут достигает более высоких значений – опять-таки, даже если включить Рим. Меня не назовешь мягкосердечным, сочувствие – это роскошь, доступная только тем, кому не за что жалеть себя. Но Делос мне не понравился. На нем я стал дерганый, как кошка. Я постоянно ожидал, что на мое плечо вот-вот обрушится тяжеленная ручища или раздастся крик: вот он, хватайте его, пока он не сбежал! – после чего я окажусь на одной из этих платформ, в ошейнике, уши пробиты. Комплекс вины? Не думаю. Я бы назвал это выработанным за двадцать четыре года инстинктом, который говорил, что именно такие места наиболее опасны именно для таких, как я. И без сомнения, таких, как я, тут было полно, и никто из них покупок не совершал.
До самого горизонта простирались эти деревянные платформы, будто маленькие сцены или боксерские ринги, и на каждой – гурт людей, все разных форм, размеров, цветов и возрастов, и единственным, что их объединяло, были грубые железные украшения. Управление Делосом, должны быть, логистический кошмар – взять хотя бы поддержание запасов зерна на уровне, позволяющем накормить их всех, даже по рабской мерке. Вас изводит шум, запах и необходимость протискиваться между тесно стоящими людьми.
В любой день здесь, надо полагать, не меньше тысячи продавцов, и все они, разумеется, обладают мощным, хорошо поставленным профессиональным голосом и беспрерывно поют свои баллады с цифрами вместо слов, все одновременно. Вас будто укладывают на наковальню, а голоса обрушиваются на вас, как молоты, когда с полдюжины молотобойцев обрабатывают одну заготовку. Если бы я не провел несколько неприятных дней, чтобы добраться сюда, то поджал бы хвост и сбежал обратно на корабль, едва ступив на берег.
Но я не сбежал. Я шатался от помоста к помосту, пытаясь проявлять разумный интерес. Но как, по-вашему, должна выглядеть домашняя служанка с наилучшим соотношением цена-качество? Требуется ли нечто среднего возраста, приятное, тихое и спокойное, или нужна молодая и сильная, которая не износится через шесть месяцев использования; высокая или низенькая, круглая или квадратная, гречанка или германка, или все это без разницы? И позволительно ли обращать внимание, что все они – люди, или это поломает систему и станет катастрофой для всей империи? Но уж конечно, ничего страшного не случиться, если я буду держать этот факт при себе.
Иными словами я чувствовал себя здесь совершенно не в своей тарелке. Глупо, я знаю. Аристотель или кто-то другой из великих сказал, что одни люди рождены, чтобы быть рабами, а другие – чтобы быть хозяевами. Звучит разумно. Но и эта система рушится в тот момент, когда такие чуваки, как я – совершенно ясно, к какой категории они на самом деле относятся – оказываются не с той стороны ограды. От этого система лишается всякого смысла и застревает, как телега на крутом склоне, и хоть ты тресни, дальше не едет.
В общем, я таскался туда-сюда между помостами, совершенно подавленный осознанием того, что не имею ни малейшего понятия, что мне надо делать, и испытывая небывалый прилив ностальгии по Филе, где можно тихо-мирно выколачивать дерьмо из земляных комьев моей тяжеловесною мотыгой, когда вдруг увидел знакомое лицо.
Инстинкт, инстинкт – разве это не доказывает, что он неистребим? Для меня знакомое лицо означает, что надо убираться отсюда со всей поспешностью, которая еще не вызывает подозрений. На сей раз, впрочем, мне удалось сдержаться – исключительно потому, что я успел связать лицо с именем до того, как инстинкт (в данном случае неотличимый от паники) врубился на полную мощь. Вместо того, чтобы бежать, я замер, как вкопанный, и медленно повернулся, чтобы убедиться, что это не воображение.
Нет, я был прав. У меня талант опознавать лица, едва задев их самым краешком глаза. Говорят, еще голуби способны на такое. Они могут отличить человека с пращой от парня, выгуливающего собаку, за полмили, глядя в противоположную сторону. Что ж, в таком случае я – почетный голубь.
Вопрос стоял так: почему злобная сука Бландиния, которую я последний раз видел в горящих трущобах Рима, стоит на платформе в Делосе, пока огромный лысый толстяк нагло лжет всему честному народу о ее добром нраве и покорности?
Что ж, думал я, не будет вреда послушать, поэтому подошел поближе и пристроился к толпе, укрывшись за спиной какого-то долговязого типа, чтобы иметь возможность посматривать на помост, не будучи заметным.
Да, я лжец и всю жизнь был лжецом. Но бывает маленькая белая ложь, например: да, этот мул принадлежит мне; я унаследовал этот красивый посеребренный обеденный сервиз от тетушки – а бывает гигантское вонючее вранье – то, что толстяк нес насчет Бландинии. Послушать его, она была милой малюткой, рожденной в рабстве и воспитанной в тихом, уважаемом доме; продается по обстоятельствам непреодолимой силы. Пусть это послужит вам уроком: не верьте аукционеру, даже если он утверждает, что ваша мать была женщиной.
С первого взгляда, однако, нельзя было сказать, что толстяк кривит душой. Она не отрывала взгляда от земли, сплошь скромность, застенчивость и понурые плечики, и пощипывала разлохматившийся рукав тонкими, изящными пальчиками. Хотелось завернуть ее в теплое одеяло и кормить размоченным в молоке хлебом, как больного ежика; лишнее доказательство, что по виду ни хрена нельзя сказать о человеке.
Тут я подумал: ладно, а почему нет?
Некоторая часть меня не прельстилась этой идеей; вообще-то она была не против вскрыть мне башку и хорошенько вычистить ее от всякой чепухи, поскольку только полный идиот мог пожелать оказаться на одном континенте с этой кровожадной сироткой, не говоря уж о том, чтобы платить хорошие деньги, чтобы вернуть ее в свою жизнь после двух едва удавшихся побегов. Но другая часть говорила: это не может быть простым совпадением, боги притащили тебя сюда, чтобы ты мог ее купить. В пользу этого аргумента можно было сказать кое-что: ну что подвигло меня преодолеть все это расстояние, растрясти по пути все кишки, если я мог спокойно остаться дома, подождать месяцок и обзавестись замечательной домработницей, не покидая Афин?
Никакого разумного объяснения этому не было, я действовал под влиянием импульса – или какой-то бог вложил мне в голову идею именно с этой целью. Более того, к Бландинии у меня был счет размером с Эвбею, а навскидку я не мог придумать ничего худшего для женщины, чем роль личной прислужницы моей матери. На самом деле идея была настолько ужасна, что я поднял руку и выкрикнул цену, не успев даже подумать, что это я творю; а потом было слишком поздно отступать, потому что другие покупатели спасовали, а аукционер пропел: продана господину в заднем ряду, похожему на хорька.
Восемнадцать
Бля, подумал я, но что толку. С людьми, которые делают верхнюю ставку на делосском аукционе, а потом отказываются платить, происходят поистине ужасные вещи. Я уж подумал, не отпустить ли ее на волю, а то дать по башке и скинуть за борт на обратном пути. Никто ничего не заподозрит, если я так сделаю. Действительно, римские законы запрещают убивать рабов, даже своих, просто потому, что вам так приспичило. Но разве найдется эдил, который заподозрит чувака в убийстве рабыни, если указанный чувак только что заплатил за нее заоблачную цену? Нет, если я собирался убить Бландинию и провернул бы это это с самой минимальной осторожностью, то мне практически ничего не грозило.
Однако внутренний голос тут же заявил: не будь дураком, ничего такого ты не сделаешь, потому что ты не убийца. Он был совершенно прав. И это означало, что как только я передам кредитное письмо из банка Лаберия и получу свидетельство о праве владения, то буду обречен страдать от ее общества до конца своих дней. В чистом виде поймал волка за уши: если я отпущу ее, она тотчас же кинется рассказывать своим дружкам-разбойникам о том, что я жив – даже если я перепродам ее, она все равно может как-нибудь исхитриться и связаться с ними; а если я оставлю ее себе, то мне придется делить дом с невидимым скорпионом и ждать, когда гнусная тварь вонзит в меня смертоносное жало. Чудесное положение; и подумать только, чтобы угодить в него, я только что расстался с хорошими деньгами.
Писец аукционера подошел и уставился на меня так, будто я плавал у него в вине. Однако один взгляд на клочок пергамента в моих руках с печатью Гнея Лаберия мгновенное все изменил. Если это имеет значение, то на той печати изображен летящий Меркурий, который смотрит через плечо на свою чрезмерно развитую задницу. Тем не менее на любого писца она производила сногсшибательное впечатление. Он засеменил прочь, оставив меня дивиться собственной глупости до конца аукциона.
Затем я занялся бумагами – у писцов вызвало раздражение, что у меня, честного фермера, нет своей печати, и в конце концов один из людей аукционера одолжил мне свою. Не уверен, что это было совершенно законно, но мысли мои занимали другие материи, и я был не в настроении беспокоиться из-за мелочей.
А после этого мне не оставалось ничего другого, как забрать свою собственность.
Как я уже упоминал, кажется, ранее, это был не первый раз, когда я покупал человека. Но в тот раз, когда я приобрел двух сирийцев, все выглядело несколько иначе и больше напоминало обычный найм на ярмарке, чем вступление в права владения другим человеческим существом. Этих сирийцев я выбрал, осмотрел, все обдумал, отдал деньги и махнул рукой, и они спокойно пошли за мной, как хорошо обученные собаки. По дороге домой я поначалу не знал, как завязать разговор – и даже не был уверен, что они говорят по-гречески – но после того, как я сказал что-то насчет ускорения роста фенхеля, а один из сирийцев возразил – дескать, там, откуда он родом, это делают не так – беседа пошла, как по маслу. С мужчинам вообще проще беседовать. Всегда можно найти какую-нибудь общую тему – род деятельности или место, в котором побывали оба. В конце концов, мужчины работают (если они, конечно, не сенаторы и не богатые ублюдки), так что существует весьма высокая вероятность, что у них есть что-то общее; и никогда не бывает, чтобы две женщины не нашли, о чем поболтать; на самом деле главная сложность скорее в том, чтобы их как-нибудь заткнуть. Но когда дело доходит до смешанной компании, все оказывается очень сложно и в самых простых случаях, а если добавить дополнительные ингредиенты – например, тот факт, что мужчина только что купил женщину, или что в прошлом из-за ее козней он едва-едва избежал смерти – совершенно неудивительно, что лед оказывается очень трудно разбить.
Когда не знаешь, что сказать – говаривала, бывало, моя старушка-мать, когда была трезвой – лучше молчи. Как и прочие жемчужины маминой мудрости, это полное фуфло. Чем дольше ты молчишь, тем хуже все становится. Я ничего не сказал, когда писец передал мне ее. Когда он вручил мне жалкую тряпичную сумку, содержащую ее единственную смену одежды, я только что-то буркнул – то обстоятельство, что он сунул ее мне, а не ей, не остался незамеченным никем из нас; когда он отвалил, я не знал, что говорить. Поэтому я ничего не сказал; я эдак поманил ее, как сирийцев в свое время, и пошел в сторону порта.
Что ж, она двинулась следом, как хорошо обученная собака; но собакой она не была (сукой – да, но не собакой); она была человеческим существом, платоновским лишенным перьев двуногим.
В голове у меня метались всякого рода дурацкие идеи. Я мог притвориться, что не узнал ее (ага, как же), или вести себя холодно и сурово, чтобы она боялась даже взглянуть на меня (да вот только я так же страшен, как салат из листьев цикория) – а может, стоило громко заговорить о погоде? Я прокручивал в уме все это дерьмо, когда она сказала:
– Гален.
Я обернулся.
– Да? – сказал я.
Она не смотрела мне в глаза.
– Гален, – повторила она. – Где твой друг? Я имею в виду Нерона Цезаря. С ним все в порядке?
Я не мог понять, что за этим стоит; казалось, ей важно знать, но она вполне могла прикидываться. И там не менее.
– Он мертв, – ответил я.
– Ох, – некоторое время она молчала, потом спросила, – Что с ним произошло?
– Утонул, – сказал я. – Во время кораблекрушения.
– Ох, – еще одна пауза. – Мне очень жаль.
– Нет, нисколько тебя не жаль, – ответил я раньше, чем сам это осознал. – Разве если ты думаешь, что утопление слишком хорошо для него. В любом случае, он мертв. Надеюсь, ты удовлетворена.
Довольно жестоко, да; но со мной такое бывает – становлюсь несколько резким в минуту неловкости. Да и вообще, с какой стати ее чувства должны меня беспокоить? Тем не менее я нашел нужным сказать что-нибудь еще, чтобы заклеить трещину, как говорится.
– Ну, – сказал я, – а с тобой что приключилось? В последнюю нашу встречу ты была свободной женщиной. Или ты и про это соврала?
Она довольно неожиданно для меня фыркнула.
– О да, – сказала она. – Некоторое время я была свободна. Но только в Риме действует закон, по которой собственность человека, который объявлен врагом народа, конфискуется казной, включая недавно отпущенных рабов. Мне двух дней не хватило до полной свободы, можешь представить?
– Никогда не слышал такого, – сказал я, просто чтобы не молчать. – Ну, звучит похоже на римские законы. Но погоди, – добавил я. – А причем тут враги народа? Твой старый хозяин – боги, как же его звали? Не могу припомнить.
– Лициний Поллион. Тот пожар, который вы устроили, нанес такой ущерб, что было назначено следствие, и каким-то образом они пришли к выводу, что его причиной была война уличных банд, а Поллион возглавлял одну из них. Поэтому меня схватили, и вот я на Делосе. – Занятно, – продолжала она. – Когда Поллион вручил мне мои бумаги, я действительно думала, что свободна и безгрешна, а все проблемы позади. Могла бы быть поумнее, да?
Я ничего не сказал. Без сомнения, с ней обошлись несправедливо. Не учитывая даже того, что она родилась в рабстве и что там с ней сотворил Луций Домиций в детстве, у нее определенно были причины жаловаться на так называемое римское правосудие. Но с другой стороны, она виновата во многих смертях, причиненных по злобности нрава и алчности. Очень похоже на самого Луция Домиция, вам не кажется? Только он был скорее беспечен, чем жесток и жаден. Итог, однако, в любом случае один: ни его, ни меня, ни ее не назовешь приятными людьми.
– Как бы там ни было, – продолжала она, – похоже, для тебя все обернулось к лучшему.
– Не могу жаловаться, – сказал я. – Мне действительно для разнообразия повезло.
– Приятно слышать, – сказала она.
Мы долго шли в молчании. Уже на подходах к порту она спросила:
– Извини, но куда мы направляемся?
Разумеется, я же ей не говорил.
– В Афины, – сказал я.
– Ох.
– На самом деле, – продолжал я, – не в сами Афины. В Филу – это деревня неподалеку, в холмах.
– Я знаю, – перебила она. – Ты оттуда родом.
Мог бы и догадаться, что она все обо мне знает после этих ее тщательных расследований.
– Верно, – сказал я. – А теперь я туда вернулся. Это тебя устраивает? Или ты бы предпочла, чтобы я все продал и переехал в другое место?
Она, кажется, обиделась, Бог знает почему.
– Прости, – сказала она. – Я понимаю, что это меня не касается, я просто любопытствовала. Я ничего не имела в виду.
Я пожал плечами.
– Все в порядке, – сказал я. – Вполне справедливо, чтобы ты знала, куда тебя везут. Она вскинула голову.
– На самом деле нет. Но ты явно новичок в этом деле, поэтому можешь и не знать. Ты не должен мне ничего говорить; я имею в виду, что мы могли подняться на корабль, сойти в него в незнакомом для меня месте, и я бы провела остаток жизни, сама не зная где, если бы ты нашел нужным меня просветить.
От этих слов мне поплохело, но я постарался это скрыть.
– В общем, – сказал я. – Мы направляемся в Филу. Это приятное место, если ты не имеешь ничего против простой деревенской жизни.
– Спасибо, – сказала она.
Я огляделся, отыскал глазами свой корабль и пошел к нему. При этом я вспоминал, что однажды сказал Сенека – на какой-то встрече или гулянке, и что там это было. Он сказал, что прежде чем купить раба, следует осмотреть его без одежды, голого. Покупая коня, ты просишь лошадника снять с нее попону, чтобы все рассмотреть – то же и с рабом, сказал он. Тогда я немного удивился, может, даже был немного потрясен, потому что Сенека, как правило, говорил с рабами так, будто они были людьми, и выслушивал их внимательно, вместо того чтобы приказать им заткнуться или попросту проигнорировать. Но как ни крути, он был римским сенатором. Если бы сенаторы не разговаривали с низшими по положению, им пришлось бы говорить только между собой. Для него раб, солдат, земледелец и даже римский всадник были примерно одним и тем же: человеческими существами, более-менее равными между собой, но ниже его.
Мы поднялись на корабль, я разыскал капитана и сказал – эта со мной; он спросил, почем, а я назвал ему сумму примерно раза в два меньше, чем я заплатил на самом деле, как мы всегда поступаем, а он сказал, что это неплохая сделка, а если мне потребуется немного уединения на обратном пути, он может послать человека завесить в трюме уголок, где у него сложены тюки с шерстью.
Откровенно говоря, до меня не сразу дошло, о чем он вообще.
Честное слово, эта мысль мне даже и в голову не приходила. Не то чтобы она не была красива, на манер яблони-дичка; но помимо этого она была убийцей, ну или почти убийцей, и не так уж и давно я уговаривал Хвоста и Александра не убивать меня по ее приказу. Правда заключалась в том, что я до сих пор испытывал перед нею страх. Тем не менее я поблагодарил капитана, сказал, что это очень любезно с его стороны, но не стоит беспокоиться. Почему, объяснять не стал, какая разница. Он пожал плечами и сказал, что скоро они будут готовы отчалить – как только последняя партия груза окажется на борту. Затем я нашел не переполненный моряками кусочек палубы, бросил сумку, чтобы было на что прилечь и попытался устроиться поудобнее.
На обратном пути меня совершенно не тошнило. А вот ее еще как. Не знаю, как уж их там кормили на рынке, но если судить по тому, что она отправила за борт, совсем неплохо. Это по крайней мере решало проблему, о чем разговаривать, поскольку если она не свисала с борта, издавая тревожные звуки, то сворачивалась в калачик на груде канатов и стонала, схватившись за живот.
Пожалуй, тактичное предложение капитана в любом случае оказалось бы некстати. С удобством сидя на солнышке и наблюдая, как она выворачивает кишки в винноцветное море, было почти невозможно поверить, что совсем недавно я всерьез собирался ее убить. Человека с лицом такого ярко-зеленого цвета и с заляпанным подбородком невозможно воспринимать как смертельную угрозу.
К тому времени, как мы остановились на Теносе, худшее для нее оказалось позади, хотя есть она еще не могла, только выпила немного воды. Примерно тогда и разговор возобновился. Начался он с осторожного обмена репликам: лучше? нет – но через некоторые время мы уже как-то беседовали, хотя и прерывались довольно часто, главным образом потому, что она вскакивала и бросалась к борту. Мало-помалу, однако, мы немного расслабились; неловкость ушла, хотя безопасных тем для разговора по-прежнему было немного. Лично я не видел никакого вреда в простой болтовне; я могу говорить с кем угодно, очень запросто, главное, чтобы он тоже был не прочь поболтать. Конечно, она была кровожадной сукой, которая пыталась продать нас с Луцием Домицием бандитам, как коров. С другой стороны, я сам ее только что купил и в некотором смысле уравнял таким образом счет, даже если и опустился при этом до ее уровня.
Кроме того, поскольку это мой лучший кореш Луций Домиций нес ответственность за то, как повернулась ее жизнь – а он был порочным чудовищем и матереубийцей, что меня не особенно и смущало, кстати – то у меня не было особых оснований смотреть на нее эдак поверх носа. Но главным было то, наверное, что мне было просто приятно с кем-нибудь поговорить.
Это может прозвучать странновато: в конце концов, я снова жил в Аттике, где все только и делают, что беспрерывно треплются. Но есть разговоры и разговоры. Мне пришлось признать, что отсутствовал я очень долго и теперь мне очень сложно снова настроиться на соседей, даже на тех из них, кого я знал с детства. В общем-то, ничего необычного. Я побывал в местах, о которых они даже не слышали, творил дела, смысла которых они бы не поняли (может, и хорошо, хотя я в принципе о них не заикался – я же вернулся домой из армии, не забыли? – после двадцати четырех лет беспорочной службы, за которые ни разу не вышел пьяным на плац и ни разу не был в самоволке). Так что вполне можно понять, почему я не особенно хотел говорить об этих местах или этих делах. Но мне не хватало кого-то, кто бы понял меня, если бы я завел о них речь, приди мне в голову такая блажь; иначе говоря, того, кто говорит на одном со мной языке, потому что чистый беспримесный аттический греческий моим больше не был. Часто я ловил себя на том, что употребил слово, которого мои соседи не знаю, или что мне надо остановиться и подумать – как это называется тут у них в Аттике, а не в Каппадокии, Сицилии или Италии? Дело не в диалект, уверяю вас, очень скоро я восстановил вполне нормальный аттический. Речь о том, что лежит за незнакомыми словами, идеями и опытом, образом жизни – тем самым, который я с превеликой радостью оставил позади. О том, кем я в действительности являлся – не сыном Сосистраты из Филы, который никогда не бывал дальше Афин. Можно меняться и так и сяк, можно даже притвориться, что ты умер, а потом воскреснуть совершенно другим человеком. Но себя-то никогда не обманешь.
В любом случае, когда мы все-таки раскололи лед, оказалось, что мне нравится с ней разговаривать.
Конечно, на корабле больше и заняться-то нечем, а даже германец с волчьей пастью – лучше, чем никого. Но дело было не только в этом. Трудно объяснить, да. Двадцать четыре года на дорогах – и всегда у меня было с кем поговорить, не таясь, не думая, о чем можно, а о чем нельзя. Сперва это был Каллист, потом Луций Домиций, но с тех пор как я вернулся домой (единственное место в мире, как я думал, в котором я могу расслабиться), мне все время казалось, что это не более чем очередная афера, в которой я играю какую-то роль, чтобы обмануть и обмишулить честных жителей Филы. Это начинало действовать мне на нервы, и я целыми днями прятался в полях не только от своей тошнотворной матери, но и от тошнотворного себя.
Какое отношение все это имел к Бландинии, сказать не могу. Но это было все равно как неожиданно встретить земляка в чужой стране, где даже по-гречески никто не понимает. Ну или как-то так. В любом случае, я не пытаюсь оправдываться.
Ну да, я из тех чуваков, которых находят общий язык только с подонками. И что? Никогда не говорил, что я совершенство или хотя бы просто неплохой парень.
К моменту прибытия в Пирей, значит, мы вроде как заключили мир, пускай даже на основе причиненного друг другу ущерба; сейчас мы оба были отставниками и не было никакого смысла продолжать войну. Не то чтобы я ей хоть сколько-нибудь доверял. Никоим образом; я по-прежнему держал волка за уши и знал, что появись у нее хоть малейший шанс освободиться или с выгодой для себя сдать меня римлянам или продать мои уши колбаснику, она проделает все это с легкостью и изяществом. Но поскольку мы оба все понимали, то эти факты открыто лежали перед нами на столе и вроде как не являлись проблемой.
Ладно, признаюсь, тем более вы уже и сами догадались, так что какой смысл вам лгать? Поднимаю руки вверх и чистосердечно признаюсь: я влюбился.
Нет, не совсем то слово. Представьте, что вы идете под дождем и вам надо перемахнуть канаву; вы прыгаете и попадаете на самый край – некоторое время равновесие удается удерживать, но потом вы начинаете съезжать вниз, ничего поделать нельзя и в конце концов вы оказываетесь в этой самой канаве по колено в грязи. Примерно так я потихоньку и соскальзывал в любовь; вероятно потому, ну, что при моем образе жизни нечасто встречаешь красивых девушек, да и вообще любых девушек, а общение с ними длится ровно столько, сколько нужно, чтобы сказать: проваливай, козе —, или позвать стражу. Как я уже говорил, она была довольно симпатичная на свой манер и на двадцать лет младше меня; но самое главное, она была тут. Когда за двадцать четыре года вам встречается всего одна девушка, с которой удается перекинуться более чем парой дюжин слов... и да, я не забыл про Миррину, но я думаю, ее пример только лишний раз доказывают мою мысль. Я запал на нее быстрее, чем вы бы луковицу очистили; не потому, что у нас было много общего и не потому, что мы оказались двумя половинкам одной души, как у Платона, но всего лишь из-за того, что при моем образе жизни, если говорить об общение с противоположным полом – это практически вечность.








