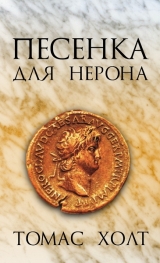
Текст книги "Песенка для Нерона"
Автор книги: Том Холт
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 33 страниц)
– Да, это было бы очень мило с твоей стороны, – сказал я, пытаясь говорить с бесшабашной храбростью. – Если только у тебя нет других дел. Я не хочу быть помехой.
Она улыбнулась. Прекрасная улыбка.
– О, все в порядке, – сказала она. – Я часто помогаю братьям с пациентами. – Она взяла чашу и клок ветоши и начала возюкать ею у меня по лицу. Все равно что с макрелью целоваться, если по ощущениям, но важны намерения, как сказал Платон Аристотелю.
– Наверное, интересная это работа – врачевание, – сказал я.
– О, конечно, – ответила она, бросив на меня сентиментальный взгляд. – Чудесно видеть, как несчастным больным становится лучше. Многим из них, во всяком случае. Мои братья очень хорошие врачи, ты не мог бы оказаться в лучших руках.
– Я в этом уверен, – ответил я, и капля воды стекла мне со лба в глаз. – Я и сам это вижу. У него очень хорошие манеры, у твоего брата.
– О, у нас дома он знаменит. Люди приходят за многие мили.
– Ну, – продолжал я, – а как тебе понравился Рим? Думаю, он сильно отличается от вашей родины.
– О да. Все такое большое, яркое и чудесное, как в сказке. Конечно, мы видели и много печального – все эти бедняки на улицах. Мне их так жалко, сидящих повсюду с маленькими чашами и выпрашивающих милостыню.
– Это трагедия, – согласился я. – Но такова жизнь.
– О да. Жизнь порой может быть очень печальна.
О, прекрасно, подумал я, у нас возникает взаимопонимание. Видите ли, какое дело: когда закон преследует тебя, как дикое животное, когда нет денег и возможности оставаться на одном месте больше пяти минут, времени болтать с девушками практически нет, а девушки, с которыми удается поболтать – это, главным образом, прислужницы в трактирах или те, которых можно встретить у бань.
Не то, чтобы я драл нос – они совершенно замечательные, но совсем не те, с которыми можно чинно-спокойно обсудить важные проблемы, как мы сейчас с Мирриной. Кроме того, удовольствие удовольствием, но есть кое-что еще. Мне всегда хотелось поцеловать девушку, не испытывая подозрений, что она засовывает язык мне в рот только для того, чтобы выудить мою мелочь.
– И все же, – продолжал я, – в Риме множество замечательных вещей, на которые стоит посмотреть. Ты уже побывала в Цирке?
Она нахмурилась.
– Да, – сказала она, – но мне не очень понравилось. Все эти бедные гладиаторы и люди, которых поедают львы. На самом деле, мне кажется, это довольно неприятно.
– Совершенно верно, – сказал я. – Я и сам их не выношу. Вот хороший театр – другое дело.
– Вам нравится театр? – она всплеснула маленькими руками, оросив меня водой. – О, я очень люблю театр. У нас в Мемфисе бывают спектакли, но очень редко, когда приезжает странствующая труппа. Я люблю комедии. Тебе кто больше нравится, Менандр или Дифил?
Никогда не слышал ни про того, ни про другого, но сообщать об этом не собирался.
– Зависит от настроения, – ответил я (и вы должны признать, это чертовски ловкий ответ – особенно для человека с травмой головы). – Иногда я предпочел бы Менандра, а иногда без Дифила просто не жизнь, если ты меня понимаешь. А тебе?
– О, я такая же, – сказала она. – Просто в точности. Латинских писателей тоже люблю – я могу читать на латыни, меня мать научила. Я просто обожаю Плавта, хотя не кажется ли тебе, что Теренций глубже проник в природу человека?
– Чертовски точно, – сказал я. – Мало чего он не знает о человеческой природе, – тут мне пришло в голову, что я вроде как память потерял. – Знаешь, у меня ощущение, что я изрядно хаживал в театр, потому что все это звучит знакомо. Может, память возвращается?
Ее глаза сияли.
– О, прекрасно, – сказала она. – Разве это не замечательно. Думаешь, это потому, что мы заговорили о драме? Было бы замечательно, если б это тебе помогло, правда?
– Чудесно, – сказал я. – Давай продолжим. А какие другие пьесы тебе нравятся?
– Помимо комедий, ты имеешь в виду? – она нахмурилась. – Честно говоря, я не очень люблю трагедии, они такие печальные и мрачные. А тебе нравятся трагедии?
– Да не очень, – ответил я. – Я всегда думал, что в мире достаточно несчастий и без того , чтобы их придумывать.
– О, как это верно, – сказала она. – Думаю, потому я и люблю комедии – они такие веселые и радостные, и всегда заканчиваются хорошо. Не как в настоящей жизни, – добавила она со вздохом. – А поэзия? Ты любишь поэзию? Я люблю.
– Очень, – ответил я, и если уж на то пошло, говорил чистую правду. Во всяком случае, некоторую. Дядька наш, помню, читал стихи про Леду и лебедя, мы прямо в лежку лежали. Похабный он был мужик, мой дядя.– Какие поэты тебе нравятся?
– О, Феокрит, и Анакреон, и Алкей, Сапфо, конечно, и Феогнид, хотя некоторые его поэмы для меня слишком сложные, я не очень умная, я знаю...
– Я бы не сказал, – заметил я. – Я думаю, всякий, кому нравятся Менандр и Феокрит, должны быть очень умными, разве нет?
Она зарделась до самого кончика носа.
– О, я не знаю, – сказала она. – Я уверена, что не понимаю всех переплетений. Ты должен послушать, как говорят о поэзии мои братья. Они подмечают все тонкости, которые просто пролетают мимо меня. Мне самой больше нравятся красивые, радостные моменты.
– То же самое, – сказал я. – В конце концов, она дана нам на радость, поэзия. Это же не экзамен. Если ты разберешься во всех трудных кусках, лаврового венка или медали все равно не дадут.
Она рассмеялась.
– Ох, ты такие смешные вещи говоришь, – сказала он. – Почти как комедию смотреть. Ты, наверное, очень умный, если додумался до такого.
– Что есть, то есть, – ответил я с достоинством и быстро добавил, потому что вроде как не должен был этого помнить, – наверное. Просто говорю то, что приходит мне в голову.
Как видите, дела продвигались просто замечательно, поэтому очень жаль, что Луций Домиций выбрал именно этот момент, чтобы вломиться в комнату; с ним вместе вошли брат Аминта и другой чувак, которого я еще не видел. Впрочем, нетрудно было догадаться, кто он такой. Один взгляд на гигантскую штуковину, торчащую у него на лице, наподобие великого мола в гавани Остии – и становилось понятно, что это второй брат, Скамандрий. На тот случай, если я слепой или придурковатый, Аминта его представил. Я вспомнил о манерах и вежливо поблагодарил за спасение жизни. В ответ он смущенно улыбнулся. Неразговорчивый тип, подумал я.
– Я просто хотел, чтобы тебя осмотрел Скамандрий, – сказал Аминта. – У него гораздо больше опыта в подобных случаях.
Значит, Скамандрий осмотрел меня и задал в точности те же вопросы, что и Аминта до него (у него был тихий спокойный голос, один из тех, что через некоторое время вгоняют в тоску), а закончив, кивнул пару раз и что-то прошептал Аминте, который в ответ тоже кивнул и сказал: как я и думал. Затем он повернулся ко мне и спросил:
– Итак, мы что-нибудь вспомнили?
Прежде чем я успел что-нибудь сказать, вмешалась девица:
– О да, мы очень интересно поговорили – о театре, о поэзии, обо всем.
Я не знаю, как у вас принято, но если сестра сообщает вам, что она трепалась о поэзии с чуваком, которого вы только что притащили прямо с улицы, время слегка нахмуриться и слегка напрячься. Во всяком случае, в наших местах так. Но видимо, в Египте – не так, или во всяком случае – в Мемфисе, потому что оба просияли и сказали: чудесно, чудесно (в случае Скамандрия я только предполагаю, потому что не расслышал), и я начал думать, что мне бы, наверное, понравилось в Египте.
– Но, – продолжал Аминта, – очень важно, чтобы пациент побольше отдыхал, поэтому я думаю, что мы должны оставить его одного на час или около того. Идем, Миррина.
И все они убрались.
Мне было жаль, что она уходит, когда у нас все так хорошо складывается, но башка у меня все еще трещала, так что я закрыл глаза и только начал отплывать (мне пригрезилась Миррина, которая... а, неважно), когда дверь распахнулась и ввалился Луций Домиций. Он немного подождал, будто прислушиваясь, а затем тихо прикрыл дверь.
– Слушай, – прошептал он.
– Ммм?
Он посмотрел на меня.
– У меня мало времени, – сказал он. – От них труднее избавиться, чем от камешка в башмаке. Ты вправду потерял память или это очередная афера?
Когда я был маленький, на краю нашей деревни в Аттике жил старикан, и, помню, один раз я с ним разговорился, во время сбора оливок. Он сказал мне: сынок, с тобой не случится ничего плохого в жизни, если ты всегда будешь поступать правильно и говорить только правду. Вскоре после этого он умер – то ли от какой-то ужасной болезни, то ли его зарезали воры, забыл – но этот совет я запомнил на всю жизнь. Самое важное слово, конечно – «всегда». Без «всегда» он не работает. Если ты идешь по жизни, обманывая и не говоря ни слова правды, и вдруг решаешь попробовать остановиться – ты в говне.
Поэтому да, я действительно хотел сказать Луцию Домицию правду, поскольку это было бы правильно, но для правды было слишком поздно: я опоздал на тридцать с лишним лет. Кроме того, если б я сообщил ему, что симулировал потерю памяти, чтобы подбить клинья к девушке, в то время как нас преследует маньяк, способный выследить человека в любом месте империи и вручить ему деньги, пока тот спит, он бы охренел. И был бы совершенно прав, ибо если бы все было наоборот и я обнаружил, что он мне врет, я бы ему все легкие столовой ложкой вычерпал.
Поэтому я применил свой особый бессмысленный взгляд.
– О чем ты, блин, говоришь? – сказал я.
– О боже, – он закатил глаза (то еще зрелище). – Ну ладно, – сказал он. – То, что я сейчас скажу, может показаться немного странным. Ты готов?
– Зависит от того, что ты сейчас скажешь, – сказал я.
– Прекрасно, – он набрал побольше воздуха. – В общем, так. Ты помнишь, я говорил, что тебя зовут Эвтидем, ты живешь в Коринфе и мы с тобой продаем сушеную рыбу.
Я кивнул.
– Верно, – сказал я. – На самом деле, мне кажется, что я и сам начинаю что-то припоминать.
– Сомневаюсь, – сказал он. – Потому что все это ложь. Ни капли правды в этом нет.
Я приподнял бровь.
– Серьезно?
– Серьезно. И меня зовут не Писистрат, я не двоюродный брат твоей жены.
Ну, никто мне этого и не говорил, так что ничего страшного.
– Так почему ты сказал мне, что...
– Я врал.
– Ох.
Я не хотел облегчать ему задачу. Не знаю почему, но я все еще трепетал после беседы с Мирриной, а он торчал тут с отчаянно серьезным выражением на лице. Нет мне прощения. Я вел себя как ублюдок. Наверное, это от незнания, кем был мой отец.
– Правда такова, – продолжал Луций Домиций, – мы с тобой пара воров на доверии. Мы обманываем людей и так зарабатываем на жизнь. Аминту с братом мы обмануть не пытаемся, впрочем, потому что они в самом деле спасли твою жизнь.
– Понятно, – сказал я. – Так почему мы им врем?
–А. Ну, это неприятный момент. На нас кто-то охотится.
– В смысле, разыскивает нас? Обманутые нами люди?
– Возможно, – сказал Луций Домиций. – Самое пугающее, что мы не знаем, кто это. Но они следуют за нами от самой Сицилии – последний пункт нашего маршрута – они отыскали нас здесь, и оставили нам немного денег, пока мы спали.
– Понятно, – сказал я. – Они дали нам денег, и при этом, говоришь ты, мы от них убегаем. Зачем?
Он скорчил рожу.
– Сложно объяснить, – сказал он. – Но давай проясним несколько моментов. Тебя зовут, – продолжал он, – Гален.
– Гален, хорошо.
– А меня зовут... ну, ты зовешь меня Луцием Домицием.
–Это настоящее твое имя?
– Ну, да, —сказал он. —Настоящее. По крайней мере, часть настоящего. Если полностью – Луций Домиций Агенобарб...
– Это же римское имя?
– Да. Я римлянин. Так вот я говорю, что мое настоящее имя Луций Домиций Агенобарб Нерон Клавдий Германик Цезарь Август.
Я хихикнул.
– Очень длинное имя, – сказал я.
– Не говори. Но смысл в том, что ты единственный человек в мире, который знает, кто я такой.
– А я знаю? Ладно, предполагаю, что знаю, раз ты так говоришь. Но только, понимаешь, не помню.
Он прикрыл глаза.
– Слушай, – сказал он. – Ты же помнишь про императора Нерона?
Я кивнул.
– Ублюдок, – сказал я.
– Именно. Ну так вот, он – это я. Я это он.
– Не городи чепухи, – сказал я. – Нерон мертв. И хрен с ним.
– Нет, он не мертв. В смысле, я не мертв. Я очень даже жив. Я имитировал свою смерть с помощью твоего брата, и с тех пор мы с тобой бродяжничаем. Десять лет.
– Зарабатывая на жизнь обманом?
– Да.
– И на самом деле ты переодетый римский император.
– Верно.
– Извини, – сказал я. – Не верю ни единому слову.
Сам себе сердце разбил, уверяю вас. Выражение лица у него стало такое, что и судебный пристав бы разревелся. Но на этой стадии было уже слишком, слишком поздно откатывать, так что я более или менее застрял, а играя свою роль, я должен был делать это убедительно. Это не просто – лгать человеку, которого ты знаешь десять лет (если это, конечно, не ваша жена).
– Мне жаль, – сказал он, – но я не могу это доказать. В смысле, я не могу представить тебе клятвенное свидетельство, заверенное претором или что-то в этом роде, – он мрачно рассмеялся. – Проклятье, я потратил столько усилий, чтобы не быть Нероном, что лишился, похоже, способности быть собой. Все что я могу сказать – если я не Нерон, то какого хрена мне им притворяться? Можешь придумать хотя бы одну достойную причину, по которой кто-то станет выдавать себя за самого ненавистного человека в истории?
Тут он был прав, конечно.
– Ты все верно говоришь, – сказал я. – Но это может быть хитроумным встречным обманом. Ну, допустим, ты действительно жулик, а я на самом деле богатый простак, которого ты пытаешься обдурить. Может, не слишком убедительная версия, но все равно гораздо более вероятная, чем история с мертвым императором.
Ну, это его на некоторое время заткнуло. Действительно, версия была складная, потому что на самом деле это весьма разумная схема: зацепляетесь языками с каким-нибудь типом в таверне, роняете, вроде как случайно, что вы некий разыскиваемый преступник. У вас вроде как есть толстая заначка, но вы не решаетесь вернуться к ней, опасаясь быть пойманным, поэтому предлагаете продать карту, где искать ваше золото. Я даже запомнил ее на будущее. Корка за коркой – на буханку наскребешь, как выражаются у нас.
Бедолага совсем разнервничался.
– Слушай, ты, тупой греческий висельник, – сказал он. – Если ты думаешь, что ты богач, посмотри на свои ладони, и скажи мне, могут ли быть такие у богача. Последнюю пару месяцев ты махал мотыгой, чтобы не сдохнуть от голода.
Я посмотрел на руки, просто чтобы продемонстрировать добрую волю.
– Ничего не доказывает, – сказал я. – Я могу быть трудолюбивым земледельцем, которому удалось отложить кое-что дочке на приданое.
Он издал неприличный звук.
– Обещаю тебе, – сказал он, – что как только к тебе вернется память, я дам тебе такого пинка в задницу, что ты в Пренесту улетишь. Это ты-то трудолюбивый земледелец!
Вообще-то нечестно было так говорить, ибо если бы не подлость Судьбы, именно таким я бы сейчас и был.
– Ничуть не более невероятно, чем версия, будто ты – римский император, – сказал я. – Достаточно одного взгляда на тебя. Нет, я бы сказал, что ты отставной гладиатор или только что с галеры.
Я думал, он сорвется, но ему удалось сдержаться.
– Слушай, – сказал он. – Если удача и бог не отвернуться от нас, башка твоя через день-два придет в порядок и ты все вспомнишь сам, поэтому я не буду тратить время и воздух, пытаясь тебя убедить. Я рассказываю все это только для того, чтобы вернувшиеся воспоминания не стали для тебя шоком. Кроме того, я был бы очень обязан, если бы ты избегал заявлений, которые могут привести нас обоих на крест. Лады?
Я посмотрел ему в глаза. Я профессионал, конечно, но все равно это было непросто.
– Ты странный тип, – сказал я. – Если хочешь знать мое мнение, это тебе нужен врач. Тем не менее, если меня будут спрашивать, я скажу, что ты не император Нерон. В конце концов, это чистая правда.
Он собирался что-то сказать, но передумал, а я заметил, как у него в глазах что-то мелькнуло. Только спустя какое-то время я понял, что это могло быть, а именно: я был единственным человеком в мире, исключая Фаона – если старый говнюк был еще жив – который точно знал, что он был императором Нероном. Если бы я это забыл, ничего страшного не произошло бы, верно? Ведь мне бы тогда могли загонять иголки под ногти, и все равно я бы ничего не сказал, потому что ничего не помнил.
– Прекрасно, – сказал он. – Просто имей это в виду, и все будет хорошо.
Он вышел, а я повернулся на бок и попытался заснуть. Куда там. Я лежал и мучился совестью. Поразительно, сказал я себе. Мы с Луцием Домицием много пережили вместе, и разве я не обещал Каллисту приглядеть за дураком? И хватило милого личика – милого личика с гигантским носом к тому же – чтобы все это вылетело в трубу. Изумительно. И даже если на мгновение отложить это в сторону, разве не висит над нами таинственная угроза? Когда на меня свалилась стена, я как раз решил свалить из Рима, запрыгнуть на первый же попавшийся корабль и убраться так далеко от города, как только можно. И что я собираюсь сказать неизвестным злодеям, когда они наконец меня доберутся? Не трогайте меня, я влюбился? Отличный план!
Но это было как спорить с ребенком. Ты представляешь все факты, выстраиваешь доказательства, а маленький поганец только смотрит на тебя и знай себе лопает червяков или пьет из лужи. Я знал, что веду себя крайне глупо, но остановиться не мог. Тогда-то до меня и дошло, как черепицей по башке. Я влюблен. Дерьмо.
Ну да, конечно. Это для знатных сопляков в порядке вещей – шататься, распевая и улыбаясь бессмысленной улыбкой, только потому, что какая-нибудь девица ему улыбнулась. Ему все равно больше нечем заняться. Денежки звенят у него в кошельке и уж конечно он не интересует ни стражу, ни безжалостных убийц. Любовь – занятие для честных бездельников; такие, как я, этой возможности лишены. Жаль, что любовь об этом не знает, иначе человечество было бы спасено от многих неприятностей.
Надо отдать должное глупости: она позволяет просто взять и выкинуть любую мысль из головы. Полезный для выживания навык, кстати, учитывая количество камер смертников, в которых я успел побывать.
Я перестал об этом думать и попытался представить, что я скажу Миррине при следующей встрече, и за этим занятием, видимо, заснул, потому что в следующее мгновение увидел Миррину собственной персоной, нависающую надо мной, как ворона над трупом мелкого животного.
– Ой, страшно извиняюсь, – сказала она. – Я тебя разбудила?
– Все прекрасно, – ответил я. – Сколько времени?
– О, ужин только закончился. Братья и твой друг допивают вино, и я подумала, что могу тебя навестить. Тебе лучше?
Ну, для начала голова больше не болела. С другой стороны, поскольку болезнь была единственной причиной, по которой она была со мной мила, я не спешил сообщать об этом.
– Немного, – сказал я. – Голова по-прежнему очень болит.
– О боги. Так легче? – спросила она, обтирая меня ветошью. На самом деле это ужасно раздражало.
– Чудесно, – ответил я. – Если тебе не трудно, то есть.
– О нет, мне нетрудно, – и она залезла ветошью мне в глаз. – У меня для тебя хорошие новости.
– Правда? Какие?
Она улыбнулась мне.
– Пришли ваши друзья, – сказала она.
Я уселся столбом, в результате чего ее мизинец оказался у меня в носу.
– Наши друзья? – спросил я.
– Ну вот, а я думала, ты обрадуешься, – сказала она. – Кто знает, может быть при виде их твоя память вернется? В подобных случаях часто так происходит, если верить Аминте. Он рассказывал, что один его пациент...
– Что за друзья-то? – перебил ее я. – То есть – как они выглядят? Что говорят?
– Ну, – тут она наконец убрала тряпочку от моего лица. – Я спустилась вниз, чтобы набрать воды...
– Когда это было?
– О, около часа назад, ты еще спал. В общем, я пошла в переднюю комнату, и тут вошли двое – грек в красивом красном плаще, довольно дорогом, я бы сказала, и невысокий мужчина, вероятно, италиец, с лысой головой и клочковатой бородой. Они спрашивали трактирщика, не видел ли он двоих мужчин – крупного италийца с толстой шеей, так они сказали, и грека с острым носом и маленькими глазами, – она засмущалась. – Ну, на самом деле они сказал «грек с лицом как у хорька». Мне не кажется, что ты хоть капельку похож на хорька, но...
– Значит, так они сказали? В точности?
Она кивнула.
– И я, конечно, сказала – да, они здесь, на постоялом дворе, но с греческим господином произошел несчастный случай, на него свалилась стена, и он лежит в постели на втором этаже. Я только собралась рассказать, как Аминта спас твою жизнь, и разве не замечательно, что он оказался врачом? – но мужчины поблагодарили меня и сказали, что вернуться позже. Они не сказали, когда...
Я выпрыгнул из постели и стал нашаривать башмаки. Миррина легонько взвизгнула и быстро отвернулась, возможно, из-за того, что на мне ничего не было.
– Где мои башмаки? – спросил я.
– Под кроватью, – ответила она, не оборачиваясь. – Послушай, тебе не следует вставать, Аминта сказал...
Про себя я послал Аминту подальше.
– Все в порядке, – сказал я. – Мне уже гораздо лучше. Ты рассказала об этом Лу... рассказала моему другу?
Я видел, как она дернула головой.
– Нет, он же ужинает с братьями, и я не могла ничего ему сказать, пока они не закончат.
– Чудесно, – пробормотал я. – Погоди, ты говорила, это случилось час назад? Почему ты раньше мне не сказала?
– Ты же спал, – сказала она. – Я не хотела тебя беспокоить.
Тупая сука, подумал я, и тут же передумал: нет, она просто тактичная, она же ничего не знает.
– Можно тебя попросить кое о чем? – сказал я, натягивая тунику через голову. – Не могла бы ты сбегать и рассказать про все это моему другу? Я уверен, ему будет интересно.
– Хорошо, – сказала она. – Наверное, они скоро допьют вино и я сразу ему скажу.
– Сейчас же! – заорал я. – Я хочу сказать, думаю, тебе лучше рассказать ему прямо сейчас, если тебе все равно. Я уверен, что ему нужно узнать об этом как можно скорее.
– О, – сказала она. – Очень хорошо. Только Аминта будет очень недоволен, если я прерву их беседу, прежде чем они допьют вино.
– В этот раз, – сказал я, – он не будет возражать. Ну пожалуйста, – добавил я, едва сдерживаясь, чтобы на завопить.
Она вышла, а я огляделся в поисках лучшего пути отступления. Окно было достаточно велико, чтобы выбраться через него, но между подоконником и улицей внизу располагалось слишком дофига чистого воздуха, так что меня этот путь не привлек. Единственной альтернативой оставалась лестница, ведущая (вероятно) в главный зал. Ну что ж, подумал я, если я рвану прямо сейчас, то наверное успею; кроме того, я могу подождать Луция Домиция, потому что он бы на моем месте так и поступил.
Штука в том, что некоторые люди добры от природы, а другие нет.
Я из последних; мне говорили об этом всю жизнь, но могли и не беспокоиться, я знал и без них. Очень печально, конечно, я бы предпочел быть добрым, храбрым и благородным, но в конце концов смирился. Я не добр, не храб и не благороден, и никогда не буду, вот и все. Надо смотреть фактам в лицо и пытаться работать с тем хламом, что имеется – то есть с самим собой.
Это не имеет отношение к чувству вины и жалости к себе. Достойный чувак – скажем, Луций Домиций, глубоко в душе он хороший парень, я уже говорил – достойный чувак будет переживать, что подведет приятеля в трудную минуту; ему действительно будет сложно поступить так эгоистично и подло. Но если вы негодяй вроде меня, то вам не требуется заставлять себя. Такова моя природа, говорите вы – и вперед. Помню, я как-то говорил об этом с одним философом – не с Сенекой, с кем-то другим, но Сенека сказал бы то же самое, я уверен – и он заявил, что я попал в точку, потому что знаменитый Аристотель учил именно этому, типа, все имеет свою природу и нипочем не может ей противостоять. Ну, моя природа велела мне убираться нахрен отсюда, и если Аристотель говорит, что все в порядке, значит все в порядке. Правильно?
Ну и вот, значит, я спешу по узкой лестнице вниз, как стремительный краб, и вбегаю в зал. Городские постоялые дворы устроены одинаково, можно ходить по ним зажмурившись и ни разу не врезаться в колонну.
К несчастью, я немного ошибся со временем (вероятно, судьба наказала меня, что не стал ждать Луция Домиция), потому что в середине зала стоял мужик с Сицилии, тот самый истребитель солдат. С ним была куча народа, человек десять, и на их фоне гладиторы-чемпионы выглядели бы, как девушки-цветочницы.
Я остановился, как вкопанный, будто влетел носом в невидимое дерево. Сицилиец посмотрел на меня и ухмыльнулся.
– Привет, Гален, – сказал он.








