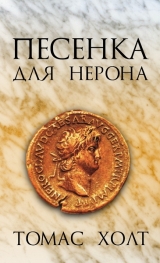
Текст книги "Песенка для Нерона"
Автор книги: Том Холт
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 33 страниц)
– Строго говоря, полагаю, ты можешь заявить права на это место. По закону, я имею в виду. Типа, если ты сын стар... сын Сосистраты, то по праву наследство должно было отойти тебе...
Я сделал вид, что ни о чем таком даже не думал.
– Благой Боже, нет, – ответил я. – Ну, по закону-то может быть, – продолжал я. – Но кому какое дело до этого дерьма? Нет, если ты заплатил матери хорошие деньги, то по мне так кабак твой; а если ты собираешься идти к префекту, я клянусь, волноваться не о чем.
Дуралей смотрел на меня так, будто я отвязал его от креста и сказал: извини, дружок, я просто шутил.
– О, вот уж кому волноваться об этом дерьме, так точно не нам, старым служакам. Значит, – он выдохнул, слегка потрясенный. – Ты подыскивал, что купить?
Я кивнул.
– Ну, перво-наперво я собирался найти койку на ночь и какой-нибудь перекус, не говоря о кувшине или двух разведенного пополам.
– О, думаю, это можно устроить, – сказал он чуть-чуть слишком радушно. – За счет заведения, естественно, – добавил он, и у меня сложилось впечатление, что эти слова он произносит нечасто – они, выходя из горла, явно причиняли ему боль, как если бы он отрыгивал репьи.
– Очень великодушно с твоей стороны, – сказал я.
– Это самое малое, что я могу сделать для собрата-ветерана, – ответил он, широко улыбаясь. В общем, мы вошли внутрь; если что-нибудь и изменилось, я не заметил (разве что Плут был мертв, как и Терион, да и Каллист тоже, конечно, так что остался в живых только я. А также мать, напомнил я себе). Мой братушка, которого, как выяснилось, звали Аполлодор, усадил меня за стол, а сам с топотом удалился, крича, чтобы подавали еду и вино. Надо отдать ему должное, уж он расстарался. Бекон и бобовая похлебка со свежим хлебом, хорошее домашнее вино, разведенное пополам и сдобренное медом, толокном и тертым сыром; он даже вытряхнул своего старенького папашу из второй спальни, чтобы уложить там меня (странное совпадение, потому что в детстве это была наша с Каллистом комната, и даже большая уродливая заплатка на стене никуда не делась). В общем, на следующее утро, когда встало солнце, я чувствовал себя невероятно свежо и радостно. Поэтому первым делом было все это изменить. Я спустился во двор и наткнулся на Аполлодора, спешащего в конюшню с большим горшком овса для лошадей.
– Думаю, надо пойти повидать мать, – сказал я. – Где мне ее искать?
Пес Быстрый, свернувшийся на своем обычном месте, прижал к голове уши и зарычал. Я его понимал. Однако если бы боги хотели, чтобы мы жили счастливо, они бы не одарили нас семьями.
– Ага, так, – сказал Аполлодор. – Как выйдешь, поверни налево, шагов пятьсот вниз по улице, пока не дойдешь до старого дома с двойными дверями...
Я кивнул.
– Ты имеешь в виду дом Телеклида?
– Ну конечно, ты же здесь вырос, я забыл. Да, именно его; но только старикан, который там раньше жил...
Он мог не продолжать. Жаль. Мне нравился Телеклид.
– Присоединился к большинству? – спросил я.
– Лет десять назад, так мне говорили. Он достался твоей матери; вообще-то он принадлежит римскому приставу, но он разрешил ей там жить.
Я нахмурился. Если она продала кабак и ферму, то почему жила на чьей-то милости? Но об этом я спрашивать не стал; незачем выносить сор из избы.
– Спасибо, – сказал я. – Я понял, куда идти. А потом я собирался прогуляться до города...
– Нет, зачем, – сказал Аполлодор. – Возьми мою лошадь, ей все равно надо размяться.
– Спасибо, – сказал я, слегка ошарашенный. – Очень щедрое предложение.
Он пожал плечами.
– Зачем бить ноги, когда можно доехать? В общем, если захочешь есть-пить, когда вернешься – покричи, и не беспокойся, если припозднишься. Ну да что я говорю, ты ведь и сам знаешь, как принято на постоялых дворах.
Я поблагодарил его. Он сказал, что без проблем. Стань мы еще чуточку дружелюбнее друг к другу, нам пришлось бы пожениться, хотя бы ради детей.
Ну, нельзя вечно откладывать неприятные дела, так что я пошагал по дороге к бывшему дому Телеклида, чтобы повидать старушку-маму.
Если вы были внимательны, то, наверное, не могли не заметить, что я не так чтобы очень пылко любил свою мать. Так и есть. По правде говоря, мы с ней никогда не ладили, насколько я помнил. Я никогда не понимал, почему он меня так не любит. Нет, если бы дело касалось только меня, все было бы понятно. Так нет же. Каллиста она тоже не особенно любила, а я не понимал, как это вообще возможно. Он был идеальным ребенком – добрым, послушным, умным, красивым, все что угодно – но она постоянно орала на него так же, как на меня, но он, в отличие от брата, ничем этого не заслужил. Ничего-то мы никогда не делали так, как надо, а вид у нее вечно был такой, будто один взгляд на нас причинял ей боль. Ну вот, и после шестнадцати лет такой радости вы ожидаете от меня, что я жду – не дождусь ее увидеть? Кроме того, она никогда не отказывалась опрокинуть стакан, и притом прислуживала в кабаке, где их всегда полно стоит недопитых – хотя при ней они простаивали недолго. Одно из моих самых ранних воспоминаний – мама собирает в зале винные кубки и жадно выхлебывает опивки, прежде чем сложить их в корыто для мытья. Я часто гадал, как она докатилась до такого, и за многие годы перебрал все возможные объяснения, начиная с трагического опыта в юности и вплоть до самого простого – что ей нравится вкус этой дряни. Я, конечно, не спрашивал ее, да и вообще ничего ей не говорил, просто старался держаться подальше от нее, пьяной или трезвой. Вот, кстати: говорят, что работа Фурий – изводить людей, которые плохо относятся к матерям, и если это так, то проясняет многое в моей жизни. Но Фурия, которую приставили ко мне, либо была воистину жестокосердной, либо боялась потерять работу. Наверное, таковы уж они, Фурии – злее собаки пристава и неумолимее мытаря.
В общем, я подошел к двери и постучался. Тишина. Может быть, она вышла, а может, упилась вдрабадан и дрыхнет лицом вниз на полу, как бывало, а может, умерла на той неделе, а никто и не заметил. Я снова постучал, втайне надеясь, что дверь останется закрытой. Чтобы я мог сказать Фуриям: я сделал все, что мог – но чтобы при этом мне не пришлось ее видеть.
И вот я стою на дороге, как паренек под окном у возлюбленной, и тут кто-то останавливается рядом, как вкопанный, круто поворачивается и таращится на меня: старикан в широкополой кожаной шляпе, похожий из-за нее на гигантскую поганку.
– Гален? – сказал он. – Это ты?
У меня хорошая память на голоса.
– Привет, Мисандрон, – ответил я.
– Гален? – я знал его всю свою жизнь, хотя и шапочно, он не был нашим родственником или близким знакомым.
Однажды, когда мне было примерно тринадцать, он поймал меня на краже смокв с его дерева и гнал почти до Фив, пока не въехал ногой в рытвину и не вывихнул лодыжку.
– Провалиться мне на этом месте, – сказал он. – Вот уж не думал увидеть тебя снова.
Он подошел поближе. Когда я разглядел его лицо под мятой шляпой, я был потрясен. С последней нашей встречи он превратился в старика – глаза провалились, щеки запали, а кожи на лице, казалось, стало слишком много.
– Ну, а я вот он, – сказал я. – Что, как ты поживаешь?
Он уставился на меня.
– Чего? О, неплохо, неплохо. Так-то моя жена умерла лет десять тому, сын, Полихрам – да ты помнишь его, вы как-то передрались из-а какой-то девушки...
Я ухмыльнулся.
– Если это можно назвать дракой, – сказал я. – Это было скорее избиение. Тем не менее, мне она не досталась.
Он пожал плечами.
– Ну, неважно, – сказал он. – Полихрам тоже умер, почти точно два года назад. Другой мой мальчик, Поликит, ушел в начале этого года – упал с дерева, можешь себе представить? Шею сломал.
– Мне жаль это слышать, – сказал я.
– Да, что ж. Я лишился большей части стада четыре года назад в сезон подрезки; решили – парша, хотя я не уверен насчет этого. Потом на моих террасах случился оползень, похоронил под собой два акра моего лучшего винограда. Вода в колодце испортилась восемнадцать месяцев назад; я выкопал новый, но вода в него едва сочилась, и в сухой сезон он пересох. Длинный амбар сгорел в позапрошлом году, вместе со всем семенным зерном, так что пришлось занимать; не думаю, что успею вернуть этот долг до смерти. А потом мой старший внук – Харет – сбежал, чтобы записаться в легион, так что остались только мы с Эвтихидом, хотя он еще совсем пацан, да к тому же весной лишился глаза – заражение, пришлось звать цирюльника из города, чтобы его вырезать. А у тебя как дела?
– У меня? О, я не жалуюсь, – сказал я. – А скажи, кому принадлежит сейчас наша земля? Я имею в виду ферму.
Он нахмурился.
– Какому-то клятому солдату, – сказал он. – Он ее не обрабатывает – сидит дома и напивается в соплю, а потом бегает по двору и лупит по деревьям мечом. Если бы твой дед это увидел, его сердце было бы разбито, мир его душе.
– А, – сказал я. – Так, значит, он может продать ее?
Мисандрон заморгал.
– Может, и так, – сказал он таким тоном, как будто сама идея продажи и покупки земли слегка его шокировала. – Не сказать, чтобы я много с ним говорил, он же постоянно пьян. Не думаю я, что он подходит для земледелия. Наверное, ты можешь сам у него спросить.
– Спасибо, – сказал я. – Я, наверное, так и сделаю. Что ж, не буду тебя задерживать, – сказал я с надеждой.
– О, я не тороплюсь, – ответил он. – Пошел вот посмотреть на бобы, но не думаю, что увижу что-нибудь хорошее. Не стоило и трудиться, сажая их. Почва слишком истощена, ничего на том клочке не растет. Наверное, перепахаю я эти бобы, да и дело с концом. Ну, не знаю, надолго ли ты к нам, но добро пожаловать назад. Я вроде слышал, что вы с братом уехали и записались в легион или чего-то такое?
– Верно, – сказал я. – Недавно демобилизовался, и теперь я дома.
Он задумчиво поскреб ухо.
– Дома лучше всего, так вроде говорят, – сказал он.
– Коли так, увидимся еще.
Я не был уверен, прощание это или угроза, но вежливо ответил: – Увидимся, береги себя. – Он пожал плечами и пошел прочь, увлекая за собой свое личное черное облако. По крайней мере я теперь знал, что со мной, по мнению соседей, произошло. Фила считала, что я ушел в солдаты. Это меня устраивало.
За все время нашего со старым Мизантропом разговора дом не подавал никаких признаков жизни, и я уже собирался уходить, когда увидел, что по дороге кто-то приближается. На сей раз это была махонькая старушонка, согнувшаяся почти вдвое над своей клюкой. Мне и в голову не пришло, что это может быть моя собственная мать, пока она не прошуршала мимо меня к дому. Ну конечно же, это не она.
Последний раз, когда я ее видел, это была женщина почти с меня ростом, с припухшим лицом пьяницы и руками, напоминающими гигантские колбасы.
Кроме того, он ведь взглянула на меня, проходя мимо. Уж конечно же, она признала бы собственного сына – в конце концов, я нисколько не изменился (к большому сожалению). Не может быть, чтобы это была она. Старый солдат из кабака все перепутал, должно быть.
Но зачем себя обманывать? Несмотря ни на что, я знал, что это именно она. Я вздохнул, сжал зубы и заколотил в дверь.
Увидев ее лицо вблизи, я отбросил всякие сомнения. Оно выглядело так, как будто ее положили подсушиться на солнышке рядом с изюмом и фигами, да позабыли убрать. Щеки висели ниже подбородка, нос торчал как скала из моря, помимо этого она ничуть не изменилась.
– Чего тебе надо? – сказала она таким тоном, будто я вылез из надкушенного яблока.
Ну, я не нашелся с ответом и потому сказал:
– Привет.
Она смотрела на меня и я знал наверняка, что она меня узнала.
– Не знаю, кто ты такой, – сказала она. – Убирайся.
Да, устоять было трудно.
– Это я, – сказал я. – Гален. Твой сын.
У нее всегда была привычка смотреть немного влево, когда ее ловили на лжи.
– Что ты тут делаешь? – сказала она. – Я слышала, ты умер.
– Нет, – сказал я. – Жив еще, более или менее. Можно войти?
Она щелкнула зубами: они почти все были на месте, кроме одного, которого она лишилась еще до моего рождения – кто-то вышиб ей один из нижних передних.
– Да, входи, – сказала она.
И знаете что? Я испугался.
Ну, скажете вы, а что в этом такого необычного? Это верно. Я прирожденный трус, счастлив признать это; нет никакого смысла отрицать очевидное.
Я боялся всю жизнь – боялся, главным образом, что меня поймают, боялся того, что со мной сделают после поимки, боялся куда-то идти, боялся остаться на месте, боялся смерти, болезни, голода, холода, жары, старости, пауков, змей, больших собак, маленьких собак, собак среднего размера, коров, грома, зловещих птиц, богов, правосудия, судьбы, кораблей, мостов, высоты, замкнутого пространства, открытого пространства, кур, солдат, чисел три, четыре, семь и двенадцать, женщин-левшей, высоких мужчин, оружия, летучих мышей, колесниц, утесов, колодцев, калек, огня, снега, темноты, новолуния, красной пищи, незнакомцев, свиней – назовите что угодно, и я испугаюсь. Иначе и быть не могло, потому что самые идиотские последние слова в жизни, какие только произносились людьми – я думал, это безопасно. Думаю, боги подарили нам страх, чтобы защитить в полном опасностей мире, и я им сердечно благодарен, уж поверьте.
Но разве можно представить взрослого человека, которого пугает его собственная мать?
И там не менее. Говорят, что истинная отвага – это выйти лицом к лицу со своим самым большим страхом, хотя по мне так это очень точное описание глупости. В общем, я последовал за ней в дом.
Первое, что я заметил, был запах. Дом вонял дерьмом, мочой, гниющей пищей и блевотиной. Здесь было темно, как в мешке, а под ногами что-то хрустело. Когда глаза мои привыкли к темноте, я увидел, какой вокруг бардак. Забавно – в детстве она беспрерывно заставляла нас убирать в доме. Стол был завален свиными костями и яблочными огрызками, вдоль стены громоздились кувшины, повсюду стояли чашки с растущим в них зеленым мхом. Она уселась на маленький деревянный стул. Я остался стоять, боясь чем-нибудь заразиться.
– Ну что ж, – сказал она. – Значит, ты вернулся.
Я кивнул.
– Да, – сказал я.
Она неодобрительно зацокала языком.
– Где Каллист? Он с тобой?
– Он мертв.
Я не собирался так говорить, конечно. Не придумаешь ничего более невежливого. Но она только пожала тощими плечами и сказала:
– Ну что ж, мертв, так мертв. – А чего я ожидал?
– Он умер десять лет назад, – продолжал я. – В Италии, – добавил я, будто это как-то улучшало дело. Затем мне пришла в голову фраза, которую я где-то слышал. – Он умер достойно, – сказал я.
Сказанная вслух, фраза оказалась очень, очень глупой.
Ей тоже так показалось.
– Что это должно означать? – спросила она.
– Он умер, спасая чужую жизнь, – сказал я.
Она опять цокнула языком, как будто я сообщил ей, что мы воровали яблоки.
– Твою?
Я вскинул голову.
– Своего друга, – сказал я.
Она вздохнула.
– Проклятый дурак. А тебя рядом не оказалось, значит.
– На самом деле я там был, – сказал я. – Я пытался остановить его...
– Наверное, не очень старался, – она покачала головой, показывая, что тема закрыта. – Ты тут проездом?
– Нет, – сказал я. – По крайней мере, я планировал...
– Здесь ты не можешь остаться, – перебила она. – Я не хочу, чтобы ты здесь жил, у меня мало места.
Что ж, тут она не кривила душой.
– Все в порядке, – сказал я. – Я остановился на постоялом дворе. Бывшем нашем.
– Деньги есть? – быстро сказала она.
– Да, – сказал я. – Денег полно.
Она посмотрела на меня. Таким взглядом хорек мог бы смотреть на кролика.
– Хорошо устроился, значит?
Я кивнул.
– Свезло немного, – сказал я, но тему развивать не стал. Не было смысла рассказывать ей, что Аминта случайно нанял моих друзей с зерновоза, или про плавучий гроб. И так было ясно, что это ее не заинтересует.
– Ты должен оказать мне услугу, – сказала она, разглядывая меня оценивающе, будто скотину покупала. – Ты всегда был хорошим мальчиком, добрым к своей бедной старой матери.
– Конечно, – сказал я.
– Ты мог бы сходить в кабак, – сказала она, – и принести мне кувшин вина. Не надо ничего экзотического, самого обычного вина.
– Конечно, – сказал я без выражения. – А как насчет какой-нибудь еды? Ты ешь мучное?
– Не лезь со всякой ерундой, – сказала она нетерпеливо. – Принеси мне кувшин, и все. Давай, ты можешь чуть-чуть расстараться ради меня, после всего, что я для тебя сделала.
Я почему-то спросил:
– Что, например?
Это ей очень не понравилось, она бросила на меня взгляд, которым можно было давить прыщи и выгнула шею, как кошка. Сказать, однако, ничего не сказала, а только попросила:
– Не жадничай, дорогой. Маленький кувшинчик – разве это слишком много для старой мамочки, а? Я просто весь день трудилась на своем огородике, – ее руки и юбка на коленях говорили обратное, если только на огороде вовсе не было почвы, – и теперь меня мучает жажда, день-то ведь был жаркий. Всего-то и прошу добежать до кабака и принести маленький кувшинчик.
Я вышел из дома и зашагал назад по дороге. Меня трясло, будто я подхватил лихорадку, и более всего я желал никогда не возвращаться туда и не видеть эту ужасную старуху. Однако я разыскал хозяина, занятого на дворе починкой сапога с помощью пергамента и свежесваренного клея, купил кувшин объемом в одну урну и взгромоздил его на плечо. Он не спросил, зачем мне столько, а я не стал объяснять. Идя назад, я чувствовал себя гигантом из старинной сказки, обреченном в наказание удерживать на плечах небо.
– Это ты, Гален, дорогой? – пропела она, когда я толкнул дверь ногой, как будто я снова был ребенком, вернувшимся с холмов, где пас коз. – Хороший мальчик, – продолжала она. – Я всегда это говорила. Вноси его, и я смешаю нам обоим выпить.
– Мне не надо, – сказал я, думая о причудливой растительности в чашах. Она не стала настаивать.
Через некоторое время (первую чашку она выпила, не разводя вино и почти не касаясь краев; следующую уже смешала пополам с водой из маленького кувшина круговой лепки, который я помнил с детства) она, казалась, расслабилась, как уставший человек после горячей бани.
– Как хорошо увидеть тебя снова, мой любимый малыш, – сказала она, глядя, впрочем, на кувшин. – Я так волновалась, не зная, что с тобой. Но ты ни разу не заглянул повидать меня, и не прислал ни словечка, и вполне могло статься, что ты мертв. А дела шли худо, мне пришлось продать постоялый двор, который принадлежал нашей семье многие поколения, и ферму тоже – сердце дедушки разбилось бы, если б он узнал. Но что я могла поделать, оставшись одна-одинешенька и даже не зная, увижу ли когда-нибудь снова своего дорогого мальчика?
Если это был такой завуалированный способ извиниться за то, что она пропила все мое наследство, то я и так был не в претензии. Тем не менее, таковы уж матери – всегда так повернут, что виноваты во всем окажетесь только вы, но так уж и быть, они вас прощают. Она продолжала в том же духе Бог знает как долго, и ни разу не упомянула Каллиста и не спросила о нем; можно было подумать, что я ее единственный сын. Я сказал ей, когда сумел вставить слово, что служил в армии – кухарил, сказал я на тот случай, если она меня слушала, потому что даже в этом состоянии никогда бы не поверила, что я мог сражаться – а теперь демобилизовался, получил деньги и собираюсь осесть и заняться земледелием.
– Это прекрасно, дорогой, – сказала она, смешивая пополам еще одну чашу – скорее, три к одному, как будто стояла засуха и вода была в дефиците. – Я всегда знала, что ты встанешь на ноги, ты всегда был хорошим мальчиком. Прекрасно было бы снова жить на ферме. Я скучаю по нашему старому дому. Мне было так грустно расставаться с ним.
Черт, подумал я; разве я говорил что-нибудь насчет того, что она будет жить со мной?
Вслух, конечно, ничего не произнес. С другой стороны, если она переедет ко мне, возможно, удасться чуть выправить ее; даже если и нет, то дешевле будет держать ее при собственном винограднике. Я задумался о том, сколько земли придется под него отвести.
На половине кувшина она уснула, а я вышел на цыпочках и двинулся на постоялый двор. Там я снова разыскал хозяина, все еще починяющего свой дурацкий старый сапог и попросил его отправить еще один кувшин в следующий раз, когда он будет посылать слугу в деревню. После этого я направился в город, чтобы продать свой прекрасный золотой пояс.
Приятная особенность дороги из Филы в город состоит в том, что она идет под горочку. По пути я много думал и мало смотрел по сторонам; возвращение домой я полностью провалил, а впереди еще маячила перспектива восхождения на гору на обратном пути (одного взгляда хватило, чтобы передумать насчет кобылы кабатчика: скелет у нее оказался весьма причудливым, причем большую его часть можно было спокойно изучить сквозь шкуру).
Афины невелики по сравнению с некоторыми городами, в которых я побывал, но в них крутятся большие деньги, поскольку богатые римляне приезжают сюда, чтобы отхватить свой маленький кусочек культуры и проглотить его, как таблетку – быстро и зажмурившись. И это хорошо, если вам требуется элитарный златокузнец, настроенный что-нибудь купить. Я выбрал того, который сидел у Башни Ветров и вид имел подловатый и хитрый, в точности, как у меня. Думаю, он только чудом не обоссался, увидев пояс; даже не потрудился спросить, откуда я его взял – его интересовало, сколько я за него хочу. Я ухмыльнулся и сказал, что получил его в наследство от старушки-тетушки. Понятия не имею, сколько он стоит, но совершенно уверен, что он предложит мне за него честную цену. Затем мы разыграли небольшой спектакль – я притворялся, что ухожу прочь, он притворялся, что ничего не имеет против, в общем, все эти утомительные пируэты. В конце концов я оставил его в компании пояса и побрел прочь, имея при себе примерно треть того, на что рассчитывал и будучи совершенно уверен, что меня нагрели, как дурака. Нет нужды; в конце концов, он был как бы и не совсем мой, чтобы его продавать. И мне пришло в голову, что если за один жалкий поясок удалось выручить столько денег, сколько моя семья не видела со времен Александра, то может мне и стоило принять великодушное предложение гостеприимных пиратов Схерии. Но все же я не настолько глуп. Они были прекрасными людьми, я редко встречал лучше, честное слово. Но если бы я вошел с ними в долю, как они того хотели, то к этому времени превратился бы в несколько разрозненных костей, погребенных под толстым слоем придонного ила, и вы бы никогда не узнали, что я вообще родился на свет.
Афины – город спокойный, разве что по ночам пьяные шумят, но все равно не следовало шататься по улицам, согнувшись пополам под весом монет. Я был не вполне уверен, с чего следует начать, но затем спросил себя – ну, а почему нет? И не смог достойно на него ответить. Так что я отправился на агору, где менялы держат свои столы. Афины – великий банковский город, потому что римским путешественником требуется постоянно переводить с родины деньги на покупку старинных статуй и прочего барахла. Я никогда не думал, что в один прекрасный день склонюсь над столом Гнея Лаберия и партнеров, имеющих представителей в Риме, Афинах, Лугдунуме и Александрии. И совершенно точно не предвидел, что старший управляющий, увидев на столе толстенную сумку денег, внезапно решит, что не надо мне стоять на ногах на такой жаре и пошлет писца быстро принести мне стул. Он также предложил мне выпить – фалернское, прямо из Италии – и сообщил, что иметь со мной дело – большое для него удовольствие. Что ж, когда-то все случается впервые. Уж поверьте, нетрудно составить кому-нибудь удовольствие вести с тобой дела, если ты богат.
И я, определенно, таков и был; направляясь домой, я спрашивал себя – ну, и как же так вышло? Я, собственно, и не заметил ничего: наткнулся на пояс, спер его – простой инстинкт, все равно как почесаться, если чешется. Однако в тот самый момент, как выяснилось, я перестал быть подонком, рванью и дрянью и мгновенно превратился в величественную богоподобную персону, иметь с которой дела одно удовольствие и которой не грех предложить фалернское и принести стул. Уверяю вас, я не чувствовал себя ни величественно, ни богоподобно, болтаясь в море или когда я торча голышом на берегу. Но тут я внезапно понял одну вещь и все встало на свои места – доброта и щедрость схерийцев, их расточительное гостеприимство; да и вообще все вдруг пошло как по маслу, вон даже боги прислали мне гроб, чтобы доставить на берег. И все эти чудеса начались только после того, как я скрысил пояс; а стоило мне сделать это, как я превратился в богача. Едва я сообразил это, все происходящее обрело чистоту горных вод. После превращения в богача все и должно происходить совершенно по-другому, чем до. Разумеется, боги должны заботиться обо мне, слать плавучие гробы при первой же необходимости, а затем организовывать прямую доставку до дома на частной яхте.
То, что я только сейчас до этого допер, лишний раз доказывает, насколько я туп.
Ну, я прихватил с собой с дюжину золотых монет и немного серебра – просто на повседневные расходы – а остальное оставил на попечении Гнея Лаберия и партнеров. Сразу от них я направился на конский рынок и купил прекрасную кобылу вместе с упряжью, так что проклятая гора больше меня не пугала. Мой четвероногий друг принял на себя все хлопоты и доставил меня в Филу в мгновение ока. Я оставил ее в конюхам и двинулся на ферму. Подумалось, что не стоит упускать время, пока я в этом твердом, уверенном, героически-ахилловом настроении.
Короче говоря: я обнаружил соратника нашего кабатчика спящим под персиковым деревом в обнимку с амфорой. Пихнув его в ребра ногой и не говоря лишних слов, спросил: согласен ли он продать ферму? Он заморгал, будто я выпал из какого-то странного сна, и я повторил вопрос, только помедленнее – не желает ли он продать ферму? Я дам ему столько, сколько он сам заплатил, продолжал я, да еще четвертую часть сверху – на удачу – если он уберется отсюда в течение месяца.
Он вытаращился на меня, как будто у меня змеи полезли из носа и сказал:
– Да.
– Хорошо, – ответил я, а затем мы обговорили детали: даты и условия, что он сможет забрать и что должен оставить из движимого имущества, живого и неживого, сваленных деревьев и взошедших посевов, все такое; после этого я сказал благодарю, весь такой величественный, как аристократ, и пошел прочь. Вот и все – чистое удовольствие и никаких скандалов, свар и пролитой крови. Помню, я подумал: если бы старик Одиссей, вместо того, чтобы натягивать старый лук, который только он мог натянуть, и хладнокровно отстреливать сто человек, просто вытащил бы пузатый кошелек, которым снабдили его феаки, и выкупил старый дом, то все были бы счастливы как ягнята, обошлось бы без жертв и великих деяний, о которых поют песни и пляшут пляски. Единственно, что приходило на ум, так это что он слишком долго был нищ, чтобы понять, что разбогател и больше не нуждается в этом своем героическом хитроумии. Глупый козел.
Вернувшись на постоялый двор, я заказал обильный обед с хорошим вином, причем мне удалось выразить свои пожелания именно так, как мне и хотелось– не прикидываясь богатым ублюдком, как будто я кручу очередную аферу. Что ж, подумал я, если Луций Домиций сумел научиться быть подонком вроде меня, я сумею научиться быть богатым ублюдком вроде него, это всего лишь вопрос практики, как в игре на арфе или пении.
Что ж, я побывал и бедным, и богатым, и вот что я вам скажу – богатым быть лучше. Богатый просыпается утром и думает о том, чего бы ему такого съесть на завтрак, а не о том, удасться ли ему сегодня поесть. Богатый стоит на крыльце и смотрит в небо, и если слишком холодно или слишком жарко, говорит себе – да ну его в жопу, не пойду я сегодня работать, пусть пашут наемные. Богатому не надо латать старые заплатки на плаще, он может ехать, а не идти, у него есть выбор, он может делать, что хочет и не делать, чего не хочет. По сравнению с богатством бедность сосет.
Вообще-то я не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, будто я принялся швыряться деньгами, как два пьяных моряка в увольнительной на берег. Не так просто избавиться от привычек, нажитых за сорок лет; а кроме того, очень скоро я обнаружил, что от дорогой еды на меня нападают изжога и пердеж, а вино, если выпить больше двух кубков посреди дня, оставляет ни к чему не пригодным. Я заказал у одной деревенской женщины три туники и два плаща из качественной шерстяной ткани, а у сапожника в городе приобрел две пары хороших сапог. Переехав на ферму, я первым делом нанял плотника сколотить мне нормальные стол и кровать, а также двух парней, которые помогли мне привести дом в порядок, починить крышу амбара и входную дверь, которая не закрывалась. Я поехал в город и купил двух рабов. Я выбрал мужчин среднего возраста, сирийцев, которые оказались спокойными и работящими типами, соображавшими в сельском хозяйстве и потому не нуждались в присмотре. Под жилье я выделил им маленький сарай и позволил возиться с ним в свободное время, так что в итоге им было вполне удобно. Их звали Птолемей и Смикрон, и у меня ни разу не возникло с ними никаких проблем.
Не стоит и говорить, что маленькой дедовой фермы не хватило бы, чтобы поддерживать меня и двух работников на том уровне достатка, к которому я надеялся привыкнуть, но ничего страшного. Чудесная это штука – римская армия. Она не только бережет нас от диких орд германцев и парфян (не то чтобы они причинили мне какой-то вред, особенно если сравнить, скажем, с римлянами), не только патрулирует улицы и гоняет бессовестных воров и мошенников по темным переулкам; главная ее заслуга в том, что она выманивает доверчивых юношей с ферм и затем или убивает их, или наделяет землей в далеких странах, когда они выслужат свой срок. В результате мелкие фермеры остаются без наследников и с каждым годом на продажу выставляется все больше земли. Этим пользуются главным образом римские сенаторы и подобные им типы, которые скупают ее и населяют рабами и надсмотрщиками; но и такие, как я, если им вдруг повезет с деньгами, могут со временем обзавестись приличными владениями без необходимости вкладывать сразу и много. В моем случае все удалось на славу. Один из моих соседей, старый Поликлид (которого изумило и, возможно, не очень обрадовало мое возвращение) лишился обоих своих сыновей – последние новости о них пришли с восточной границы, где к услугам старших сержантов было столько всего, что они и думать не хотели о какой-то дыре в Аттике. Так что я предложил ему хорошую цену за его шестиакровый участок, разделяющий два моих, и он чуть не вырвал у меня руку из плеча. Мигдон, которому так и не удалось найти мужа для дочери (хотя когда мне было пятнадцать и я шатался вокруг их дома с корзиной яблок, он спустил на меня собак; и поделом, потому что отчаяние отчаянием, но отец должен где-то провести черту допустимого), продал мне четыре акра хороших олив на южных склонах. Может, я и переплатил за три акра ровной земли семье Икара, но старикан мне всегда нравился и я ничего не имел против этой сделки. В любом случае, я компенсировал эту потерю, практически украв восемь акров на склоне холма у Эвримедона; я заплатил ему за них, как за камни и гальку, но даже слепец видел, что они нуждались только в террасировании, чтобы стать не хуже любого равнинного участка в округе. В общем, я утроил размер фермы, купил лозу, семенное зерно и саженцы олив, раскошелился на новый плуг, пять хороших быков и двух мулов, после чего в банке Лаберия осталось больше половины поясных денег. Удивительная трансформация, как в волшебной сказке, в которых люди превращают людей в деревья или животных: несколько месяцев и пригоршня блестящих металлических дисков превратили меня из подонка общества в одного из богатейших землевладельцев Филы. Когда со всеми формальностями было покончено и межевые камни вкопаны, я уселся за свой красивый новый стол с восковой табличкой и пригоршней сухих бобов, чтобы вести счет, и прикинул возможный годовой доход; выходило либо самую чуточку больше или на столько же меньше магических пятисот мер, которые во времена древней Республики, когда о римлянах никто и слыхом не слыхивал, являлись пропуском в правящий класс. По стандартам же сенаторов и всадников я, конечно, был не более чем еще одним ковыряющим грязь крестьянином. Зерна со всей моей маленькой империи вряд ли хватило бы, чтобы накормить ручных павлинов среднего сенатора. Как будто мне было до этого дела. Что было хорошо в положении сельского богача в Филе, так это то, что не было никаких мыслимых причин, по которым я мог бы за все отпущенное мне время встретиться хотя бы с одним римлянином. По моему мнению, одно это уже окупало все предприятие.








