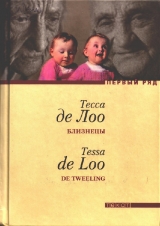
Текст книги "Близнецы"
Автор книги: Тесса де Лоо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 24 страниц)
В задней комнате дети выполняли домашнее задание; пока отец проводил ревизию, проигрыватель молчал. Служебный «харлей-дэвидсон» доставлял его в самые отдаленные уголки области. В своем длинном кожаном пальто, защитных очках и со щитками на голенях он колесил по величавым аллеям – уши его кепи беспорядочно хлопали на ветру, словно крылья пьяной птицы. По возвращении домой он сбрасывал свою амуницию, доставал из шкафа томик собрания сочинений Маркса или Ленина и устраивался с ним в кресле.
Но вот внезапно открывались раздвижные двери.
– Чем это вы тут занимаетесь? – резко спрашивал он, появляясь на пороге.
– Домашним заданием.
– По какому предмету?
– По отечественной истории.
– А ну-ка, закройте эти ваши учебники, отсюда вы узнаете гораздо больше. Слушайте: «…Везде, где одна часть общества имеет монополию на средства производства, рабочий, свободный или несвободный, должен к рабочему времени, необходимому для поддержания его собственной жизни, прибавить дополнительное рабочее время, идущее на производство средств существования для владельца средств производства, будет ли это афинский теократ, римский гражданин, норманнский барон, американский рабовладелец, валашский боярин, современный землевладелец или капиталист».
Отец бросал многозначительный взгляд на обложку «Капитала», украшенную виньеткой.
– Рабочий трудится в поте лица, чтобы богач смог посвятить себя ничегонеделанию – так устроен этот мир, понимаете? Зарубите это себе на носу.
Загоревшись, он мог часами читать детям свои лекции, пока на их счастье не приходила мать, придумав для девочек какое-нибудь несуществующее задание. Когда они жаловались, что их заставляют пропалывать огород, отец приводил им в пример судьбы их ровесников из прошлого века: «В два, три, четыре часа утра девяти-десятилетних детей отрывают от их грязных постелей и принуждают за одно жалкое пропитание работать до десяти, одиннадцати, двенадцати часов ночи, в результате чего конечности их отказываются служить, тело сохнет, черты лица приобретают тупое выражение, и все существо цепенеет в немой неподвижности, один вид которой приводит в ужас».
Гостей он подлавливал более изощренно. Сначала он соблазнял их волшебной музыкой; когда же они с переполненной эмоциями душой окончательно попадали в его сети, он приглушал звук и, словно под влиянием момента, между делом открывал книгу, якобы случайно оказавшуюся под рукой. Некоторым удавалось вовремя улизнуть, другие ввязывались в горячие диспуты, не прекращавшиеся до глубокой ночи. Настоящие споры начинались под утро, когда отец на фоне внушительных колонок, свидетельствовавших о его изобретательном уме, выступал против монархии. Взбодренные можжевеловой водкой, они были готовы поддержать его речи в защиту исторического материализма и даже смотрели сквозь пальцы на филиппики против христианства. Но стоило ему затронуть тему королевской династии, как он переступал границу дозволенного и сталкивался с возмущенными протестами. Ни его музыка, ни красноречие, ни напитки не в состоянии были поколебать их любовь к Оранскому дому. Поглаживая указательным пальцем усы, он с трудом пытался скрыть свое презрение. Один из гостей, профессор истории в Амстердамском университете, настолько полюбил эти ночные дискуссии, что приходил к отцу каждую субботу, и они философствовали до тех пор, пока бутылка можжевеловой водки не подходила к концу. Отец Лотты, испытывавший какое-то детское, отнюдь не социалистическое почтение к авторитетам в области науки, был весьма польщен этой дружбой, которая зашла так далеко, что профессор Конинг купил себе поблизости, через лес, дом с тростниковой крышей.
На День королевы отец отказался вывесить флаг на водонапорной башне. Однако высокопоставленный представитель провинциальных штатов, живший неподалеку и совершавший ежедневный моцион по лесу, доложил о его халатности куда следует.
– Ну же. – спустя год упрашивала его жена, – вывеси флаг, иначе не оберешься неприятностей.
– Это просто возмутительно, – вставал он на дыбы, – вывешивать флаг в честь самой заурядной женщины!
– Речь идет о королеве.
В тот момент она сама была похожа на королеву, в своем кремовом шелковом платье, гордая, статная, неумолимая. Ее поддержали дети, украсившие свои велосипеды хвойными ветками и оранжевыми бумажными фонариками.
– Пап, все вокруг уже вывесили флаги!
Он фыркнул: толпа!
– Если ты не хочешь, то это сделаю я! – сказала жена и зашагала в сторону водонапорной башни. Он торопливо последовал за ней, нагнал у входа в башню и оттолкнул в сторону. Стиснув зубы, отец с мрачным видом вошел внутрь.
Однажды в школу явился инспектор, чтобы произвести перепись учеников. Он стоял перед классом и зачитывал список – один за другим дети должны были подниматься из-за парт и называть свои имена. Ровным, бесстрастным голосом он каждому задавал один и тот же вопрос: «А кем работает твой отец?»
Все отвечали без запинки. Лотте автоматически присвоили фамилию ее голландских родителей – Роканье. Но про профессию отца она не могла сказать ничего определенного.
– Лотта, – ласково обратилась к ней учительница, – ты же знаешь, кем работает твой отец, правда?
Лотте потребовались невероятные усилия, чтобы выдавить из себя слова:
– Я н-не п-помню.
Голова раскалывалась от вопросов. Должна ли она перечислить все, чем занимался ее отец? С чего начать? Инспектор махнул рукой на забарахлившее колесико в отлаженном механизме и с непроницаемым лицом продолжил свой опрос. Внезапно Лотту осенило. Она подняла руку:
– Я всп-помнила.
– Ну, – хором произнесли учительница и инспектор, – кем же работает твой отец?
– Сторожем башни у королевы! – выпалила она, не заикаясь.
– Если бы дедушка только знал, что ты попала в коммунистическое гнездо, – развеселилась Анна. – Какая ирония судьбы!
– Моя мать его не поддерживала. «Не думай, – говорила она, – что, придя к власти, рабочие будут вести себя человечнее». Время от времени, когда он надоедал ей постоянным возвеличиванием Маркса и продолжал настаивать на справедливом распределении денег и труда, она раздраженно опускала его с небес на землю: «Это всего лишь красивые слова – тебе бы самому оказаться в шкуре угнетенного».
В кафе, топая сапогами, вошел старичок с заснеженными кустистыми бровями. Его тускло-голубые глаза робко оглядывали посетителей. На пути к стойке он оставил позади себя тропинку из тающего снега. От яблочного ликера щеки Лотты покрылись красными пятнами. У Анны блестели глаза. Немецкий язык сестры, старомодный, вычурный, в котором время от времени проскальзывали давно уже устаревшие словечки на кельнском диалекте, ласкал ее слух.
– А эта франтиха, – спросила она, – которая забрала тебя из Кельна, что это была за женщина?
Лотта уставилась в окно.
– Я как-то останавливалась у нее в Амстердаме. Ее дом напротив рынка «Альберт Кайп». По утрам, пока дедушка брился у парикмахера, мы вместе отправлялись на рынок. Сначала она покупала мясо и овощи. Однако основной ее мишенью был лоток с бусами, пуговицами, бархатом, кружевами и отрезами шелка. Она могла стоять там до бесконечности, мечтательно трогая каждую вещицу. После долгих раздумий она наконец покупала какой-то пустяк, несколько перламутровых пуговиц или что-то в этом роде. Она была очень кокетлива. «Смотри, так я выглядела в молодости», – говорила она, кончиками пальцев разглаживая свою дряблую кожу. Меня это пугало, такой я ее не знала. «Можно мне повидаться с Анной?» – как-то раз спросила я. «Ах, моя крошка, ты не представляешь себе, какие твердолобые и ограниченные люди наши родственники. Мы с ними совсем больше не общаемся. Когда ты подрастешь, то сама навестишь Анну – вам тогда будет глубоко плевать на все это семейство».
Анна засмеялась.
– Когда дедушка еще был жив, над его креслом висела ее фотография – маленькая девочка в белом платьице и соломенной шляпке. Очаровательный ребенок! Этой фотографии уже, наверно, лет сто. Только подумай, Лотта, сто лет! Мир еще никогда так радикально не менялся, как за последние сто лет. Неудивительно, что мы с тобой слегка обескуражены. Давай еще что-нибудь выпьем!
Пласты времени столкнулись, подобно льдинам в океане, и со скрежетом надвинулись один на другой. До войны, после войны, кризис, прошлый век… – в чуть захмелевшей голове Анны проносились самые разные пейзажи, как если бы она ехала в поезде, мчавшемся на всех парах. В какой-то момент ее увлекал вперед паровоз, и за окном проплывали тонкие струйки дыма, а через минуту она оказалась в вагоне современного экспресса с ядовито-зелеными сиденьями из искусственной кожи. На мелькавших мимо станциях выстраивались персонажи из прошлого. Они не махали руками, но, прищурившись и нахмурив брови, провожали взглядом призрачный поезд. Берлинский вокзал был словно в огне, перрон окутан дымом. Где заканчивалось это путешествие? В конце жизни? Это ее не волновало. Они чокнулись и выпили за здоровье Лотты.
– Я спросила ее и о… – начала Лотта.
– Кого спросила?
– Бабушку… тетю Элизабет. Я спросила ее, знала ли она моего отца, когда тот был молодым? Я имела в виду родного отца. «Твой отец, – ответила она, – был приятным, умным молодым человеком, революционером в нашей семье. Мне он очень нравился. Именно поэтому я и приехала на его похороны, именно поэтому ты сейчас здесь, малышка. Да уж, чувствительные натуры умирают первыми, а эти свиньи живут до ста лет – так устроен мир». Бабушка любила крепкие выражения.
– Если бы меня тогда тоже забрала к себе какая – нибудь сказочная фея, – сказала Анна не без горечи, – то мне не пришлось бы хватить лиха.
В качестве сиротского вспомоществования Анне выплачивалось тридцать пять марок в месяц. Это были большие деньги по тем временам, и все же Марта относилась к Анне так, словно та была паразитом, пиявкой, присосавшейся к здоровому телу молодой семьи. Хроническое недовольство, которое она принесла в дом в качестве приданого, вымещалось на Анне – та же, измотанная работой и безучастная ко всему, не в силах была дать отпор. Когда она смотрелась в треснувшее зеркальце для бритья дяди Генриха, Марта язвительно замечала:
– Зачем ты собой любуешься, все равно же умрешь. У твоего отца был туберкулез, у матери – рак. Одним из двух тебя уж точно наградили. Так что не строй из себя принцессу.
Анна, начитавшаяся детских книжек, узнала в Марте настоящую мачеху из сказок. Однако справедливость, всегда торжествующая в подобных историях, в реальности заставила долго себя ждать.
– Зачем тебе новое платье, зачем тебе пить молоко, ты же все равно умрешь.
Теперь, когда все земные потребности были осмеяны и уничтожены в зародыше, в ней снова набирало силу старое желание исчезнуть навсегда. Но как? Естественным путем можно умереть от какой-нибудь болезни. Намеренный же переход из бытия в небытие представлялся ей делом непростым. Смятение привело ее в церковь – время, отнятое у коров и свиней, пришлось наверстывать позже. Анна надеялась, что благодаря своей страстной молитве она каким-то чудом в конце концов окажется на небесах. Но Бог, ее второй недосягаемый отец, не удосужился заглянуть в мрачную часовню Святого Ландолинуса. Вместо него из полумрака явился Алоиз Якобсмайер; он симпатизировал Анне с тех пор, как она задала взбучку римским солдатам. Именно он умолял ее дядю: «Да отправьте же вы ее в гимназию! В деревне не сыщешь лучшего ученика, чем Анна. Мы за все заплатим!» Анна схватила его за сутану и слезно молила о помощи: она хотела покинуть этот мир. Потрясенный подобной просьбой, он прошептал:
– Не делай глупостей! Бог даровал тебе единственную жизнь – это все, что у тебя есть. И он хочет, чтобы ты прожила ее до самого конца. Наберись терпения – когда тебе исполнится двадцать один, ты будешь свободна.
Двадцать один – до этого было так далеко.
– Я не выдержу, – сказала она сердито.
– Выдержишь, – он обхватил ладонями ее голову и легонько покачал из стороны в сторону. – Ты обязана!
Вскоре после этого организм Анны, ослабленный ежедневным изнурительным трудом и скудной пищей, будто сам внял ее мольбам: она простудилась и никак не могла выкарабкаться из болезни. Якобсмайер настаивал, чтобы ее отвели к врачу, но Марта отмахивалась от его советов – такая пустяковая простуда пройдет сама по себе. Тогда ему пришлось прибегнуть к хитрости. После мессы он зашел на ферму. Анна работала в хлеве, когда из-за угла с красным от злости лицом выскочила Марта:
– Здесь патер к тебе.
Якобсмайер сидел на кухне, держа на коленях гукающего малыша. Он выудил из кармана сутаны узкую коричневую бутылочку.
– Так продолжаться больше не может, – обратился он к Анне. – Ты прокашляла всю мессу, я даже собственных слов разобрать не мог.
С ликованием и возмущением одновременно Марта воскликнула:
– Она-то? Да она совершенно не умеет себя вести. Это всем известно.
– Я принес ей лекарство, – невозмутимо продолжал Якобсмайер. – Фрау Бамберг, проследите, пожалуйста, чтобы она регулярно его принимала.
Тетя Марта растерянно кивнула.
– И переоденьте ее, когда увидите, что одежда промокла от пота. Иначе она снова простудится.
– Хорошо, хорошо, – с пренебрежением отозвалась тетя Марта. – Пусть снимает рубашку, вешает на дерево и голышом ждет, пока та высохнет. Местным мужчинам это понравится.
Уязвленный тем, что невольно дал пищу для столь вульгарной фантазии, он строго ее одернул:
– Вы могли бы купить ей несколько запасных рубашек, фрау Бамберг, не так ли?
Он с достоинством поднялся и протянул ей ребенка.
– Хорошенько подумайте: и ваш малыш, и Анна – все они дети Господа. – В дверях он обернулся: – И давайте ей пить неснятое молоко, как можно больше.
– Если ты будешь за это платить, – огрызнулась Марта, когда дверь за ним захлопнулась.
– Ну? – поинтересовался позже Якобсмайер. Прислонившись к колонне среднего нефа, Анна смотрела в пол.
– Тетя Марта отдала мне одну из своих старых рубах. Но молоко пить мне нельзя – оно для продажи.
– Да простит меня Господь, – вздохнул патер. – Анна, когда пропускаешь молоко через сепаратор, время от времени прикладывайся. Но только продолжай крутить барабан, иначе она тут же примчится проверить, что стряслось.
Дядя Генрих отгородился от жены ширмой работы, игры в карты с односельчанами, газет и библиотечных книг, которые Анна тоже почитывала в украденные у свиней минутки. Он не возражал. Однако «На Западном фронте без перемен» читать ей запретил. И вовсе не из-за описываемых в ней ужасов войны, а из-за одной нескромной сцены, которую неискушенная Анна, втихую все-таки проглотившая книгу, даже и не заметила. Злоключения четырех девятнадцатилетних мальчишек в войне 1914–1918 годов упрочили ее предположение о том, что человеческая жизнь не стоит и ломаного гроша. Жизнь солдата походила на свечку перед образом Девы Марии – стоило ей отгореть, как тут же зажигали новую.
Они обсуждали прочитанные книги – по утрам, когда Марта еще нежилась в постели, во время ее дневного сна и по вечерам, когда она снова отправлялась на боковую. И хотя беседы эти были мимолетны и велись на ходу, они сплачивали двух последних представителей семьи, с полуслова понимающих друг друга и противостоящих угрожающей силе чужой женщины. Уже гораздо позже Анна поняла, что Марта наверняка ощущала эту связь и, со своей болезненной подозрительностью, возможно даже, усматривала в ней невысказанную влюбленность. Затаившись, она выжидала благоприятный момент, когда можно будет вбить клин между ними. Бернд Мюллер невольно помог ей в этом.
Анна зашла в мастерскую, чтобы узнать, починил ли он ось телеги. Он возился с жаткой и глаз не поднял; ей пришлось дважды переспросить, перед тем как он пробурчал наконец что-то вразумительное. Нет, руки еще не дошли. На рабочем столе, среди гаек и болтов, лежала раскрытая газета. Падкая на любые печатные издания, Анна с любопытством склонилась над колонками. В помещении снова воцарилась тишина, которую нарушали лишь обычные для мастерской звуки.
– Ты еще здесь? – удивленно спросил Бернд Мюллер. – Что ты делаешь?
– Читаю.
– Что?
Анна указала на первую страницу «Фолькишер беобахтер».
– Это все политика – ничего интересного.
Анна взяла газету и черным ногтем, под которым скопились остатки куриного и свиного помета, ткнула в портрет мужчины с отчаянным, гневным взглядом, который, сжав кулаки, что-то кричал. На заднем фоне виднелся флаг с чем-то похожим на черного паука в белом круге.
– Адольф Гитлер, – сказал Бернд Мюллер, вытирая лицо рукавом.
Анна шмыгнула носом.
– Похоже, ему не терпится подраться.
– Да он и собирается.
Механик отложил в сторону свой разводной ключ и медленно поднялся с корточек.
– За меня, за тебя, за нас всех. Против безработицы и бедности.
Забыв о деле, которым еще несколько минут назад был так поглощен, он сел на стол и стал рассказывать Анне о планах мужчины с фотографии. Наконец-то у всех будет работа, в стране наведут порядок, распространяющийся в том числе и на простых обывателей, которые горбатятся изо дня в день, чтобы заработать себе на тарелку горохового супа. Смотри, здесь про это все есть. Бернд Мюллер излучал оптимизм. На горизонте замаячил человек, готовивший коренные перемены. Он обещает навсегда покончить с нищетой и хаосом в стране. Зараженная его энтузиазмом, Анна почувствовала, что и ее жизнь изменится к лучшему, пусть даже на самую малость. Наконец-то она обретет покровителя, который заступится за нее и избавит от каторжного труда, усталости и голода. Она внимательно рассмотрела фотографию. То, что на первый взгляд вызвало в ней отвращение, сейчас совпало с ее собственными чувствами, скрывающимися под маской рабской покорности, – яростью и возмущением.
В тот вечер заговорщическим тоном Анна обратились к дяде:
– Есть человек, который сумеет побороть бедность..
Дядя Генрих сидел в кресле своего покойного отца, Анна – на диване под картиной погибшего солдата.
– Хорошая новость, – сказал он, иронично поглядывая на нее поверх своей книги, – и откуда же тебе это известно?
– Об этом написано в «Фолькишер беобахтер». Адольф Гитлер сказал…
– Что?! – вскрикнул он. Книга выскользнула у него из рук. – Этот безумец? Ты понятия не имеешь, о ком говоришь. Только глупые, вконец отчаявшиеся люди поддерживают это посмешище. Где ты набралась этой ахинеи?
– У Бернда Мюллера. – ответила она обиженно и в то же время смущенно.
– А, понятно. Это его способ бунтовать. «Фолькишер беобахтер»! Нормальные люди не читают подобных газет! Любой здравомыслящий человек, любой истинный католик голосует за центристов. В энциклике Папы Пия X четко прописано, как, исходя из христианского мировоззрения, бороться с нищетой. Нör mal, Mädchen, [11]11
Послушай-ка, девочка (нем.).
[Закрыть]этот Гитлер со своим бахвальством хочет одного – войны. – Он наклонился, чтобы подобрать с пола книгу, и посмотрел на Анну так, как будто внимательно к чему-то прислушивался. – Запомни: я не хочу, чтобы ты общалась с Берндом Мюллером.
Однако Анна не позволила так легко отобрать у нее зародившуюся надежду. Уже на следующий день она поспешила в мастерскую. В ответ на реакцию ее дяди Бернд Мюллер лишь покачал головой.
– Я расскажу тебе, почему он так говорит, чтобы твои красивые голубые глаза больше не смотрели на меня с таким ужасом. Это невыносимо. – Он улыбнулся. – Эти добродетельные крестьяне и богопослушные католики могут говорить тебе что угодно. Они ничего не смыслят, точно звери, что долго прожили в клетке: когда дверь клетки открывают, они все равно остаются внутри. Если мы будем ждать, пока центристская партия решит наши проблемы, мы все подохнем с голоду.
Его убежденность внушала доверие, необходимое ей для того, чтобы уверовать в возможность перемен; альтернативы не было. А Бернд Мюллер подпитывал эту веру осанной Гитлеру. Анна истово трудилась, чтобы только на минутку успеть забежать в мастерскую и поболтать с ним. Они обсуждали не только политику. Жизненные перипетии, впечатления от прочитанного, ее кашель – в интимной атмосфере старого отсыревшего сарая запретных тем для них не было.
– Хотя тебе только шестнадцать, ты незаурядная девушка, – сказал Бернд.
Он осыпал ее похвалами, называя маленькой мудрой Мадонной с большим сердцем, открытым для всех несчастных и отверженных в этом мире. Будь в Германии больше таких девушек, страна гораздо скорее воспряла бы духом. Тебя ждет большое будущее, заверял он, сжимая ее потрескавшиеся руки с коротко подстриженными и поломанными ногтями в своих запачканных машинным маслом ладонях. Со временем это будущее все явственнее принимало форму дома, который он собирался для нее построить. Деревенский, старомодный дом с остроконечной крышей, ставнями, баварской верандой по всей ширине фасада и массивной дубовой дверью, которую он распахнет, как только ей исполнится восемнадцать, чтобы на руках перенести ее через порог. Анна равнодушно воспринимала эти фантазии. О браке она еще не задумывалась – сама идея казалась ей нелепой. Бернд продолжал расписывать их чудесную будущую жизнь, а она смотрела в пол, усеянный инструментам и железными деталями: по-видимому, то была жертва, приносимая во имя дружбы.
В пору сбора урожая ржи Анне больше недоставало времени на подобные интермеццо. Деревенский парнишка сунул ей записку: «Приходи сегодня в половине девятого на мост за часовней Святой Марии». В тот час уже смеркалось и сладко пахло сеном. Сначала она его не узнала – в коричневой, слишком узкой униформе, с пробором в волосах и торжественным, совсем ему несвойственным выражением лица. Бернд взял ее за руку.
– Твой дом уже строится, Анна! Архитектор из Падерборна завершил проект. Тебе лишь осталось одобрить чертежи!
Анна застыла на месте. Она не понимала, что делает здесь, у часовни, с совершенно чужим человеком, докучавшим ей строительством дома на этой песчаной, ненавистной ей земле. Дому суждено остаться мечтой. Загоревшийся от собственного возбуждения, он обнял ее мускулистыми рабочими руками, испытывая на прочность рукава своей униформы. Она услышала, как треснули швы, и заметила через плечо проходящую мимо соседку с козой на веревке. В смущении она спрятала лицо на его груди; он же воспринял это как проявление нежности и еще крепче стиснул ее в объятиях. Когда он наконец отпустил ее, она стремглав помчалась через мост обратно на ферму, спотыкаясь на каждом шагу, как будто была на волосок от чудовищной опасности.
Соседка не пренебрегла своим гражданским долгом и доложила тете Марте о распутном поведении ее падчерицы. Марта тут же поняла, что именно такого случая она ждала все это время. Скрывая свой триумф под личиной наигранного добродетельного возмущения, она рассказала мужу о свидании, смакуя шокирующие детали, задевшие его за живое. Ни о чем не подозревающая Анна несла свиньям воду. Обернувшись, она увидела на пороге дядю Генриха. Отнюдь не крепкого телосложения, он, казалось, занимал весь дверной проем. Почему у него столь угрожающий вид? Скорчившись от внутреннего напряжения, он приближался. Произошло какое-то недоразумение, почувствовала она инстинктивно, которое во что бы то ни стало следовало разрешить.
– Что бы сказал твой отец. – начал он угрожающе сдержанным тоном. – если бы застал тебя с бабником и подстрекателем? А? Посмела бы ты так поступить, если бы он был еще жив?
Анна обмерла – ей все стало ясно.
– Посмела бы? – повторил он, подкрепляя свой вопрос ударом по лицу. – А?
Когда она, еще не до конца поверив в происходящее потянулась рукой к своей щеке, он хлестнул ее по второй. Она отвернулась, пытаясь уклониться от его рук, но это лишь спровоцировало новый прилив ярости. Посыпался град кулачных ударов. Когда она упала на землю, он приподнял ее за волосы и ударил в живот. Неистовство, с которым он вымещал на ней свой гнев, было сильнее его самого и сильнее повода, его вызвавшего. В нем выражалась не только вся скопившаяся обида Генриха на окружающий мир, но и его духовное родство с Анной, их несчастные судьбы, возможно, даже его беспомощность перед молодой девушкой, которой стала Анна, пока сама того не сознавая. Обо всех этих непостижимых, неясных причинах Анна не ведала ни сном ни духом, для нее существовали лишь тумаки и сопровождавшие их крики. Дядя Генрих кричал так, словно страдал от побоев во сто крат больше Анны. Перед ней мелькали то стойло, то рыла поросят, с удивлением наблюдавших за происходящим. Она уже потеряла счет времени, когда вдруг заметила на пороге силуэт тети Марты, пришедшей насладиться сценой наказания. Ее появление отрезвило дядю Генриха. Он резко остановился и в изумлении посмотрел на Анну остекленевшим взглядом. Не удостоив жену вниманием, он оттолкнул ее в сторону и вышел на улицу.
Анна с трудом поднялась – тело пронзила жгучая боль. Фигура Марты черным пятном вырисовывалась на фоне дверного проема.
– Что подумают соседи? – проворчала она. – Ты орала на всю округу.
– Я орала? – простонала Анна.
Кто кричал при каждом ударе? Не она, она не издала ни звука, крепко стиснув зубы. Нужно расставить все по своим местам в этой неразберихе. Собрав последние силы, она подползла к теге и дотянулась пальцами с поломанными ногтями до ее мягких обнаженных рук. Женщина, казавшаяся такой большой и сильной, в страхе скрестила их на груди; глубоко посаженные глаза над широкими скулами еще глубже погрузились в глазные впадины. Она попятилась из стойла. Анна попробовала ее догнать, но упала, раскинув руки, лицом в траву.
Больше насилия не было – только полный покой. Чувствуя свою вину, дядя Генрих приносил ей еду и питье, оставляя поднос на полу возле кровати; словно дикий загнанный зверь, она прикасалась к еде, лишь когда он выходил из комнаты. Первые дни из-за невыносимой боли в спине она лежала на животе; затем ей наскучила однообразная картина прожилок и сучков на половицах, и она повернулась к стене – теперь ее мучила колющая боль в животе. День ото дня Анне становилось все хуже. При каждом новом приступе она тихонько плакала, через дымовое отверстие ее всхлипы проникали на кухню. Не выдержав, дядя Генрих поднялся наверх, чтобы узнать, как положить конец ее страданиям. Хриплым голосом она пожаловалась на острую боль внизу живота. Он перепугался – половые органы считались святыми: и сказал Господь – идите и размножайтесь. То, что они сочли излишней предосторожностью в случае с кашлем, решили сделать сейчас: ее записали на прием к врачу. Она пообещала тете молчать о происхождении синяков и ушибов. Анне предстояла новая пытка. Согласно закону, на осмотр она должна была явиться в сопровождении взрослой женщины. Лежа на искалеченной спине, под пронзительным взглядом тети Марты, Анна почувствовала, как холодный скользкий палец доктора проникает в область, о существовании которой до сих пор она даже не подозревала. Нечеловеческая боль будто разорвала ее изнутри.
– Да, это неприятно, – прозвучал голос ее благодетеля.
Неприятно?! Его самого когда-нибудь разрезали пополам? Глупые слезы невольно потекли по ее щекам – она вовсе не хотела доставлять удовольствие тете своей слабостью.
– Ну, ну, – сказал врач. – Не стоит делать из этого трагедию. Я лишь пытаюсь вернуть на место твою перекрученную матку.
Боль прошла. Тетя Марта стала вести себя еще более деспотично, чем раньше, как если бы она присутствовала на ритуале посвящения, предоставившем ей особые полномочия по отношению к Анне. Во время мессы за широкой прямой спиной своей тети она сунула в руку бывшей одноклассницы скомканную записку с коротким, но настойчивым воззванием: «Помогите! Анна». Под звуки грегорианского песнопения ее взгляд непроизвольно упал на барельеф, изображающий бичевание Христа. У нее перехватило дыхание. Она тут же перевела взгляд на расписанный сводчатый потолок, под которым поющие голоса сливались с эхом возносимых молитв. Патер, довольно быстро получивший записку, окликнул ее при выходе из церкви. Закатав рукава своего воскресного платья, Анна пояснила:
– Моя спина выглядит так же, как руки.
И хотя Якобсмайер, ввиду своего положения, на словах мирился с насилием в Библии и поддерживал христианскую идею о том, что страдание – кратчайший путь к Богу, он совершенно растерялся, когда столкнулся с этим в реальности. Священник снял очки, снова нацепил их и опять снял, после чего дрожащей рукой погладил Анну по голове.
6
– Non… Je ne regrette rien… [12]12
Нет, мне жалеть не о чем… (фр.).
[Закрыть]
– Xa! – крикнула Анна, грубо выдернув из мечтаний старичка с водянистыми глазами; под его табуреткой образовалась лужица из растаявшего снега. – Xa! Je ne regrette rien… Королева любви ни о чем не жалеет. Стоя одной ногой в могиле, она завела себе молодого любовника, соловья, оказавшегося вороной…
Анна издевательски усмехнулась.
– Воробушек, которого вытащили из канавы… Вот и я была таким же воробушком – а теперь я старая женщина, терзающаяся воспоминаниями. И эта старая женщина закажет себе еще рюмочку.
Она щелкнула пальцами в сторону бара.
– Да, – согласилась Лотта, пытаясь погасить эмоциональный всплеск Анны, – чем старше мы становимся, тем больше нас затягивает далекое прошлое. События же, случившиеся вчера, мы попросту забываем.
Анна вскинула брови, удивляясь столь клишированному замечанию сестры. Дабы направить разговор в безопасное русло, Лотта частенько и довольно успешно прибегала к этому маневру – сетованию на старость. Перед сестрами поставили полные рюмки, владелица кафе улыбалась. А что, если она, подобно многим бельгийцам, сотрудничала с врагом во время войны? Ей тяжело было представить себе упитанную и бойкую Анну, сидевшую сейчас напротив нее, в качестве болезненной, избитой шестнадцатилетней девушки в воскресном платьице, угнетаемой карикатурной мачехой (уж больно много отрицательных черт ей приписывалось). Не преувеличивала ли Анна? Может, время исказило ее воспоминания? Лотте вдруг стало стыдно за свой хронический скепсис. Варвары – говорила ее мать. Вот теперь она поняла почему. Варвары в самой крайней форме. Их злобное, жестокое поведение Лотта расценивала как болезнь, что позволяло ей отгородиться от этого и не принимать близко к сердцу. А Марту она вообще считала буйно помешанной – неудивительно, что под ее влиянием дядя Генрих постепенно лишился рассудка.
– Эта твоя тетя – патологический случай, – сказала Лотта, сделав добрый глоток.
Анна сухо засмеялась.
– Да нет. Она просто никудышный человек. Есть такие люди. С точки зрения христианской морали они плохие, а с точки зрения психиатрии – больные. Но разве это имеет значение, если ты попадаешься им под руку? Ладно, давай поговорим о чем-нибудь более приятном. О тебе, например.
Лотта уловила намек: по сравнению с Анной ее детство казалось волшебной сказкой. Из них двоих именно Анна имела право на сочувствие. Обманчивая отстраненность и ирония, с которыми она повествовала о своем прошлом, на самом деле скрывали под собой призыв к состраданию. Состраданию, которым до сих пор она была обделена и которого теперь ожидала – нет, требовала – от своей сестры.








