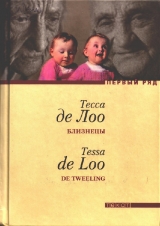
Текст книги "Близнецы"
Автор книги: Тесса де Лоо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 24 страниц)
Тесса де Лоо
Близнецы
Посвящается моей матери и Марии Хессе.
Часть I. Между войнами
1
– Meine Güte, [2]2
Боже мой (нем., разг.). (Здесь и далее примечания переводника.)
[Закрыть]здесь что, морг?
Лотта Гудриан очнулась от сладкой полудремы словно после легкого наркоза: приятно не чувствовать своего состарившегося тела. Сквозь веер ресниц она следила за грузной фигурой в одном только девственно-голубом халате, с грохотом захлопнувшей за собой дверь. Переступив порог тускло освещенной комнаты отдыха, женщина с явной неохотой проковыляла между двумя рядами кроватей. Все они были пусты, за исключением той, на которой лежала Лотта – воплощенная история болезни, к тому же затянувшаяся, под безупречно чистыми простынями. Она инстинктивно вжалась глубже в матрас. Свое неуместное замечание женщина отчеканила по-немецки. По-немецки! Что делает немка в таком месте, как Спа, где на каждой площади, в каждом сквере воздвигнут памятник жертвам двух мировых войн? А ведь ее собственная страна буквально кишит курортами. Почему она приехала именно в Спа? Лотта закрыла глаза и попробовала выбросить женщину из головы, заставив себя слушать воркование голубей на крыше термального комплекса, невидимых за белыми ниспадающими до пола шторами из гофрированного шелка. Однако любое движение немки порождало звуковую провокацию: вот она с шумом откинула одеяло, остановившись у постели прямо напротив Лотты, распласталась на кровати, в голос зевнула и глубоко вздохнула. Даже когда она угомонилась и, казалось, предалась предписанному ей покою, тишина в присутствии этой женщины резала слух. Лотта сглотнула. Возникшее в животе напряжение подступило к горлу – приступ тошноты, такой же, как накануне, когда она принимала грязевую ванну.
Пока ее закостеневшие суставы отогревались в кисловатой грязевой кашице, из-за приоткрытой двери до нее донеслась старая детская песенка в исполнении неуверенного женского сопрано. Последний раз она слышала ее семьдесят лет назад, и теперь Лотту охватила смутная тревога. В таком состоянии пожилой пациентке следует быть начеку в сорокаградусной грязевой ванне. Так можно и инфаркт заработать. Ей вдруг стало невыносимо в этом теплом коричневом месиве. Покрытая слоем жидкого шоколада, скрадывающего все кожные изъяны, она через силу поднялась. Я похожа на погребенный труп, подумала она. Представив себе, что ее нелепый вид способен повергнуть в панику женщину, которая вот-вот придет ополоснуть Лотту холодной водой, она медленно опустилась на колени и, схватившись обеими руками за края металлической ванны, снова погрузилась в жидкую грязь. В тот же самый момент песенка оборвалась – так же внезапно, как и началась. Точно это была лишь вспышка утраченного, призрачного воспоминания.
Немки хватило ненадолго. Спустя несколько минут она уже шаркала по стертому паркету к столику, на котором возле башни из пластиковых стаканчиков стояли две бутылки минеральной воды. Сама того не желая, Лотта внимательно наблюдала за ее передвижениями, словно не хотела терять бдительность.
– Excusez-moi,madame… [3]3
Простите, мадам (фр.).
[Закрыть]– вдруг на школярском французском, с трудом подбирая слова, обратилась к Лотте женщина. – C'est permis… нам разрешено пить эту воду?
Последовавшие за этим события вряд ли произошли бы, ответь Лотта по-французски. Однако в порыве беспечности она сказала:
– Ja, das Wasser können Sie trinken. [4]4
Да, эту воду можно пить (нем.).
[Закрыть]
– Да что вы! – Забыв про воду, женщина уже держала курс к Лоттиной постели. – Так вы немка? – радостно воскликнула она.
– Нет, да, нет… – пролепетала Лотта. Но она уже заронила искру в пороховую бочку. Женщина приближалась. Все в ней было широко, округло, основательно – престарелая валькирия, не желающая отступать. Она притормозила у изножья кровати, бросая на нее длинную косую тень, и уставилась на Лотту.
– Разрешите полюбопытствовать, откуда вы родом?
Лотта пожалела о своей импульсивности.
– Из Голландии.
– Но ваш немецкий безупречен! – настаивала женщина, разводя полными руками.
– Ну вообще-то я родилась в Кельне, – объяснила Лотта таким тоном, как если бы у нее вырвали признание.
– В Кельне?! Так ведь я тоже оттуда!
Кельн, Koln. Пока название города отзывалось эхом в помещении, чьи стены привыкли к абсолютной тишине, Лотте на секунду подумалось, что Кельн – обреченный город, который за высокомерие своих жителей понес наказание тотальным уничтожением.
Открылась дверь. В комнату прошаркал мужчина средних лет и бесшумно скользнул под простыни первой попавшейся кровати. В сумерках едва светилась его посмертная маска. Все вновь вернулось в обычную колею. Вот только немка вела себя неподобающе.
– Жду вас в вестибюле. – наклонившись к Лотте, прошептала она.
Совершенно сбитая с толку, Лотта осталась лежать в комнате. «Жду вас в вестибюле»! – прозвучало как приказ, подумала она с раздражением и решила проигнорировать приглашение. Но чем дольше она лежала, тем неспокойнее становилось на душе. Настырная немка добилась-таки своего, лишив ее отдыха, за который, между прочим, заплачены немалые деньги. Улизнуть от нее казалось совершенно невозможным: одна-единственная дверь вела как раз в вестибюль.
В конце концов она резко вскочила с кровати, сунула ноги в тапочки, затянула поясок халата и направилась к выходу с твердым намерением отделаться от немки. Выйдя в залитый светом вестибюль, она будто очутилась в храме богини здоровья. Пол, выложенный по диагонали крупными плитками белого мрамора, и атриум с видом на галерею второго этажа создавали иллюзию простора. Впечатление усиливала потолочная роспись с изображением Венеры в морской раковине и пухлых купидонов. Фонтаны из мрамора с серо-коричневыми прожилками по обеим сторонам вестибюля были окружены мощными греческими колоннами. Из позолоченной женской головы, словно высунутый язык, торчал блестящий кран, откуда тонкой струйкой лилась вода. Один фонтан, слегка поржавевший от воды с высоким содержанием железа (в лучшие времена сюда в надежде излечиться от анемии приезжали богатые европейские аристократы) брал свое начало в «Королевском» источнике, а другой – в источнике «Марии-Генриетты», бархатная вода которого очищала организм от токсинов.
В этой обители вечной молодости престарелая немка восседала на античном стуле. Она поджидала Лотту, листая журнал и попивая из стакана целебную воду. Лотта же, робко просеменив к ней, высказала заготовленную отговорку:
– Entschuldigung bitte, [5]5
Простите, пожалуйста (нем.).
[Закрыть]у меня нет времени. Опираясь на подлокотники стула, вырезанного из дерева в строгом стиле ампир, немка поднялась с выражением боли на лице.
– Послушайте, послушайте, – сказала она, – вы ведь родом из Кельна, так? Тогда я хотела бы вас спросить, на какой улице вы жили.
Лотта прислонилась к одной из колонн, рубчики ткани банного халата впивались в спину.
– Я не помню, мне было шесть, когда меня увезли в Голландию.
– Шесть, – возбужденно повторила немка, – шесть лет!
– Я помню лишь, – в нерешительности продолжала Лотта, – что наша квартира находилась в казино… или в бывшем казино.
– Не может быть! Не может быть! – у немки даже голос сорвался, кончиками пальцев она сжала виски. – Невероятно!
В этом священном месте ее крик раздавался бесцеремонным крещендо; он отражался от мраморного пола и взмывал вверх, нарушая мирное уединение потолочных персонажей. Немка взирала на Лотту широко открытыми глазами. С ужасом? С радостью? Или же окончательно обезумев? Раскинув руки, она подошла к ней и обняла.
– Лотточка, – простонала она, – ты что, не понимаешь? Не понимаешь?
У Лотты, зажатой между колонной и телом немки, кружилась голова. Она хотела вырваться из этой нелепой близости, провалиться сквозь землю, исчезнуть. Но в ней боролись два начала: ее происхождение и присущая ей избирательная память, которые, подобно давним врагам, заключили между собой вынужденный союз.
– Дорогая моя, – шепнула немка ей на ухо, – это ведь я, Анна!
Волшебный фонарь начала двадцатого века дает волю воображению. Пустоту между кадрами диафильма зрители должны заполнить сами. На экране эркер второго этажа в югендстиле. На оконном стекле два расплющенных носа, две пары глаз с опаской наблюдают за прохожими. Сверху все женщины похожи друг на друга: в шляпах поверх стянутых в пучок волос, в приталенных пальто с крошечными пуговицами и ботинках на шнуровке. Но лишь у одной из них блестящий алюминиевый ящичек. Каждый вечер она закрывает за собой двойные двери магазина «Надежда» и пересекает улицу, держа под мышкой ящичек, в котором собрана дневная выручка. Стоит ей переступить порог дома, как девочки тут же забывают про ящичек и начинают кружить у ног матери. Она расстегивает миллион пуговиц и только потом сажает дочек на колени. Изредка, в вице большого исключения, она берет их с собой в магазин, по названию которого нетрудно догадаться, что речь идет о социалистическом кооперативе. Мать, красующаяся за высокой коричневой кассой, словно царица на троне, угощает их зефиром в шоколаде. Она заправляет здесь всеми финансовыми делами. С тех пор как она стала хозяйничать за кассой, оборот магазина удвоился. Она – умный, старательный и надежный работник. Однако никто не знает, что она тяжело больна. Болезнь разъедает ее изнутри, но никак не отражается на внешности этой дородной вестфальской блондинки.
В проектор закладывается новый диапозитив – осторожно, пожалуйста, ничего не перепутайте. На экране комната, куда девочки входят только в сопровождении отца. Здесь вечные сумерки, пропитанные горько-сладким запахом. На дубовой кровати под мрачной гравюрой с изображением черных скал и чахлых елей лежит их мать – незнакомка с ввалившимися щеками и синяками под глазами. Они пятятся назад от исполненной отчаяния, вымученной улыбки, которая появляется на ее лице при их приближении. Отец, всякий раз легонько подталкивающий их к постели больной, однажды и сам укладывается на импровизированной кровати в гостиной. Он велит им вести себя тише воды ниже травы, потому что недомогает и жаждет покоя. Они понуро сидят на диване перед окном, смотрят вниз и – игнорируя женщину под скалистым пейзажем – ждут, когда же появится блестящий ящичек и разрядит тяжелую атмосферу. На улице постепенно темнеет. Они не имеют представления о времени: его течение измеряется ожиданием ящичка. Затем раздается робкий звонок в дверь. Они мчатся в прихожую. Анна, движимая врожденным инстинктом первенствовать, встает на носочки и открывает задвижку.
– Тетя Кейте, тетя Кейте, вы нас заберете? – бросается к ней Анна.
– Вы нас заберете? – отзывается эхом Лотта.
При виде следующего кадра зрители, скорее всего, прослезятся. На диване стоит продолговатый ящик, на котором спиной к толпе незнакомых родственников, заполонивших комнату, сидят Анна и Лотта. Благодаря ящику, они достают ногами до подоконника. Они обнаружили, что можно заглушить жалобные причитания взрослых, если тарабанить по окну подошвами тесных лаковых туфель, которые напялила на них тетя Кейте. Они выбивают прочь эту необъяснимую задержку в их жизни и одновременно пытаются сделать так, чтобы все снова стало, как прежде. Поначалу присутствующие в комнате выказывают терпение – в конце концов, правил поведения для трехлетних детей, потерявших мать, просто нет. Но стук продолжается, а девочки остаются глухи к дружелюбным замечаниям взрослых. Тогда терпимость сменяется раздражением. Этот перестук напоминает примитивную дробь тамтамов, под которую, как пишут в иллюстрированных журналах, провожают в последний путь своих соплеменников дикари в Африке. В такой момент уж можно проявить хоть толику христианского благочестия. Их просят слезть с ящика, но они упорно сопротивляются, отмахиваясь от рук, которые пытаются их оттуда стащить. И только когда из похоронного бюро приходят носильщики в зловещих форменных одеяниях, они позволяют тете Кейте снять их с ящика. В дальнейшем они ведут себя образцово, за исключением одного маленького инцидента. В длинной процессии, тянущейся за катафалком под неуместно жарким весенним солнцем, тетя Кейте едва успевает помешать им стянуть с себя черные шерстяные пальтишки, которые специально для этого дня сшила им прикованная к постели мать.
По-видимому, она недооценила стойкость своего организма и просчиталась с временем года.
Главный участник события лежит в больнице. Каждый вечер, в половине седьмого, тетя Кейте с детьми появляется напротив одного из боковых фасадов с бесчисленными окнами. В одном из них виднеется лицо, черты которого убеждают Анну и Лотту, что отец не исчез в никуда так же предательски, как их мать. Они машут ему, а он машет им в ответ большой белой рукой – он водит ей перед лицом туда – сюда, словно желая стереть свое изображение в стекле. Успокоенные, они отправляются спать. В один прекрасный день, совершенно изможденный, он возвращается домой. Когда они залезают на него, чтобы обнять, он со стыдливой печальной улыбкой ставит их обратно на пол.
– Я не могу вас целовать, – говорит он, – иначе вы тоже заболеете.
Кадры в проекторе принимают более радостный характер. Отец возобновляет свою деятельность в качестве управляющего социалистическим институтом, организованным в здании бывшего казино, для рабочих, которые желают избавиться от своего невежества. Надпись над входом в библиотеку гласит: «Знание – сила». Двери в их квартиру на втором этаже всегда распахнуты настежь. Как и детям консьержки, Анне и Лотте выпало счастье расти в этом дворце пролетарской культуры. Вместе они играют в салки в широких мраморных коридорах, прячутся за неохватными колоннами и кулисами сцены, прыгают в огромном круглом фойе, где детские крики поднимаются высоко к витражу, а проникающее через него солнце заливает их карминным и бирюзовым светом. Лотта открыла для себя тайны акустики; она стоит под самой высокой точкой сводчатого потолка и с откинутой назад головой поет песенку о кельнском трамвае. Неугомонная Анна, подстрекаемая соседским мальчиком, прыгает на бидермайерском диване с шелковой обивкой, как на трамплине, пока пружины не начинают пищать, а голова кружиться; Анна падает, ударяясь ртом о спинку из красного дерева. Диван стоит в помещении, демонстрирующем светскую роскошь конца века. Над богато орнаментированным буфетом с медными кранами, под облезлым позолоченным потолком висят хрустальные люстры; стены украшены десятками потускневших от времени зеркал, в которых до сих пор отражается азартный дух старой финансовой элиты и ее паразитов – а также пунцовая девочка с окровавленной губой. Отец строго-настрого запретил входить в эту комнату. С виноватым видом Анна вбегает в его кабинет.
– Что случилось? – спрашивает он, указывая на пораненную верхнюю губу.
Анна вмиг сочиняет байку. Она живописует совершенно иную ситуацию – проще и потому правдоподобнее. Играя в саду, признается Анна, опустив глаза, она наскочила на деревянный столик. Остановив кровь, отец ведет Анну в сад.
– Так, – говорит он, – а теперь покажи, как это произошло.
Анна мгновенно осознает, как коварно обманула саму себя: стол такой высокий, что девочке ее роста нужно упасть с неба на землю, чтобы верхней губой задеть о край стола.
– Понятно, – говорит отец подозрительно мелодичным тоном. Между большим и указательным пальцем он зажимает кусочек кожи на ее голой руке, причиняя ей резкую боль. Это единственное наказание, которое останется в ее памяти на долгие годы – наказание, на всю оставшуюся жизнь определившее ее выбор в пользу правды.
Однако темперамент Анны не так-то просто обуздать. Вскоре после этого она ломает руку на мраморной лестнице фойе и плачет навзрыд, словно истеричная графиня, проигравшая все свое состояние. К ней присоединяется и Лотта, симбиотически ощущающая страх и боль за сестру. Руку заковывают в гипс и подвешивают. Когда Анна в таком виде выходит из больницы, Лотта вновь заливается слезами. Никто не знает, почему она плачет, – из солидарности или из зависти? Лишь после того, как ее левую руку заматывают импровизированной повязкой и подвешивают на кухонном полотенце, она успокаивается.
А теперь рождественский кадр. С тех пор как тетя Кейте взяла на себя заботу о девочках, она больше не отходит от них ни на шаг. Когда их неизлечимо больного отца выписывают из больницы, он втихомолку на ней женится, чтобы не расстаться с дочерьми: носитель заразной болезни, подвластной лишь времени, не имеет права воспитывать детей. Анна и Лотта воспринимают их брак как нечто само собой разумеющееся. Тетя Кейте стала частью их жизни. Вот она приносит в комнату елку, ветки которой прогибаются под тяжестью игрушечных ведьм, дедов-морозов, трубочистов, снеговиков, гномов и ангелов. Этот крошечный кусочек природы, которая начинается там, где кончается Кельн, дразнит их ароматом хвои с примесью смолы. Генрих, младший брат отца, тощий семнадцатилетний паренек, специально приехал из деревни на краю Тевтобурского леса, чтобы вместе отметить Рождество. Он тоже привез с собой запахи природы: волглого сена и навоза. Однако образ молодого, компанейского дяди разбивается вдребезги, когда во время исполнения рождественских песен он из вредности начинает искажать текст. Хихикая, к нему присоединяется отец, и вот они уже состязаются в изобретении бессмысленных рифм.
– Не надо, не надо! – кричит Анна, с досадой барабаня по отцовской груди. – В песне поется совсем не так!
Но мужчины лишь смеются над ее благочестием и превосходят самих себя в изобретательности. После тщетной попытки дрожащим голосом пропеть оригинальный текст песни, отчаявшаяся Анна мчится на кухню, где тетя Кейте нарезает хлеб.
– Папа и дядя Генри портят рождественскую песенку! – жалуется она.
Точно Немезида, тетя Кейте вплывает в комнату.
– Что вы сделали с ребенком?!
Анну берут на руки, утешают, дают платок, приносят стакан воды.
– Мы просто шутили, – успокаивает ее отец. – Тысяча девятьсот двадцать один год назад родился Христос. Разве это не повод для веселья?
Он сажает Анну на колени и поправляет на ее головке огромный бант, который в этой суматохе совсем сполз набок.
– Я спою тебе настоящую песню, – говорит он. – Слушай.
Сиплым голосом, время от времени заходясь кашлем, он затягивает грустную песенку о двух французских гренадерах, взятых в русский плен.
Волшебный фонарь проецирует сцену, декорированную чащей высоченных деревьев. Театральный режиссер ищет актрису не больше метра ростом.
– Послушайте, господин Бамберг, – говорит он, – мне нужна девочка на роль несчастного ребенка, заблудившегося в лесу. Я подумал о ваших дочерях.
– Какая из них у вас на примете?
– Та, что постарше.
– Да они одного возраста.
– Близнецы, значит. Занятно.
– Так кого именно вы имели в виду? – повторяет отец.
– Гм… темненькую. Для роли изголодавшегося ребенка светленькая выглядит слишком уж пухлой.
– Зато она на удивление хорошо запоминает тексты, – говорит отец, гордо поглаживая усы. Следуя лозунгу над дверью в библиотеку, все свободные вечера он посвящает классической литературе и поэзии. Однажды в качестве эксперимента он попросил Анну выучить стихотворение.
– У нашей Анны память, как у попугая. Она может продекламировать наизусть «Песнь о колоколе» Шиллера, не пропустив при этом ни единой строчки.
– Хорошо, – сдается режиссер. – Вы отец, вам, безусловно, виднее.
– Мне это не нравится, – возражает тетя Кейте, – она еще слишком мала для выступлений на сцене.
Однако ее доводы бессильны перед честолюбием отца. Вот она уже сидит в первом ряду вместе с Лоттой, отцом и семью своими сестрами и, вся сияя от удовольствия, ждет начала спектакля. За кулисами Анну облачают в серое побитое молью зимнее пальто, а полуразвязанный белый бант прикрепляют сзади на поясе. Не подозревая о том, что это генеральная репетиция ее реальной жизни, что ей предстоит исполнять эту роль без зрителей и аплодисментов в течение десяти лет, Анна выводит на подмостки свою героиню. При виде этого жалкого существа на глаза ее двоюродных теть наворачиваются слезы. После того как двое мужчин в охотничьих костюмах вывозят ее из воображаемого леса, она выглядывает из-за кулис и с любопытством смотрит в зал. Публика ее не интересует – какое-то сборище голов. В полумраке она видит лишь одно лицо, обращенное к сцене, – лицо самого юного человечка в зале, крохотного и неприметного среди всех этих взрослых. Охваченная ощущением необъяснимой тревоги, она не отрывает от нее взгляда. Благодаря пьесе и своей роли в ней Анна впервые понимает, что они с Лоттой две личности, существующие независимо друг от друга, – одна на сцене, а другая в зале. Осознание разобщенности, нежеланной раздвоенности терзает ее столь сильно, что прямо посреди эпизода воссоединения возлюбленных она выскакивает на сцену – убогое пальтишко распахнуто, а пояс с бантом волочится по полу. Младшая сестра тети Кейте взволнованно восклицает:
– Ах, смотрите, наша малышка!
Зал взрывается смехом и аплодирует этой неожиданной находке режиссера. Анна невозмутимо спрыгивает со сцены и направляется прямиком к Лотте. Она втискивается рядом с сестрой в одно кресло и только тогда успокаивается.
Словно лунный луч, фонарь высвечивает кровать с голубыми одеялами, под которыми засыпают Анна и Лотта. Они похожи на двух спаривающихся осьминогов, обвивших щупальца вокруг тел друг друга. Ночь осторожно расплетает этот узел, так что утром каждая из них просыпается на своей половине постели спиной к спине.
Вездесущий волшебный фонарь перемещается в классную комнату. Мы уже слышим, как по бумаге скрипят перья. Буйный темперамент Анны не располагает к чистописанию. В то время как алфавит покоряется твердой руке Лотты, Анну буквы не желают слушаться. После уроков она садится рядом с отцом в его конторе и царапает буквы на грифельной доске. Со словами «плохо, перепиши заново» отец упрямо их стирает, пока в конце концов они не удовлетворяют его требованиям. Время от времени он прерывается и сплевывает в синюю бутылочку, которую затем плотно закрывает, чтобы не выпустить злых духов. В качестве поощрения за труды он разрешает Анне помочь ему подсчитать выручку. Проворными пальцами она раскладывает обесценившиеся в результате инфляции банкноты в стопки по десять штук – сальдо исчисляется миллиардами – до тех пор, пока кончики пальцев не начинает жечь.
Каждое утро в понедельник, перед началом занятий, учительница сверлит детей взглядом и обвинительным тоном спрашивает:
– Кто из вас не ходил вчера в церковь?
В ответ молчание, все замирают. Тогда Анна поднимает руку и говорит:
– Я.
Тут же раздается высокий звонкий голос Лотты:
– И я.
– Значит, вы дети дьявола, – заключает учительница.
Одноклассники взглядами отлучают их от церкви.
– Но вы еще слишком малы, – протестует отец, когда они рассказывают ему, что обязаны посещать воскресную мессу. – Вы же ничего не поймете.
Они ни разу не видели, чтобы он или тетя Кейте ходили в церковь. Каждое воскресенье они умоляют его, потому что им невыносим уничижительный взгляд учительницы и издевки одноклассников. И вот однажды он ставит на стол свою миску со взбитыми яйцами, обнимает дочерей за плечи и говорит:
– Завтра я пойду с вами в школу.
Однако когда на следующее утро они, держась за руки, направляются в школу, кажется, что отец сам нуждается в их защите – таким болезненным и хрупким выглядит он в своем черном пальто, болтающемся мешком на исхудавшем теле. Опираясь на палку, через каждые десять шагов он останавливается, чтобы перевести дух. Стук палки по булыжной мостовой эхом отзывается в воздухе. Они входят в здание школы; отец жестом велит девочкам ждать в коридоре, а сам стучит в дверь классной комнаты. Совершенно ошарашенная этим неожиданным интермеццо, учительница с напускной вежливостью впускает его в класс. Облокотившись о стену и прижавшись друг к дружке, Анна и Лотта прислушиваются, не отрывая глаз от двери. Внезапно хриплый голос отца заглушает слова учительницы, которая вертится как уж на сковородке, стараясь не потерять самообладание.
– Как вы смеете! Говорить такое детям, которые не могут вам ответить!
Анна и Лотта оторопело смотрят друг на друга. Затем выпрямляют спины – им больше не надо опираться на стену. У них словно вырастают крылья. Гордость, триумф, самоуверенность. И все – благодаря отцу.
Дверь распахивается.
– Входите, – говорит он, подавляя кашель.
Анна первой переступает порог классной комнаты, за ней вплотную следует Лотта. Они проходят мимо доски. Как ни странно, учительница еще жива, но дух ее, похоже, сломлен. С поникшей головой и опущенными плечами она сжимает в руках указку. Притихшие на скамейках ученики с благоговением взирают на их отца – безоговорочного победителя.
– Так, – отец легонько подталкивает Анну и Лотту к учительнице. – А теперь в присутствии всего класса вы попросите прощения у моих дочерей.
Учительница косо смотрит на них и тут же отводит взгляд, как от чего-то непристойного.
– Простите меня за мои слова. Этого больше не повторится, – бубнит она.
В классе гробовая тишина. Что дальше? Что можно добавить к этим безропотным извинениям?
– А сейчас я заберу их домой, – доносится голос отца. – До завтра. И если я снова услышу что-нибудь подобное, можете не сомневаться – я вернусь.
К счастью, учительница сдерживает свое вынужденное обещание, потому что отец больше не в состоянии привести угрозу в исполнение. Позиционная война, бушующая в больных легких, совсем его подкосила.
Новый диапозитив: растянувшись на диване, словно поэт эпохи романтизма, он, задыхаясь, разбирается со своими бумагами. В перерывах он принимает друзей, скрывающих свою озабоченность за оживленной болтовней. А многообещающие дочки в клетчатых платьицах с накрахмаленными воротничками развлекают гостей стихами и песнями. То, что во время пения Лотта трижды заходится сухим кашлем, ни у кого не вызывает тревоги, за исключением тети Кейте. Печальный опыт сделал ее мнительной, и она отводит Лотту к врачу. Несколько минут он постукивает по ее худенькой груди, прикасаясь стетоскопом к бледной коже. Он просит ее покашлять, и она без труда исполняет его просьбу, как после долгой репетиции.
– Есть повод для беспокойства, – бормочет он за ее спиной, – я слышу едва уловимый шум в правом легком.
Лотта стоит возле пластмассового манекена и с легкой дрожью в руках ощупывает его розовое сердце. Врач дает ей бутылочку сиропа от кашля, записывает на рентген и отпускает.
На запыленном, пожелтевшем диафильме не только последние дни жизни отца, но и закат всей семьи в привычном составе. От казино исходит такая же энергетика, как во времена азартных игр: все или ничего, жизнь или смерть. Это было здание, куда люди входили с надеждой и которое покидали с отчаянием – алхимический трюк, секретный рецепт которого сохранился в четырех стенах священного для многих места. Длинным тонким указательным пальцем он, сидя на краю дивана и тяжело дыша, подзывает к себе дочерей.
– Послушайте, – говорит он медленно, словно у него опух язык, – как вы думаете, сколько мне осталось жить?
Анна и Лотта хмурятся – срок исчисляется астрономическими числами.
– Двадцать лет! – пытает счастье Анна.
– Тридцать! – надбавляет Лотта.
– Вы так считаете? – говорит он кротко. Отец смотрит на них с открытым ртом и лихорадочным блеском в глазах, как будто хочет еще что-то сказать. Но тут его одолевает приступ кашля, и трясущейся рукой он прогоняет их из комнаты.
Несколько дней спустя, когда они приходят из школы, тетя Кейте ведет их в спальню. В доме пахнет красной капустой с яблоками и корицей. Этот сладко – пряный аромат неприятно диссонирует с компанией, окружившей кровать отца. Дядя Генрих, скрестив руки на груди, смотрит с крестьянским недоверием на своего спящего брата. Происходит что-то особенное, почему собралось так много людей? Тетя Кейте подталкивает Анну и Лотту к кровати.
– Иоганн, – говорит она отцу прямо в ухо, – дети пришли.
Он отыскивает своих дочерей взглядом, в котором затаилась усмешка: про себя он тихо потешается над этим несуразным спектаклем вокруг его постели. Вот сейчас он встанет, думает Лотта, и отправит всех по домам. Но его настроение резко меняется. Глаза судорожно мечутся от одного к другому, он приподнимает голову и как будто собирается сказать им нечто такое, что не терпит отлагательств.
– Аннелиз… – произносит он и тут же снова падает на подушки. На ввалившихся щеках Темная щетина.
– Почему он назвал нас Аннелиз? – обиженно спрашивает Анна.
– Он думает о вашей матери, – говорит тетя Кейте.
После ужина одна из семи сестер тети Кейте забирает их с праздника, который и не праздник вовсе. Их кладут в чужую кровать – плот посреди бескрайнего океана, который не позволит им утонуть только в том случае, если, крепко обнявшись и не шевелясь, они будут лежать точно посередине. Ночью им снится, что тетя Кейте их будит и целует с мокрым от слез лицом. Но, проснувшись на следующее утро, они нигде не могут ее найти. Семь пар рук вытаскивают Анну и Лотту из постели и сажают на стул, чтобы легче было одеваться.
– Ваш отец, – говорит одна из семи теть, доставая комбинацию, – умер сегодня ночью.
Поначалу сообщение не вызывает никакой реакции, но после того, как зашнурованы ботинки, Анна вздыхает:
– Тогда ему не придется больше кашлять.
– И в груди у него больше не будет боли, – вторит ей Лотта.
На последнем кадре сцена прощания. Похороны остались скрытыми от наших глаз, так же как и докучливые реверансы, которые по такому случаю должны были делать девочки. Незримыми были и скандалы, слезы тети Кейте, ее угрозы обратиться в суд, упакованные чемоданы. Лотта видит Анну в последний раз, когда та стоит на лестнице в окружении приехавших издалека родственников. В сторонке, уже изгнанная, со следами напрасных слез отчаяния на лице замерла тетя Кейте. Анна выглядит самоуверенно в своем траурном платьице и с черным бантом в светлых волосах, похожим на ворону в гнезде. Рядом с ней дядя – тот, что портил рождественские песенки, и женщина с грудью волнующих размеров, на которой покоится блестящий золотой крест. Еще несколько ничем не примечательных фигур замыкают ряды взрослых. За Анной, положив костлявые руки на ее плечи (словно на уже присвоенную собственность), стоит навытяжку пожилой мужчина в суконном костюме, с бесформенными усами и густыми пучками засохшей травы, торчащей из ушей. А вот какой в последний раз Анна видит Лотту – та стоит у двери, прямо под витражом. Только по лицу ее и можно узнать – остальное закутано так, точно она отправляется на Северный полюс. Рядом с ней опирается на зонтик кокетливая пожилая дама в элегантной шляпе с вуалью; в руке дама держит перчатки из тонкой кожи. Мужчину, который сейчас тяжело давит на плечи Анны, она в тот день насмешливо называла «дорогуша Булли».








