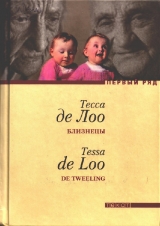
Текст книги "Близнецы"
Автор книги: Тесса де Лоо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 24 страниц)
Запыхавшись, он отчитался об услышанном.
– Пока что они охотятся на зайцев, но через пару часов они начнут охоту на… на…
Не в состоянии произнести это слово, он сконфуженно смотрел на своего окоченевшего друга, босыми ногами стоявшего на плиточном полу. Вдалеке снова послышались выстрелы. Макс Фринкель нервно массировал пальцы.
– Дамы Нотебоом! – воскликнул он.
Его жена с чувством кивнула.
– Поклонницы, – объяснила она, – на каждом концерте они сидели в первом ряду. Когда-то они предлагали свою помощь в случае, если у нас возникнут сложности. Они несколько эксцентричны, но…
Их спешно доставили домой к этим дамам. Мать и дочь жили с сорока восьмью кошками в огромной полуразвалившейся вилле, увитой плющом и виноградом. При этом абсолютно невозможно было определить, какая из этих двух симпатичных женщин – с пучком седых волос или в очках а-ля Карл Маркс – старше. Они поняли все с полуслова. Конечно, они рады приютить талантливого скрипача – они привечали всех бездомных, будь они на двух лапах или на четырех.
После отъезда Фринкелей они невозмутимо дожидались облавы. Лоттина мать наслаждалась внезапно обретенным душевным покоем. Только теперь она ощутила, какое напряжение царило в доме в присутствии этих постояльцев. Постоянный страх, что кто-то нежданно-негаданно нагрянет в гости, что проговорятся младшие дети, страх мелкой, но фатальной ошибки, такой ничтожной, что ее и не заметишь, страх не поддающегося воображению возмездия… страх, сопряженный с чувством вины: ведь все это время она подвергала опасности своих детей.
– Больше мы в это не ввязываемся, – заключила она. – Они там прекрасно устроились, у дам Нотебоом.
Поводов для волнения оставалось предостаточно. Только бы русские не проиграли – тогда все потеряно. Во время Сталинградской битвы Йет начала ходить по дому во сне. Проснувшись однажды, Лотта обнаружила рядом с собой пустую кровать, а сестру, бледную, как статуя, нашла в гостиной, где та мечтательно бродила между столами и стульями. Чтобы Йет не упала с лестницы, Лотта отныне запирала дверь их спальни на ключ. Однако страсть к лунатизму нашла другой выход: как-то ночью Йет открыла балконную дверь и в ночной рубашке вышла под дождь. Лотту разбудил ветер. Не только кровать, но и балкон пустовали. Совершенно потрясенная, Лотта всматривалась в темноту – неужели Йет улетела на крыльях? Наконец она увидела ее, промокшую до нитки, в клумбе отцветших, примятых дождем астр. Несколько недель Йет пролежала в затемненной комнате с тяжелым сотрясением мозга; на смену сомнамбулизму пришла непрекращающаяся головная боль. Несмотря ни на что, Йет требовала, чтобы ее не щадили и держали в курсе событий на востоке.
Дождь в Голландии был сродни снегу в России. В ту осень ливни шли особенно часто. Однажды вечером дождь уничтожил и благие намерения матери Лотты. В дверь позвонили – двое мужчин бросили вызов непогоде. Лицо одного из них скрывалось под очками в тяжелой оправе с толстыми запотевшими стеклами. Другой оказался парикмахером Лоттиного отца; вне привычного антуража из бритв, ножниц и зеркал отец не сразу его узнал. Прикрываясь именем Леона Штайна, парикмахер попросил временно приютить его товарища, попавшего в беду. Всего на несколько дней. Никто не проронил ни слова. Лотта затаила дыхание. Накаленная тишина была следствием не столько сомнения, сколько неизбежности. Возможность свободного выбора была лишь умозрительной – в действительности же на каком-то сверхчеловеческом или как раз на очень человеческом уровне все уже было решено. Отказать – значило оставить его на улице, под проливным дождем, в тщетных поисках крыши над головой.
– Мы больше не прячем у себя людей, – послышался голос отца, – это слишком рискованно.
– Кровать Фринкелей еще стоит в детской, – сказала мать. Ее руки уже возились с пальто нежеланного гостя, которое она повесила рядом с печкой. Предложив ему стул, она сняла с него очки, подолом юбки протерла стекла и снова водрузила их ему на нос.
– Вот, теперь вы, по крайней мере, видите, куда попали.
В одной из комнат на верхнем этаже Рубен Мейер обнаружил смертельно скучающую лунатичку. Он присаживался к ней на кровать, читал ей книжки, приносил чай и приукрашивал для нее фронтовые новости. Когда спустя шесть недель для него так и не нашли другого адреса, он признался, что страдает бессонницей, тревожась за членов своей семьи. Пекаря из утрехтской деревни, у которого они прятались, шантажировала невестка, заметившая, что из кладовки за печкой пахнет не только хлебом и булочками с изюмом, но и холодным потом. Рубена перевезли сюда в корзине с грязным бельем, чтобы он смог найти для них безопасное пристанище.
– Парикмахер должен был это устроить, – его взгляд судорожно метался за толстыми стеклами очков, – не понимаю…
– Мы не можем так долго ждать, – сказала мать.
Она отправила Лотту на разведку. Поезд проносился по пустынному ландшафту под грязно-серым, безрадостным небом. Леса и вересковая пустошь утратили прежний облик – топот чужих сапог лишил их невинности; они превратились в укрытие и место трагических событий одновременно. Тот факт, что, в отличие от Рубена, она вольна здесь проезжать как ни в чем не бывало, искажал пейзаж до неузнаваемости – теперь его уже никогда нельзя будет назвать красивым. В нем производились абсурдные, бессмысленные действия: она направлялась к родственникам Рубена, в то время как Рубен жил в ее семье, – пустая трата энергии, фундаментальный беспорядок. Никто не мог следовать ритму собственной жизни.
В булочной, в крошечном, душном помещении ютились мать Рубена, его десятилетний братик, сестра и зять – истощенные и измученные страхом. Мать вцепилась в Лотту:
– Пожалуйста, возьмите с собой моего мальчика, заберите его отсюда!
– Мы очень скоро заберем вас всех, – попробовала успокоить ее Лотта, – но сначала нужно все хорошо организовать.
– Мой мальчик, мое солнышко, – умоляла мать, – возьмите его сейчас…
В сторонке стоял мальчик с тетрадкой в руках. Казалось, он сознательно держится подальше от матери, по-мужски стыдясь за ее мольбы. Для путешествия на поезде у него была слишком характерная внешность.
– Арифметика? – спросила Лотта, выигрывая время.
– Я пишу рассказ, – сказал он с достоинством, – о жертвах кораблекрушения, которых прибило к острову в Тихом океане…
– И что же с ними случилось потом? – подбодрила его вопросом Лотта, лихорадочно размышляя, что делать дальше. Она не была готова к подобной дилемме, исполняя лишь роль пешки, которую выдвинули вперед, чтобы произвести рекогносцировку на местности. Самостоятельно она не могла принять такое решение…
– Они думают, что остров необитаем и что им ничто не грозит, но на них охотятся вооруженные копьями каннибалы и…
– Вот, – мать сорвала с пальца бриллиантовое кольцо.
Лотта покачала головой, виски сдавливала невыносимая боль.
– Дело не в деньгах… немцы снимут его с поезда, это безответственно… мы скоро всех вас отсюда увезем…
В тот же вечер через парикмахера они связались с хозяином прачечной. Он мог перевезти не больше трех человек, в конце недели. Поскольку мать Рубена меньше всех бросалась в глаза, Лоттина мать решила уже на следующий день посадить ее на поезд. Она прихватила для нее шляпу с широкими полями. Изображая подружек, болтающих о том о сем, они вместе возвращались назад. Нервный тик одной из них, вызванный тем, что ей пришлось бросить своих детей, скрывала тень от шляпы. Хозяин прачечной прибыл точно в назначенное время, равно как и Провидение: немцы опередили его на сутки и ночью забрали всех троих.
«Мой мальчик, мое солнышко, возьмите его с собой…» Лотта вынуждена была не выказывать свое отчаяние; у нее было такое чувство, будто ее осудил незримый трибунал. Знай она заранее, что ребенка увезут, она бы рискнула переправить его на поезде. Если бы тогда его схватили, она, конечно, была бы виновата, но в меньшей степени, чем сейчас, когда она даже не попыталась его спасти. Это была мучительная, тупиковая мысль, метавшаяся, точно диаболо, между виной и виной. Она столкнулась с изощренной жестокостью, не дававшей ей возможности выбора. Она не рассчитывала, что жизнь примет столь серьезный оборот. Ситуация усугублялась тем, что никому не приходило в голову ее упрекать и она, по-видимому, боролась с надуманной проблемой, которая не шла ни в какое сравнение с горем и одиночеством Рубена Мейера. От его матери решили утаить правду: они не представляли, как справятся с обезумевшей матерью – еврейкой? Они заставили ее поверить в то, что детей в тот вечер укрыли в другом месте. Каждый день она причитала:
– Но они могли бы написать записку?
– Это слишком опасно, – заверял ее сын, у которого щемило сердце, – почту перехватывают. Никто не должен знать, где они.
Поникший, он бродил по дому; необходимость ежедневного вранья отнимала все силы.
Однажды с ящичком под мышкой к ним зашел отец Давида. И хотя от сына больше не было весточек, он снова обрел нечто от прежней своей несокрушимости – основы его творчества.
– Мы тоже собираемся скрыться, – сказал он. – Я принес всякие безделушки… вещички…
Он постучал по ящику.
– Жаль будет, если они потеряются. Вы не возражаете, если мы закопаем их у вас в саду или в лесу?
– Пожалуйста, – беспечно сказал Лоттин отец, – но только не в саду, поскольку сейчас у нас на счету каждый квадратный метр.
Он имел в виду табачные растения, которые посеял и для которых, с разрешения жены, пожертвовал бы и большей частью огорода. Лотта свесилась через край балкона, наблюдая, как двое мужчин с лопатой отправляются в лес – ее вдруг охватило неприятное чувство, хотя она и не знала почему.
– Ты все еще сердишься, – заметила Анна, внимательно изучая Лотту. – Ты пятьдесят лет копила свой гнев. Выплесни его наружу! Я гожусь для этого как никто другой, я предлагаю тебе свои услуги, я и не в таких переделках бывала за свою жизнь. У тебя есть на это полное право.
– Я вовсе не сержусь, – Лотта спешно разжала кулаки. – Я просто рассказываю тебе о случившемся.
– Почему ты отрицаешь, что сердишься? Всю свою злость ты вот уже несколько дней переносишь на меня. Это вполне понятно! – Анна с довольным видом облокотилась на спинку стула. – Я же предлагаю тебе себя – давай, упрекай меня!
– Я только этим и занималась, – вздохнула Лотта, – но ты продолжаешь защищаться.
– Больше не буду, излей сначала душу…
Теперь, когда они начали курс психотерапии, Лотта скептически на нее посмотрела – изливать душу в этом стилизованном под старину кафе большого города, среди бизнесменов и домохозяек, неторопливо попивающих свой кофе.
– Я немного тебе помогу, – сказала Анна, – мы закажем еще по чашечке, и я расскажу тебе о том, за что мне до сих пор стыдно.
Письма Мартина теперь приходили с юга. На подступах к Кавказу он подцепил опасную кишечную инфекцию, и Анне писали его товарищи. Она не позволяла сбить себя с толку их явными попытками завуалировать серьезность болезни анекдотами и шутками; чтобы заглушить страх, Анна с маниакальным рвением ударилась в работу. Вскоре ей снова пришел конверт, надписанный рукой Мартина. Благодаря молочно – помидорной диете кризис миновал; они двигались в сторону Таганрога. Анна получила несколько писем подряд: поломки грузовика диктовали темп, машина тащилась из последних сил, Россия была слишком большой. С восьмидневным опозданием они добрались до города на Черном море, откуда должны были лететь в Сталинград, чтобы участвовать в решающем сражении. Их уже не ждали, считая без вести пропавшими. Экипаж грузовика больше не вписывался в Великий План – их официально отправили в отпуск. Через год после генеральной репетиции Мартину наконец выдали разрешение на вступление в брак.
– Анна, Анна, иди сюда, тебе телеграмма! – кричала на весь дом фрау фон Гарлиц. Одна из деревенских работниц поспешно заколола откормленного гуся, которого держала специально для этого случая, и приготовила главное блюдо для праздничного стола. Один чемодан из свиной кожи набили продуктами, в другой положили подвенечное платье, необходимые документы и приданое.
– Полагаю, ты не надеешься, что теперь это действительно произойдет? – ухмыльнулся герр фон Гарлиц на прощанье. Заложив единственную оставшуюся лошадь, старый камердинер Оттхен отвез ее при свете луны на вокзал.
Переполненный поезд был готов к отправлению. Оттхен снял чемоданы с телеги и протащил их в вагон, едва не задевая за солдат, спавших на платформе.
– Черт бы тебя побрал! – возмущались они.
Анна рассыпалась в извинениях, осторожно ступая между телами. Протискиваясь сквозь битком набитые вагоны, она в результате нашла свободное место в купе первого класса. Поезд гремел в ночи, как сумасшедший; в протекторате Богемия-Моравия он остановился, послышались какие-то громкие команды, а потом мчался почти до самой Вены, где простоял четыре часа, дожидаясь окончания воздушной тревоги.
По прибытии Анна не досчиталась одного чемодана. Кто-то из солдат вспомнил, как какой-то тип сходил с поезда с чемоданом в руках, – возможно, запах гуся прельстил его. В суматохе по поводу исчезнувшей поклажи Анна не заметила тихого прикосновения Мартина, который встречал ее на платформе вместе с отцом. Она отпрянула назад. Их разделяли тысячи километров, долгие недели он существовал лишь в почерке своих друзей и, как магнит, притягивал все ее чувства, страхи и желания… и вот теперь он стоял наяву – был в этом некий привкус банальности. Они сдержанно поприветствовали друг друга – не здесь, не в этой толпе! По пути к дому его отца, сидя в трамвае, она зачарованно смотрела на его гладко выбритую, трогательно уязвимую шею – столь совершенную, невзирая на снег, болезнь, мрачные времена, невзирая на войну.
Они обвенчались в церкви Святого Карла. Жених предпринял последнюю попытку получить благословение матери и убедить ее присутствовать на свадьбе.
– День всей моей жизни. – кричал он, тряся ее за плечи, – это самый важный день в моей жизни!
Она надавливала на виски кончиками пальцев и крепко зажмуривала глаза. Так он покинул мать навсегда – в ее владениях, где она осталась единственной жертвой собственного угнетения. Анну, потрясенную размерами и роскошью церкви, вели к алтарю. Купол, колонны, настенная живопись, галереи из розового, коричневого и черного мрамора. За одной из колонн наверняка пряталась ее будущая свекровь, полагала Анна, и, хороший тактик, дожидалась решающего момента, чтобы выпрыгнуть из своего укрытия и устроить трагическую сцену, гораздо более эпатажную, нежели припадок ипохондрии годичной давности. Однако роспись купола отвлекла ее внимание, равно как и золотые лучи треугольника с еврейскими буквами над алтарем, среди которых летали ангелы, а также окно с золотистым витражом. Сквозь него внутрь храма струилось бронзовое сияние, окутывающее небольшую свадебную процессию, – где-то в небесных сферах должна существовать высшая организация, детально разработанный тайный план, в котором с глубинной непостижимой целью по минутам были расписаны и их жизни. Анна бросила взгляд на профиль своего суженого – его кадык задвигался при первых звуках, которые издавал обильно украшенный золотом орган.
По окончании церемонии они сбежали вниз по лестнице, между греческими колоннами и двумя мраморными ангелами, вздымавшими к небу кресты. Анна непроизвольно обернулась. Правый ангел, исполненный внутреннего спокойствия, устремлял взгляд за горизонт, левый же смотрел более сурово, и его крест обвивала змея. Анну вдруг охватило чувство, которое она считала давно умершим, но которое неожиданно воскресло благодаря торжественности момента. Лотта. Не та чужачка, приезжавшая к ней в Кельн, но настоящая… если кого-то и не хватало на свадьбе, так это ее. И почему бы ей не появиться здесь в облике ангела? Тогда сама она перевоплотится в того другого… со змеей… Ангелы лицезрели мир мраморными глазами, как если бы что-то в нем смыслили… Свадебная процессия пересекла площадь Святого Карла, ветер играл с фатой Анны – сквозь тонкий тюль осязаемая реальность, казалось, на мгновение затуманилась, размылась.
Они вселились в дом покойной бабушки Мартина, зубья расчески на комоде еще хранили ее волосы. Собственный дом… Они вились вокруг друг друга, как если бы наверстывали тысячу потерянных часов. Город и окрестности служили подходящей декорацией для их медового месяца. За исключением одного маленького инцидента, когда на улице Мёлкер-Бастай они наткнулись на группу людей с нашитой на пальто желтой звездой, которые медленно спускались по потертым ступенькам в старом центре. Мартин застыл на месте. Из чувства странного пиетета он отпустил руку Анны и не сводил с них потрясенного взгляда, пока эти люди молча шествовали мимо. Анну напугала не столько процессия, сколько поведение Мартина.
– Пойдем, – умоляла она его, дергая за рукав, – не смотри, пожалуйста, пойдем.
Мартин с трудом позволил себя увести. Весь день она сожалела о попавшейся у них на пути процессии, считая это плохим предзнаменованием.
В отпущенные им три недели она хотела жить как можно более насыщенно – чтобы хватило на всю жизнь.
Когда накануне своего отъезда она апатично собирала чемодан, в соседней комнате раздавались приглушенные голоса Мартина и его отца.
– Вот, мой мальчик, я купил тебе кальсоны – ведь там так холодно. Возьми их с собой.
– Нет, – возражал Мартин, – не стоило этого делать.
– Почему, Анны же не будет рядом?
Сухой сдержанный смех.
– Не поэтому…
– Тогда почему же?
– Ах, папа, холод – ничто по сравнению со всеми опасностями, которые нас подстерегают.
– Но войска связи не подвергаются особому риску, вы же не сражаетесь непосредственно на фронте?
Неразборчивое бормотание, Анна прижала ухо к дверному косяку. Повсюду партизаны, говорил Мартин, особенно там, где их совсем не ждешь. Устанавливая мачты электропередачи маленькими группами, прокладывая кабели и соединяя провода, прямо за линией наступающего фронта, войска связи" тоже рисковали жизнью. Однажды один из техников, работая высоко на мачте, не нашел своих плоскогубцев. «Подожди, – крикнул Мартин, наблюдавший за его действиями, – я пойду принесу». Он направился к грузовику, который был спрятан в соснах. Пока он рылся в инструментах, до него донеслись отрывистые крики, после чего внезапно воцарилась тишина. Скрываясь за деревьями, он осторожно прокрался назад. Там, где еще совсем недавно его товарищи стучали молотками и орудовали щипцами, теперь в неподвижной траве лежало двенадцать тел с перерезанным горлом. Нападавшие бесследно исчезли. Почти бесшумная молниеносная акция под безупречно голубым небом.
Анна не расслышала слов свекра. Она опустилась на край кровати, рядом с полусобранным чемоданом. Так вот какой была оборотная сторона картины с цветущими подсолнухами, расстроенным роялем в деревенском доме и ящиком книг на базаре. Вот как все происходило на самом деле, за долю секунды, на опушке светло-зеленого соснового леса, в густой траве. Да и при чем здесь идиллический пейзаж?
Как попрощаться, они не знали. Они неуклюже стояли на перроне и, встречаясь взглядами, ободряюще друг другу улыбались.
– Скоро увидимся, – сказал он с наигранной легкостью, – мой ангел-хранитель не покидает меня даже в сорокаградусный мороз.
Надо запечатлеть в памяти его лицо, думала Анна. Я возьму его с собой и буду смотреть на него, когда заблагорассудится, что бы ни случилось. Было больно оттого, что они не владели искусством прощания: никаких слез, подобающих слов – оба проявляли лишь легкое нетерпение поскорее избыть то, что за гранью способностей простых смертных. Уже сидя в поезде, Анна разрыдалась.
– Мой муж… – оправдывалась она перед изумленным попутчиком, – мой муж уехал обратно в Россию.
Она впервые назвала его этим словом. Ее охватило чувство меланхолической гордости, которое тут же сменилось ассоциацией: «вдова, вдова погибшего на войне».
Когда она вернулась в замок, парк был сплошь усеян листьями каштановых деревьев. По ночам подмораживало. Тысячи звезд, мерцающих из черноты, оставались вне войны – смотрел ли ты на них из Бранденбурга или из тундры. Мартин воевал в России, а сто русских спали здесь, как свиньи в сараях. В один прекрасный день двум из них удалось сбежать. В лесу они нарвались на пожилого лесника, который, сидя в засаде, собирался добыть зайца для рождественского стола. Не успел он схватиться за двустволку, как его уже закололи. Беглецы прихватили с собой охотничье ружье и боеприпасы. Тело обнаружили в тот же день, и голодный паек девяноста восьми русских был урезан наполовину. Две тысячи солдат с ближайшего аэродрома цепью прочесывали лес. Беглецы окопались, засыпав себя листьями; военные прошли мимо, не заметив их. Они почти уже спаслись, когда вдруг один солдат почуял две пары сверлящих спину глаз и обернулся.
Тем временем известие достигло и герра фон Гарлица. Он вошел в охотничью комнату, сорвал со стены кнут и неистово носился по коридорам, хлеща все подряд кожаным ремнем и проклиная славянские народы.
– Убить старого человека, сволочи, да я из них лепешку сделаю, они у меня получат!
Анну тошнило от бутафорского мужского куража, и она вышла во внутренний дворик, куда как раз привели двух пленников. Рыча от злости, фон Гарлиц бросился к ним навстречу. Двое офицеров удержали его и призвали к спокойствию. Примитивная месть здесь не годилась; официально они должны были соблюдать правила обращения с военнопленными. Один из них приказал развязать беглецов – исполненные недоверия, те нерешительно начали двигаться в сторону сарая. В ту же секунду офицер выстрелил им в спину. Они бесшумно упали лицом на камни. Офицер демонстративно обратился к фон Гарлицу:
– Убиты во время попытки к бегству.
Расстрел вызвал негодование среди русских. Отныне фрау фон Гарлиц назначала сопровождение для Анны и других ее служащих, когда те отправлялись в лес. Анна от охраны отмахивалась, она не боялась. Лично она считала, что речь шла об ужасном недоразумении: в результате абсурдного, бессмысленного обмена русские мужчины оказались в Германии, а немецкие в России. Пока охваченные чувством безысходности русские пленные покорно ждали, где-то в сердце их родины, среди занесенных снегом руин и пожарищ, их соотечественники вели ожесточенную борьбу. За каждый дом, каждую стену платили множеством жизней. Казалось, что от исхода этой ледяной битвы в медленно разрушающемся городе зависит судьба всего мира.
Вести о том, что Сталинград выстоял, долетели сначала до сараев, а уж потом до самого замка, где голые факты маскировались эвфемизмами: мы отступаем. Произошел коренной перелом. Отреставрированный с подвалов до крыши замок готовился принять гостей на своих до блеска начищенных паркетных полах, в белоснежных стенах, в приятной теплоте вечно горящих печей: прусская знать тоже собиралась внести свой вклад в историю. Анна, не испытывавшая интереса ни к стратегическому развитию событий, ни к политическим предпочтениям, желала только одного: чтобы Мартин вернулся домой целым и невредимым.
Лотта смотрела в окно; ее взгляд остановился на одной из гранитных церковных стен.
– Мы рисковали жизнями ради тех, на кого ты даже не пожелала взглянуть… – произнесла она с недоверием.
– Да, – кивнула Анна, – так и было. Я ничуть не лучше, но и не хуже большинства других. Я год с ужасом ждала известия о его смерти, но он вернулся – на целых три недели. Потом все должно было начаться снова. Я жертвовала всем ради этого короткого отрезка совместной жизни, который был нам отпущен. Окажись я на Мёлкер-Бастай одна, я бы наверняка их рассмотрела. Скорее всего, я задала бы себе мучительные вопросы… но тот кусочек счастья, понимаешь, он в тот миг затмевал все.
– Вы всегда находили для себя оправдание, – сказала Лотта с горечью, – однако к евреям вы были беспощадны.
– Слушай, прекрати обобщать… тот кусочек счастья был единственным моим достоянием, по-моему. я имела на него право, мне пришлось довольствоваться им до конца жизни.
Выглянуло солнце, зимний белый луч осветил их руки – причудливое сплетение синих вен. Кожу, кровяные сосуды, мышцы – хрупкие и бренные.
– Полагаю, мы добрались до сути нашего разногласия, – размышляла Анна, – и до причины твоего гнева.
– Перестань рассматривать мой гнев как нечто, что само по себе трансформируется в прощение, стоит мне только дать ему волю.
– Я не нуждаюсь в твоем прощении, – отрезала Анна, – я не совершила никакого преступления.
– Ладно, хватит об этом, – вздохнула Лотта, – пусть все останется как есть. Ты упомянула Сталинград… я хорошо помню охватившее нас облегчение… эйфорию… и все же лишь потом стало по-настоящему тяжело…
Отец Сталин не позволил просто так оттеснить себя на задний план; союзники очистили Северную Африку и продвигались к северу Италии. Какое-то время они тешили себя иллюзией, что сейчас остается только ждать и держаться. В состоянии нервного расстройства возвратилась семья Фринкелей; они насилу избежали двух облав и еле унесли ноги от сорока восьми кошек. Всякий раз домашние животные ели вместе с ними за столом как полноценные сотрапезники; дамы Нотебоом кормили их изо рта кусочками сырого мяса. Избалованные чрезмерной материнской заботой, животные вели себя безобразно. Стоило Максу и его сыну приступить к ежедневным музыкальным упражнениям, как они хором начинали мяукать.
Поскольку Лотта отказалась зарегистрироваться в нацистском департаменте по культуре в качестве члена хора радиовещания, с пением официально было покончено, и она стала незаменимой шестеренкой в гигантском домашнем хозяйстве, состоящем из четырнадцати ртов. Жизнь принимала все более каверзный характер, не только в практическом смысле, но и в абстрактном. – страх сделался неотъемлемой ее частью – затаенно, подкожно. Разжечь его могла любая мелочь: внезапная тишина, странный звук, угрожающе колышущиеся макушки деревьев, грохот вдалеке, неясные слухи. Причем в любую секунду. Это не укладывалось в голове, и все же каждый из них растягивал воображение до немыслимых, нестерпимых пределов. По ложной тревоге страх погнал Мейеров и Фринкелей в лес; в спешке они накинули зимние пальто поверх пижам. Несколько часов они пролежали в сырой водосточной канаве, под свисавшими хвойными ветками, в то время как издалека доносились голоса и собачий лай. Госпожа Мейер вцепилась зубами в свое промокшее лисье боа, а Макс Фринкель массировал фаланги пальцев, чтобы влага не поразила суставы. В конце концов хозяин дома соорудил более удобное место для укрытия – в глубоком встроенном стенном шкафу в спальне. Дверь в шкаф он уменьшил до размеров дыры, которую загородил зеркалом в человеческий рост. Зеркало открывалось с помощью веревки и закрывалось тогда, когда внутри опускалась крышка люка. Помещались там все, они ныряли в дыру через собственное отражение – двойственная форма бытия и небытия. Лоттина мать придвинула к зеркалу туалетный столик, где соблазнительно сверкали фиолетовые и темно-красные флаконы духов. Отныне госпожа Мейер желала спать только в шкафу; было слышно, как она плачет и молится в весьма странной тональности.
Сдерживать неуклонно растущее хозяйство было непросто. Раздавался, к примеру, звонок в дверь. Лотта была дома одна, если не считать пяти невидимых и неслышимых персонажей, которые играли в вист на верхнем этаже. На пороге вырастал молодой человек с короткими рыжими волосами; его правая рука покоилась на плече низенького старика в черной шляпе, морщинистое лицо которого было с надеждой обращено к Лотте.
– Я привел тестя господина Божюля из магазина граммофонных пластинок, – объявил молодой человек.
Он рассказал, что господина Божюля арестовали, пока его жена и дочь находились в Амстердаме. На станции их кто-то предостерег от возвращения домой. Из полицейского участка Божюлю удалось тайно отправить сообщение, что его тесть еще скрывается на чердаке. Он посоветовал отвести старика в дом его давнего клиента, скорее даже друга, который наверняка что-нибудь придумает, – а именно к отцу Лотты.
– Его нет дома, – сказала Лотта, – я одна не могу ничего решать. – Она продолжала держать дверь. Никто не проронил больше ни слова, они лишь робко смотрели друг на друга. Казалось, что старичок в своей абсолютной зависимости был единственным, кто смог пережить катастрофу, потому что был слишком маленьким и слишком легким, чтобы пойти на дно со всеми остальными. Внезапно Лотте стало стыдно за свою холодность. – Вы можете его подождать, – сказала она, распахивая дверь.
Она провела их в столовую. Старичок покорно сел, положив шляпу на колени; над глубоко посаженными глазами завивались книзу белые брови. Его сопровождающий равнодушно осматривался вокруг, как если бы находился в приемной. Вернувшись домой, Лоттин отец нахмурился, однако, услышав имя Божюля, тут же оттаял. Ах, конечно, владелец магазина грампластинок, где он был завсегдатаем, сколько пылких дискуссий разгоралось там по поводу тех или иных записей. Пару раз он действительно видел его тестя, шаркающего по магазину дедушку Така. Разумеется, он постарается найти для него надежный адрес.
– Кстати… – сказал он, в изумлении обращаясь к старику, – я что-то не понимаю, ваш зять ведь персидский еврей? В последний раз он сказал мне, что ему нечего бояться; пока Германия не воюет с Ираном, ему ничто не угрожает.
– Не спрашивайте меня ни о чем, – вздохнул старик, – до тысяча девятьсот четырнадцатого года мир еще был доступен пониманию обычного человека… дальнейшие события просто не укладываются у меня в голове.
– В шляпе, – поддразнил его сопровождающий, указывая на черную шляпу, которая, точно corpus delicti, [75]75
Буквально: «тело преступления» (лат.) – вещественные доказательства, улики.
[Закрыть]вызвавший упадок прежнего мира, покоилась у него на коленях.
Садовый домик отремонтировали на скорую руку. Поскольку его пребывание было временным, старика не оповестили о том, что скрывается в доме не только он один. Когда светило солнце, он сидел на шатком складном стуле и мечтал, держа в уголке рта янтарную трубку. Лотта приносила ему еду, а он рассказывал ей об огранке алмазов в ту давнюю пору, когда в мире еще можно было сносно жить. Белые волосы, в которых солнце сплело ауру лучших времен, его уныние, его прозрачная кожа внушали Лотте мысль, что этот старик явился с того света, дабы бросить изумленный взгляд на нынешний хаос; при этом он знал наверняка, что в любой момент может вернуться назад.
Поиски другого адреса терпели фиаско; среди укрывающихся появлялись все новые категории: студенты, солдаты, которым грозил плен, мужчины, избегающие принудительного труда на немецких заводах. К их рядам примкнул Тео де Зван, а позже и Эрнст Гудриан, столь трогательный в своих героических попытках скрыть страх, что Лоттина мать искренне ему сочувствовала. Его поместили вместе с дедушкой Таком; он расширил легкомысленный домик, скрипевший на ветру, стильной пристройкой, где, наслаждаясь видом на поле цветущего табака, изготавливал скрипки. Даже Кун, достигший возраста военнообязанного, вынужден был скрываться. Его темперамент не позволял ему сидеть дома и спокойно дожидаться окончания войны. Он выскользнул из дома на улицу, был задержан и отправлен в Амерсфорт. Замыкая колонну наугад схваченных собратьев по несчастью, он шел в неизвестном направлении по Старому городу, окутанному сумерками. Дорога была узкой; незаметно он юркнул в подъезд и, прижавшись спиной к двери, забарабанил пальцами по дереву.








