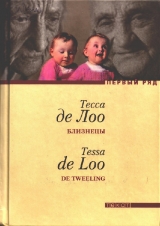
Текст книги "Близнецы"
Автор книги: Тесса де Лоо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 24 страниц)
– Откройте, откройте, – умолял он.
– Ты католик? – поинтересовались с другой стороны двери.
– Нет, – простонал он.
– Тогда проваливай, – ответил голос.
Их разместили в Ассене в казармах, где было полным-полно вшей. Отвращение к этим насекомым не давало ему уснуть. Он прокрался на улицу и, облокотившись на стену, тихонько задремал. Ни свет ни заря его разбудила почтовая машина, работающая ца дровах, которая въезжала через ворота казармы. Почтальон вылез из машины и медленно опустошил почтовый ящик, после чего повернул обратно, выпуская дым из трубы. На следующий день, когда почтальон снова сел за руль, Кун открыл заднюю дверцу, подтянулся наверх и оказался среди почтовых мешков. Обнаружил себя он лишь у парома через канал Эйссел. Почтальон побледнел. Хотя талант Куна – импровизатора и поразил его, он не решался-таки взять с собой столь необычную посылку.
– Мальчик, я не могу этого сделать, – с сожалением сказал он, – это слишком рискованно.
– Спрячь меня в дровах, – предложил Кун.
Перед подобной находчивостью почтальон не смог устоять.
– Я с ума сошел, – ворчал он, заботливо укрывая безбилетника поленьями, вырубленными из фруктовых деревьев. Кун возвратился домой с непоколебимой верой в себя. Дрожа от усталости после двух бессонных ночей, мать, облегченно вздохнув, крепко его обняла. Он высвободился из ее объятий, чтобы быстро осмотреть свою одежду, опасаясь, что, в свою очередь, привез с собой безбилетников из казармы.
В то время как дедушка Так приживался среди яблонь и табака, вспоминая о своей покойной жене, фотография которой была приколота к стене ржавой кнопкой, его дочь и внучка меняли одно укрытие за другим. После долгих скитаний последняя присоединилась к своему жениху, прятавшемуся где-то в Беймстере, а дочь однажды летним вечером появилась на пороге Лоттиного дома. Одетая в вызывающе обтягивающий костюм, она сказала, что приехала (никто не знал откуда) навестить отца. Лоттина мать сразу заподозрила неладное, а ее муж не нашел в себе сил отказать. Он капитулировал перед откровенно соблазняющими маневрами, при которых в качестве главного козыря пускались в ход покрытые ярко-красной помадой пухлые губы, и сдался на ее просьбу об убежище. Ей отвели кровать в комнате Йет и Лотты; отныне они спали в сигаретном дыме и экзотическом аромате духов. По стульям и кроватям то и дело разбрасывались все новые платья с глубоким декольте, а из перламутровой шкатулки с драгоценностями извлекались многочисленные бусы.
Обделенная вниманием, она увядала, но расцветала от восхищенных глаз. Необходимость идти у нее на поводу – ради мира и покоя в доме – безумно всех изнуряла. Ни одно занятие не увлекало ее дольше пяти минут; она металась из угла в угол, как пантера в клетке; стук ее шпилек отрывал других от чтения, игры в карты, решения кроссвордов. С трудом верилось, что она была дочерью человека, который задумчиво курил в саду свою трубку и выращивал кресс-салат на узенькой полоске земли вдоль осевшей террасы.
По вечерам, когда окна зашторивались занавесками из конского волоса, они все спускались вниз, где ужинали за двумя длинными столами. Лоттина мать старалась, исходя из ограниченных возможностей, приготовить кошерные блюда. Иногда Макс Фринкель исполнял после ужина какое-нибудь виртуозное произведение Паганини; его сын брал реванш томной цыганской мелодией. Излишне оживленная Флора Божюль пела американские шлягеры. В конце концов все взоры, как правило, устремлялись на Лотту, которая закусывала губу и качала головой. В качестве компенсации за ее несговорчивость госпожа Мейер декламировала стихи. Гвоздем программы была ямбическая элегия о матери, вынужденной сбыть все свое имущество, только чтобы прокормить детей; единственным незаложенным предметом в доме оставалась кукла ее дочери, с которой та не расставалась ни на секунду. Дети слушали эту историю с самозабвением, в то время как взрослые надеялись, что она не окажется пророческой.
В доме работало «Радио Оранских» или Би-би-си. С тех пор как в мае всем пришлось сдать свои приемники, они пользовались самодельной установкой, сооруженной отцом Лотты, – грубоватой на вид, но зато с необыкновенно четким воспроизведением звука. Они слышали даже дыхание королевы, вещающей из Лондона. Люди изголодались по надежной информации; подпольные газеты и листовки передавались из рук в руки, время от времени кто-то зачитывал вслух статью.
– Что это… – изумился Кун, – слушайте…
Он не задумываясь прочел заметку из газеты «Хет пароол», где упоминалось о существовании газовых камер, куда заталкивали и отравляли газом голых «арестованных врагов», пребывавших в полной уверенности, что их ведут в баню. С недавнего времени вместимость этих камер выросла с двухсот до тысячи человек. Госпожа Мейер разразилась отчаянными рыданиями; Рубен наклонился к ней и в неловкой попытке ее утешить яростно сжал ее руки. Лоттина мать бросила уничтожающий взгляд на Куна, до которого только сейчас начало доходить, что он натворил. Новость тут же постарались сгладить: несомненно, это лишь сенсационная история какого-то ушлого журналиста с извращенной фантазией. Брам Фринкель швырнул салфетку на стол и, сгорбившись, направился к двери. Взявшись за ручку, он обернулся и с усмешкой обратился к Куну:
– Может быть, теперь вы захотите стать избранным народом на следующие два тысячелетия!
6
Благотворный эффект подводных массажей, грязевых и кислородных ванн мало-помалу начал проявляться. В первые недели лечения пациенты, как правило, боролись с неимоверной, граничащей с депрессией, усталостью, вызванной снятием блокады с суставов и удалением токсинов из жировой ткани. У сестер во время их бесед, ко всему прочему, еще выводился яд из сердца, восстанавливались родственные отношения и испытывалась на прочность память. Поворотный момент, чаще всего, наступал посередине лечения. Больше не страдавший от боли при каждом движении пациент свободнее двигался и глубже дышал, его организм омывался очищенной кровью. Анна и Лотта тоже это чувствовали. Они возрождались к жизни физически, однако душевные силы восстановить пока не получалось; те подвергались совсем иному лечению, терапевтический эффект которого был гораздо менее очевидным. Проведя все утро в ваннах, они вышли из термального комплекса; перед тем как приступить к рискованному спуску по лестницам, они посмотрели на безоблачное голубое небо над зеленым сводом гостиницы «Счастливые часы». Растаявший снег превратился в серое месиво. С1864 года вход в термальный комплекс охраняли две каменные женские фигуры – одна с жезлом в руке и рыбой у ног, другая с крошечной арфой и опрокинутым на землю кувшином, из которого вытекала вода. Женщины спрыгнули со своих постаментов, легко сбежали по ступенькам и пересекли дорогу в направлении Королевской площади. У квадратного киоска в стиле модерн они радостно остановились. Первая подняла свой жезл и указала на одну из четырех сторон, где было написано:
Quand il est midi a Spa il est:
13 heures a Berlin, Rome, Kinshasa
14 heures a Moscou, Ankara, Lumumbashi
15 heures a Bagdad
19 heures a Singapore
7 heures a New York [76]76
Когда в Спа полдень, в Берлине, Риме, Киншасе – 13 часов, в Москве, Анкаре, Лумумбаши – 14 часов, в Багдаде – 15 часов, в Сингапуре – 19 часов, в Нью-Йорке – 7 часов
[Закрыть]
Другая сыграла несколько аккордов на арфе и хрипловатым голосом пропела: «…загадка синхронности… когда в Риме обедают, то в Сингапуре ужинают, когда на Берлин падает дождь из бомб, в Нью-Йорке готовят завтрак…» Слова превращались в мыльные пузыри, разлетающиеся по Королевской площади. Ключевая вода из каменного кувшина – или же просто талая вода? – потекла по Королевской улице и проспекту Королевы Астрид. Лотта и Анна взялись за руки, переходя мокрую улицу; вода просочилась в туфли. Они прошли мимо незатейливого ресторанчика и решили заглянуть внутрь – когда в Нью-Йорке завтракали, в Спа садились обедать.
Роту Мартина отозвали из России для создания системы противовоздушной обороны вокруг Берлина. Отныне он проводил выходные с Анной – наконец-то появилось подобие семейной жизни. Она с нетерпением ждала первых признаков беременности. Ранней весной ее оперировали; теперь предстояло выяснить, до какой степени устранен урон, нанесенный здоровью еще в ранней молодости тележками с навозом и кормом для свиней. Единственным и самым важным, чего, как казалось, до сих пор ей недоставало, был ребенок. С появлением на свет младенца она сама бы родилась заново. Детство ребенка расцветило бы ее собственное детство – ведь ее ребенок ни в чем не будет нуждаться. Ребенок заменит ей утраченную сестру, ребенок примирит ее со всем, что не сбылось.
В лесу раскинулось широкое озеро. На берегу лежали гребные лодки ярких цветов из геральдики викингов. На них можно было доплыть до овального острова, где среди ив и серых берез прятался деревянный домик с остроконечной крышей; так же, как озеро и лес, он испокон веков принадлежал замку. Фрау фон Гарлиц отдала Анне ключи. В солнечную погоду они с Мартином прогуливались к озеру, связывали лодки и всей флотилией плыли к острову, чтобы оградить себя от нежданных гостей. Они купались, загорали в высокой траве, спали в домике, вдыхая запах высушенного дерева и болотных духов, которые стонали и скрипели между досками, когда по ночам становилось ветрено. Война казалась далекой и призрачной. Ветер, кряканье уток, кваканье лягушек вместо сирен воздушной тревоги и бубнежа по радио. Когда она слушала его дыхание, ей казалось чудом, что он лежит рядом с ней. Невидимая рука трижды благополучно провела его по России, оберегая от убийц из-за угла, обморожения, смертельных болезней, чтобы вернуть его ей живым и здоровым. Их воссоединение на этом острове – во времени и пространстве – она воспринимала как нечто священное, как знак избранности. В окно светила луна, отражавшаяся в воде за раскачивающимися ивовыми ветками – остров плыл по озеру, а время стояло на месте. По воскресеньям, во второй половине дня, флот отправлялся назад к берегу. Они брели обратно по лесу, после чего их пути расходились: Мартин возвращался в казармы, а Анна – через ворота в свою обыденную жизнь.
В замке поселились пять девушек, за государственный счет проходивших практику в области домоводства. Их отдали на попечение Анны. С тех пор как под ее руководством замок изменился до неузнаваемости, фрау фон Гарлиц безгранично к ней благоволила. И снова Мартин всех очаровал – когда он останавливался в замке, девушки надевали самые нарядные фартуки. Догадавшись, что их прихорашивание совпадало с визитами ее мужа, Анна просто вышла из себя.
– Эти фартуки, – крикнула она язвительно, – предназначены только для обслуживания. Порошка для стирки не напасешься, если вы будете носить их, когда попало!
Ухмыляясь – женский инстинкт безошибочно подсказывал им причину ее раздражения – они переоделись. В воскресенье Анна увидела из окна кухни, как Мартин прямо перед отъездом вручил в саду одной из девушек небольшой сверток.
– Что это было, – спросила она, после того как проводила Мартина, – что подарил тебе мой муж?
Девушка бросила на нее отрывистый виноватый взгляд.
– Ну же! – настаивала Анна, хватая ее за плечи.
– Я не могу сказать.
– И все-таки?
– Это… подарок вам, на Рождество…
– Сейчас? В августе?
Она кивнула:
– На случай, если вашего мужа куда-нибудь отправят и он не сможет провести Рождество с вами.
Анна стояла как громом пораженная. В глазах возмущенной девушки прочитывалось презрение к Анне, которая из-за своей подозрительности вынудила ее выдать секрет. Раздосадованная, она вышла из комнаты, оставив Анну наедине с ее властью, стыдом и растроганностью, нагнетавшей стыд еще сильнее: уже сейчас, в разгар лета, Мартин думал о том, как утешит ее через полгода, на Рождество.
В замке царило непривычное оживление. Отремонтированные комнаты постоянно принимали гостей – высокопоставленные военные приезжали туда перевести дух в перерывах между боевыми задачами. После ужина они уединялись в библиотеке, оставляя своих дам в салоне на попечении фрау фон Гарлиц, как всегда, дружелюбной, элегантной и интересной собеседницы; казалось, что война и беспорядочные половые связи мужа ничуть ее не заботили. В коридорах шептались о его романе с Петрой фон Виллер – лейбен, дочерью промышленника, сделавшего стремительную карьеру в армии. С тех пор как в походе на Польшу фон Гарлиц вывихнул коленную чашечку, он занимал весьма неясную штатную должность и регулярно уезжал в командировки в Брюссель. Анна не могла себе представить, что этой светской фигуре, управлявшей своей фабрикой в Кельне исключительно верхом на лошади, могли доверить важный пост в армии – этому никчемному фигляру, умеющему, однако, пустить пыль в глаза. Каким-то мистическим образом ему, видимо, удавалось поддерживать контакты на высоком уровне. Происхождение и деньги, бурчала про себя Анна, гораздо действеннее в этом мире, нежели тяжкий труд.
В порыве беспечности фон Гарлиц официально пригласил свою любовницу на ужин. Она проникла в дом, прикрываясь именем влиятельного отца; желая унизить жену фон Гарлица, она надела вызывающее платье. Анна со стажерками обслуживала гостей. Из всех приглашенных она знала одну лишь фрау Кеттлер, тетю герра фон Гарлица, жившую неподалеку и время от времени навещавшую его. Женщина неопределенного возраста, она ни разу не была замужем и жила с горсткой персонала на вилле, скрывающейся за хвойными деревьями. Горничные судачили, что до войны она владела конюшней с блестящими скаковыми лошадьми и любила галопировать по лесу на черном жеребце с охотничьим ружьем за спиной. С тех пор как лошадей конфисковали, она отводила душу в долгих прогулках с собакой, здоровенной овчаркой, которая слушалась только ее. Рождение племянника, по-видимому, позволило раскрыться ее невостребованному материнскому инстинкту – она его обожала, закрывала глаза на его недостатки и старалась о нем заботиться даже на расстоянии.
Анна, снуя с тарелками и стаканами, ухватывала фрагменты разворачивающихся за столом событий. Герр фон Гарлиц, пригласивший фрейлейн фон Виллерслейбен, учтиво с ней беседовал. Разговор шел об изобразительном искусстве: об обнаженных фигурах, изображаемых Адольфом Зиглером и Иво Селигером. Оказывается, она изучала искусствоведение в Берлине; он разыгрывал то удивление, то потрясение, задавал ей тысячу вопросов, спеша тем самым убедить сидящую напротив жену в том, что со своей соседкой по столу он видится впервые. Последняя ему ловко подыгрывала – они оба разгорячились, как если бы посредством речей об искусстве занимались любовью на глазах у фрау фон Гарлиц. Как и все остальные, графиня уже давно знала об их романе; какое-то время она хладнокровно наблюдала за этим театральным представлением, пока наконец ей не надоела роль наивной обманутой супруги и зрительницы – роль, которую ей навязали в присутствии многочисленных гостей. Не теряя самообладания, она встала, подняла только что наполненный Анной бокал красного вина, как будто собираясь произнести тост, и выплеснула его содержимое в лицо своего мужа. С испуганными воплями фрейлейн фон Виллерслейбен вскочила со стула, опасаясь за свое платье. В ту же секунду с другого конца стола примчалась фрау Кеттлер промокнуть салфеткой лицо дражайшего племянничка и как можно скорее загладить скандал. Анна облегченно вздохнула: как гора с плеч – фон Гарлицу, очевидно. было мало своих любовных интрижек, он испытывал садистское удовольствие, унижая при этом и провоцируя жену. Посмеиваясь над гротесковой услужливостью его тети, Анна выскользнула из залы с пустым блюдом в руках.
В тот же вечер фрау фон Гарлиц приказала заложить лошадь и отправилась на станцию. Она исчезла, ни с кем не простившись и оставив гостей в полном недоумении. Герра фон Гарлица осаждали молчаливыми упреками. Он должен был призвать к порядку свою жену, хозяйку, мать его детей. Мужчине его ранга, с его биографией и на такой должности надлежит держать жену в узде. В конце концов, они ведь не какие-нибудь разнузданные цыгане или славяне, идущие на поводу у своих эмоций. Несколько дней спустя он заболел. Задетая гордость, угрызения совести, стыд? По ночам у него поднималась температура; обливаясь потом, он маялся на промокших простынях и бредил. Рядом с его постелью дежурила Анна, с удовольствием взяв на себя роль богини мщения. Смоченным в воде полотенцем она увлажняла ему лоб и виски, поила и убаюкивала. Но как только температура начала спадать, она, не стесняясь в выражениях, выпалила ему все, что думала.
– Скажите спасибо, что у вас такая жена, – сказала она презрительно.
У него еще не было сил нанести ответный удар. Словно умирающий на фронте солдат, он лежал на подушках с опухшими веками и колючей щетиной. Она безжалостно продолжала:
– Жена с таким стилем, шармом и характером! Подумайте об этом, у вас сейчас уйма времени.
Он смотрел на нее лихорадочным взглядом больного ребенка, которому рассказали страшную сказку, с той лишь разницей, что сейчас ему приписывали сходство не с героем, а с чудовищем и драконом.
Через две недели фрау фон Гарлиц вернулась домой – образец аристократического самообладания с легким налетом цинизма. В доме облегченно вздохнули; момент для супружеских ссор был выбран неудачно – все они блекли на фоне одного гигантского конфликта, в который втянули весь народ. Уже несколько месяцев Мартин пытался получить увольнительную, чтобы хоть на пару недель поехать с Анной в Вену и пожить как муж и жена в их доме, знакомом им лишь по медовому месяцу. Однако его старания ни к чему не приводили. Оставалась единственная возможность: проявить готовность пройти краткосрочные офицерские курсы. Мысль о возможной карьере в армии была ему отвратительна, но он таки не устоял перед соблазном оказаться в Вене и сделать хоть крошечный глоток свободы: на какое-то время вырваться из гигантского беличьего колеса тотального самоотречения и самопожертвования, которое вот уже четыре года вертелось в интересах никому не нужной войны. Его поместили в школу для унтер-офицеров в западном районе Берлина Шпандау. Во время учебы он жил в отрыве от цивилизации. В день окончания учебы Анна ждала его у ворот с чемоданом в руке.
– Вы кто? – постовой спешно ступил вперед. – Предъявите документы.
– Я пришла за своим мужем, Мартином Гросали, – сказала Анна, оскорбленная подобным недоверием, – он сегодня получает увольнительную.
Постовой побледнел.
– О Господи, пожалуйста, не входите сюда.
Она поставила чемодан на землю и дружелюбно взглянула на него.
– Их наказали, – прошептал солдат, смущенно почесывая за ухом. После некоторых колебаний он рассказал ей о случившемся. Готовая к отъезду группа построилась во внутреннем дворике и, можно сказать, одной ногой уже была за воротами. Оставалось лишь в унисон попрощаться воодушевленным «Хайль Гитлер!». По мнению коменданта, это прозвучало слишком тихо. «Громче!» – потребовал он. По-прежнему без особого убеждения, но с большей силой в голосе группа повторила обязательный салют. «Громче!» – ревел комендант так, как если бы на карту была поставлена не только честь фюрера, но и его собственная. «Хайль Гитлер» все еще звучало невыразительно, точно граммофонная пластинка, никак не желающая раскрутиться на полную мощность. «Мы еще посмотрим, пойдете ли вы сегодня домой!» Им приказали раздеться и запереть одежду в шкафы. Затем выгнали на улицу, налево, направо, заставили приседать и ползать в грязи по-пластунски. Урок унижения и покорности, который запомнится им до конца войны.
– Пожалуйста, – снова прошептал постовой, – приходите через часик и притворитесь, что ничего не знаете. Им всем очень стыдно.
Анна бросила взгляд на плотно закрытые ворота, за которыми по берлинской грязи ползал Мартин. За эту грязь тысячелетнего рейха Мартин должен был жертвовать своей, а значит, и ее жизнью. Она взяла чемодан и свернула наугад в одну из улиц, а затем в другую. Когда она вернулась к казармам, он ее уже ждал – безукоризненный, блестящий, веселый.
– Как ты поздно, – сказал Мартин изумленно. Он ни словом не обмолвился о наказании. Они научились игнорировать войну в присутствии друг друга, как существа высшего порядка, глухие к барабанной дроби.
После их пребывания в Вене его перевели в Дрезден. Наступила осень. Анна, связавшая и сшившая уже целый чемодан детской одежды, до сих пор не беременела. В отличие от Ханнелоры. Весной та вышла замуж и переселилась в Людвигслюст в Мекленбурге, откуда писала Анне ностальгические письма. Фрау фон Гарлиц, всегда делившая радости и горести своего персонала, предложила доставить будущей матери для подкрепления сил посылку с продуктами и отправила Анну в Людвигслюст. Вновь Анна оказалась в поезде, следовавшем в Берлин. Непроизвольно в памяти всплыл тот день, когда она в полушинели, в охотничьей шляпе и с картонной коробкой, где умещались все ее пожитки, ехала в Кельн. О своей провинциальной наивности она вспоминала с чувством легкого стыда; тогда ей предстоял еще долгий путь от свинарника и навоза до столового серебра на камчатой скатерти. Внезапно поезд резко затормозил и остановился, выдернув ее из мечтаний; затем медленно набрал скорость и, дергаясь всем составом, въехал в Берлин. За окном купе выросла серая стальная стена, без начала и конца, точно предвестница туннеля. Однако стена двигалась… она состояла из дыма, чада и мелкого щебня. Поезд дал задний ход, после чего наконец нерешительно проследовал на станцию. Еще не вполне расставшись с буднично-заурядной атмосферой купе, Анна сошла с поезда.
В этот момент с ней случилось то же, что и с сотнями ее попутчиков: стоило им ступить на перрон, как их рефлексы проявили свою власть – люди бросились в рассыпную, все вокруг заполыхало, перекрытие перрона скрежетало так, словно в любую минуту готово было рухнуть им на голову. Кто-то оттащил ее из-под падающей стальной балки, дым щипал глаза и горло, вслепую она продиралась сквозь толпу прочь от огня… Воздушная тревога, кто-то затолкнул ее в бомбоубежище, где она слилась с дрожащей, потной массой, напряженно слушающей завывание и грохот. Земля содрогалась; здания, поезда, люди – все вот – вот превратится в пыль; нелепый всеобщий конец, лишенный смысла. Ради чемодана с колбасой и салом.
Прошло трое суток, прежде чем она смогла выбраться из восточной части Берлина и достичь района Шпандау на западе города. Трое суток в преисподней; иногда в последний момент кто-то затаскивал ее в бомбоубежище, однако их лиц разглядеть она не успевала. Кто-то давал ей пить, и она плелась дальше, спотыкаясь об электрические кабели; где-то обрушивалась стена; она ежилась от холода, слишком уставшая, чтобы испытывать страх. Потом снова наступала ночь, визг сирен, бомбоубежище, она засыпала от изнеможения, в испуге просыпалась и двигалась дальше на фоне декораций «оперы ужасов»; кто-то поделился с ней едой. Шпандау? Существовал ли еще Шпандау, или же она держала путь в дымящиеся развалины? Почему бомбардировки продолжались день и ночь – неужели Берлин, Германию хотели стереть с лица земли?
В какой-то момент со своим опаленным чемоданом она оказалась на вокзале Шпандау. Он еще стоял: разбухший поезд был готов к отправлению в Мекленбург. Ее подняли и втиснули через окно в вагон, а следом за ней и чемодан. Поезд сразу же тронулся. В оцепенении она села на чемодан – похоже, ей удалось это пережить, хотя сейчас уже было все равно. Она ехала в полубессознательном состоянии – упасть было невозможно, ее поддерживали другие обессилевшие тела. Посреди ночи они добрались до Людвигслюста, Анна была единственной, кто сошел на этой станции. В кромешной тьме она, еле держась на ногах, направилась к дому, видневшемуся смутным силуэтом вдалеке. Дрожащей рукой с трудом нашла звонок. В коридоре зажегся свет, дверь открылась – кто-то появился на пороге, увидел нечто перед собой на ступеньках и в ужасе захлопнул дверь. Вновь она оказалась в темноте, падая от усталости. И тут страх сдавил ее горло, сдавил сильнее, чем во время бомбежек, – страх первозданный, удушающий, страх быть отвергнутой, навсегда выброшенной, подобно куску грязи, подобно существу, недостойному жизни. Она принялась судорожно колотить в дверь.
– Я из Берлина… – стонала она, – пожалуйста, откройте. Мне бы только поспать.
Тишина, дом ее не впускал.
– Здесь стоит человек… приличный человек… который всего-навсего хочет спать!..
Наконец дверь открылась. Шатаясь, она вошла внутрь, упала на пол и отключилась, не успев даже взглянуть на своего столь туго соображающего благодетеля. На следующий день у нее едва достало сил, чтобы выполнить свою миссию. Неузнаваемая под маской из сажи, пыли и царапин, в разорванной одежде, она передала чемодан Ханнелоре, и слыхом не слыхавшей ни о каких бомбежках, Ханнелоре, плывущей на розовом облаке радостного ожидания. В ее безупречном доме, подготовленном для предстоящего события, колбаса, ветчина и сало, извлеченные из чемодана в целости и сохранности, выглядели каким – то уродливым анахронизмом. Анна, посмотрев на все это, безрадостно и нервно расхохоталась.
– Ах, Берлин… – вздохнула Анна. – Несколько лет назад я оказалась там снова, с подругой. Мы ехали по городу в автобусе, как вдруг подруга воскликнула: «Смотри, вокзал Анхальтер!» Передо мной стоял прекрасно отреставрированный вокзал, а секунду спустя он вдруг воспламенился. Он горел у меня на глазах… в точности как тогда… и рухнул… «Что с тобой!» – спросила подруга. Голова кружилась, в ушах звенело. «Он горит!» – крикнула я в панике. Только тогда я впервые об этом вспомнила – никогда до той поры не вспоминала, настолько это было ужасно. Сорок пять лет я подавляла в себе эти воспоминания.
– Как они могли, – сказала Лотта, указывая вилкой с кусочком арденской ветчины в сторону Анны, – как они могли отправить тебя с чемоданом колбасы в горящий город?
– Фрау фон Гарлиц ничего не знала, никто из нас не знал. То были первые крупные бомбардировки Берлина, в конце ноября. Ваши освободители зажгли рождественские елки над городом и накрыли город ковровыми бомбардировками. Систематически, не пропуская ни одного квадратного метра. Но кто-то всегда выживает… я, например.
На циничном «ваши освободители» Лотта перестала жевать. Как бы ни старалась она представить себе пылающий Берлин, перед глазами неуклонно возникал Роттердам или Лондон. Берлин оставался абстракцией, точкой на карте.
– Мартин написал фрау фон Гарлиц письмо: «В таких обстоятельствах я запрещаю вам посылать мою жену куда бы то ни было». – Анна рассмеялась. – Но были другие времена. Чем дольше длилась война, тем насущнее становилась проблема пропитания.
Лотта поддержала эту мысль с набитым ртом, уплетая салат, – в голодную зиму на таком можно было продержаться целую неделю.
Лотту поглотил молох домашнего хозяйства, и теперь ей было не до угрызений совести. Нескончаемое помешивание каши, приготовленной на пахте в гигантских кастрюлях; чаны со свежевыстиранным бельем, а через два метра – раскаленный утюг. Мать, на которой держалось неуклонно разрастающееся семейство, болела; в матке обнаружили опухоль, требующую немедленного оперативного вмешательства. Перед операцией она позвала к себе Мари, Йет и Лотту.
– Обещайте мне… если со мной что-нибудь случится… и меня вдруг не станет… вы возьмете на себя заботу об укрывающихся в доме людях. Я боюсь, что, разъярившись, отец выставит их всех на улицу… В последнее время он все чаще грозится это сделать. Ему все обрыдло…
Она серьезно, почти торжественно посмотрела на каждую из них.
– До сих пор мне удавалось его успокоить, скрывать его нападки на всех. Этого дополнительного напряжения им не вынести…
В испуге они не сводили с нее глаз. От одной только мысли об этом у них спирало дыхание. Все трое сразу же поняли, что мать тревожилась не без оснований. Они хорошо его знали. В старые мирные времена ему требовался скандал, предпочтительно за счет детей, его самых больших конкурентов. Так почему бы теперь, для разнообразия, не за счет людей, прятавшихся в их доме? Конечно, он и сам им помогал, но относился к ним неоднозначно. Когда они приходили и обращались к нему с просьбой о помощи, он не мог позволить себе им отказать. Хотел ли он поддержать свое доброе имя? Как меломана в случае с Фринкелями, дедушкой Таком, Эрнстом Гудрианом? Как коммуниста в случае с Леоном Штайном? В отличие от матери, ни о каком спонтанном душевном порыве не было и речи, хотя и он, конечно, случалось, впадал в сентиментальность, обусловленную соответствующей фоновой музыкой.
Когда пациентка очнулась от наркоза, Йет, Лотта и отец стояли по обеим сторонам кровати. Она лежала в постели бледная и устрашающе хрупкая: тусклые каштановые с проседью волосы разбросаны по подушке, взгляд мутный, словно витающий еще в туманных сферах небытия. С неожиданной силой она схватила мужа за руку.
– Позаботься… обо всех, – прошептала она. Это прозвучало как нечто среднее между молитвой и приказом. Лотта обошла кровать, встала рядом с отцом и кивнула от его имени, сожмурив глаза, как если бы давала гарантию охранять каждого от пресловутых перепадов настроения хозяина дома. Сам же он мучительно ждал, когда сможет с честью покинуть больницу, этот пахнущий эфиром дворец смерти, где он появился ценой исключительного самопожертвования.
Мать вернулась домой своей тенью. Она сильно похудела, от былой жизненной силы, таинственной природной стихии, не осталось и следа. Натужно улыбаясь и опираясь о край стола и стулья, она проковыляла по комнате. Растроганный возвращением своей Эвридики из подземного царства, ее муж поставил для нее «Орфея» Глюка, что так и осталось единственной его лептой в ее выздоровление.
На свой день рождения Эйфье получила отрез синего бархата, чтобы мастерить из него одежду для кукол. Дорогой подарок она спрятала в потайной ящик в своей комнате. Открыв однажды ящик, она обнаружила его пустым. С замиранием сердца она обыскала другие ящики, всю комнату, дом. Плача от досады, она обошла всех обитателей дома.
– Вы не видели мой бархат? – этот риторический вопрос стал символом всего, в чем они испытывали нужду. В конце концов, откинув назад свои косички, она нажала на дверную ручку комнаты, где до сих пор не искала, – вот уже многие годы, даже во время войны, вход туда был строго-настрого запрещен. То была электротехническая святыня ее отца. С порога она смущенно окинула взглядом натюрморт на верстаке. Среди патронов, винтиков, ламп, проводов и предохранителей красовалась, подобно фазану на картине художника семнадцатого века, пачка масла, а также свежий хлеб, сыр и паштет. Уличенный на месте преступления, он поднял голову, смахивая крошки с уголков рта.








