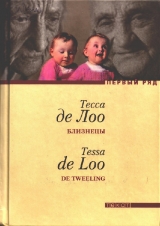
Текст книги "Близнецы"
Автор книги: Тесса де Лоо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 24 страниц)
Но тот не смутился, а терпеливо подыскивал аргументы, чтобы убедить ее в своем мнении. В то же самое время его уроки политики и полемологии [100]100
Полемология – наука о войне как социальном явлении.
[Закрыть]были скрытой формой утонченного обольщения – Анне, не глухой к эротическим ноткам, удавалось держать его на расстоянии вежливыми возражениями. Бад-Нойхайм кишел немецкими солдатами, потерявшими руку или ногу; опустошенные, они сидели на лавочках и молча смотрели на проходящих мимо американцев, покоривших не только их родину, но и их женщин. Анна представила среди них Мартина – от подобной картины защемило сердце.
Как-то вечером американец пригласил ее на «party».
– А что это? – спросила она.
– Ну… – он погладил свой гладковыбритый подбородок, – мы немножко поедим, немножко выпьем, немножко повеселимся…
– А потом? – спросила она подозрительно.
– М-да, а что потом… Это пойдет вам на пользу, вы молоды, вы не можете вечно грустить.
– Спасибо, не надо, – покачала она головой, – конец вечеринки для меня очевиден.
– Но я ведь, в конце концов, мужчина, – оправдывался он.
– А я – женщина, – добавила она, – и мой муж погиб год назад. Простите меня, но вы же не думаете всерьез, что я пойду с вами на «party»?
Она произнесла это слово так, будто надкусила горький миндаль. Он смиренно склонил голову. Как солдат, как мужчина и как мастер слова он не мог одолеть ее сопротивления. На следующий день его перевели на другое место службы. Анне доставили огромный букет красных роз, доказательство фривольной расточительности во времена дефицита. В цветы была вложена открытка: «Первой немецкой женщине, сказавшей "нет"».
Тем временем для нее организовали переезд. Перевозчик из Бад-Нойхайма, имевший разрешение пересекать границу зоны, проявил готовность переправить ее в Кобленц. Он ехал на запряженной лошадью телеге; Анне надлежало улечься со своим чемоданом на дно, покрытое брезентом, после чего в телегу загрузили мешки с неизвестным содержимым, оставив лишь небольшое отверстие для воздуха. Легкомысленные американцы пропустили телегу без проверки, французы же наугад потыкали мешки штыками, едва не задевая Анну, которая бесстрашно вдыхала запах брезента и ждала. На вокзале в Кобленце возница помог ей вылезти и признался, что молился за нее, обливаясь холодным потом.
В тот вечер поезда уже не ходили. Толпа застрявших путешественников спала в здании вокзала. Анна обосновалась на полу рядом с пожилым мужчиной, который, накинув на сутулые плечи залатанную шинель, со смаком тянул вино прямо из бутылки; затем, щедрым жестом пуская ее по кругу, намазывал маслом ломти белого хлеба и раздавал их ближайшим соседям. Анна отмахнулась от угощения, но он, всовывая ей в руку бутылку, настаивал на своем с видом, не терпящим возражений.
– У меня еще полно, – беспечно усмехнулся он, дрожащим пальцем указывая на сумку.
Анна больше не колебалась, восторженная атмосфера вокруг щедрого старца заражала весельем. Все нахваливали виноградники в долине Мозеля, бутылки переходили от одного дегустатора к другому. Анна растянулась на полу, положив чемодан под голову, и задремала. Утром ее разбудили – завтрак состоял из того же, что и вчерашний ужин. Забыв о своих заботах, они запели; светило осеннее солнце, трирский поезд, пыхтя, подошел к перрону. В купе они продолжили гулянье.
На полпути поезд остановился – на отрезке в несколько километров отсутствовали рельсы. Они пошли пешком, распевая походные песни и прикладываясь к бутылке; солнце блестело в елочном дожде дикого хмеля, разросшегося вдоль железной дороги. Чуть дальше ждал другой состав. Ничто не могло испортить праздничного настроения.
– А это что еще за сборище, – проворчал священник, сидевший у окна. – Это вино, эти пьяные речи.
Он с раздражением схватил свой часослов и принялся молиться, дабы оградить себя от творящегося рядом безобразия.
– Хотите глоточек? – Анна, смеясь, протянула ему бутылку.
Плотно сжав губы, он покачал головой. В Бернкастеле все сошли, оставив ее одну в компании со священником. Она свесилась из окна, чтобы помахать помятому филантропу, излучающему столь бурное веселье. Тот, пошатываясь, ковылял по перрону навстречу своей жене, которая ястребиным взглядом уже завидела пустую сумку.
– Где хлеб… – бранилась она, – где масло, где…
Сморщенный старичок воздел руки к небу.
– В раю… – вздохнул он.
Поезд тронулся. Разбуженная вином радость сменилась печалью. Анна смотрела на все уменьшающуюся фигурку на перроне, и невольные слезы стекали по ее щекам. Она снова села на свое место, священник озадаченно оторвал взгляд от молитвенника. Вспомнив о своих христианских обязанностях, он поинтересовался, почему она плачет.
– Потому что на том перроне осталась радость.
Она пояснила, что с октября 1944 года светлые моменты в ее жизни были наперечет. К тому же веселье уже не было таким беззаботным, как раньше, – оно укоренилось в отчаянии. Знакомый с такого рода парадоксами (страдание ради спасения было одним из них), он кивнул.
Уже стемнело, но они еще не прибыли в Трир.
– У вас есть где переночевать? – деловито спросил он.
– На вокзале, – лаконично ответила Анна.
Он неодобрительно на нее посмотрел.
– Почему, вы думаете, я так выгляжу?.. – Она указала на свою грязную одежду.
Он задумался.
– Если я отведу вас к монахиням в монастырь, вы пойдете?
– Господи! – воскликнула она. – Неужели монастыри еще существуют?
– Да, конечно.
– В такие времена?
– Да, – сказал он уязвленно.
– Конечно, пойду.
В Трир Анна приехала в состоянии похмелья. Совершенно разбитая, она сошла с поезда.
– Следуйте за мной, – велел преподобный отец.
Он вел ее по темному городу. На ремне, как собаку, она тащила за собой тяжелый чемодан, подпрыгивавший на ухабистых булыжниках. Из страха себя скомпрометировать, священник шел на расстоянии десяти шагов от нее и не оборачивался. Скорее всего, им двигала не столько любовь к ближнему, сколько желание обеспечить себе место в раю: «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне». [101]101
Мф. 25,40.
[Закрыть]Еле дыша, она следовала за черной сутаной мимо темных фасадов. Каждый шаг погружал ее в историю – вплоть до римлян, чьи ворота Порта Нигра [102]102
Порта Нигра – «черные ворота» (лат.), самые большие из сохранившихся античных ворот, символ Трира, построены в 180 году.
[Закрыть]угрожающе возвышались над ней в своей мрачной массивности. Святой отец повернул направо и остановился рядом с тяжелой окованной железом дверью. Он постучал, пробормотал несколько слов и исчез, не попрощавшись и не подав ей руки – служитель Господа был лишен каких бы то ни было проявлений человечности.
Божьи служительницы иначе смотрели на свою избранность. Увидев Анну, они всплеснули руками и тут же начали действовать. Наполнив ванну теплой водой, они забрали ее грязную одежду; пока Анна мылась, монастырь был охвачен ночной активностью. Завернутую в чистое полотенце, Анну отвели в гостевую комнату, где она легла в свежую постель и с образом улыбающейся монахини перед глазами тут же заснула. Когда на утро она открыла глаза, ее серая в полоску униформа медсестры лежала на столе, блестя на солнце, – выстиранная, накрахмаленная, отглаженная.
В Саарбург она прибыла безупречной сестрой Красного Креста. История повторилась: Ильзы опять не оказалось на месте – защитница интересов ее жениха, до сих пор находившегося в плену, настояла на быстром отъезде ввиду неприятной перспективы приближающейся зимы. Однако работа для Анны нашлась: все это время ее терпеливо дожидалась редкая по своей мерзости задача. В отместку за пять лет войны люксембуржцы пересекли границу и дали волю своему недовольству в набеге на имущество деревенских жителей. Стены и окна деревянно-кирпичного дома Ильзиных родителей были перепачканы навозом; из шкафов вытащено сплошь загаженное белье – они сидели на нем, рассказывала женщина, едва сдерживая ярость, и прямо у нее на глазах производили продукт своей мести. «Зуб за зуб, вы понимаете, отвратительный народ, эти люксембуржцы». Она слишком хворала, чтобы самой заняться генеральной уборкой, а ее муж целые дни проводил на лесопилке.
Анна закатала рукава и приступила к делу. Десять лет назад она покинула хлев, чтобы теперь снова в нем оказаться – какая разница. Но когда водитель грузовика лесопилки предложил подбросить Анну куда ей нужно, она швырнула тряпку и щетки в угол – довольно с нее обходных путей. Мать Ильзы, знавшая, что привело усердную уборщицу в их края, вынуждена была ее отпустить. Моросил дождь, грузовик довез ее до Дауна в Айфеле. Дальше она пошла пешком, пробираясь сквозь бесконечный хвойный лес, тонущий в тумане из мелких капель. Она замерзла, вода просочилась в ботинки, но, веря, что цель близка, она не обращала внимания на неудобства. Эта пустая дорога среди мрачных елей, бегущая с холма на холм, соответствовала представлениям о паломничестве в подземный мир. Анна не боялась, конец путешествия был не за горами, потом ей уже нечего будет желать, потом… никакого «потом» не предвиделось. Холод пробирал до костей, она продвигалась все медленнее, подошвы ботинок стерлись и оторвались, болтаясь при каждом шаге. Она видела лишь блестящие черные стволы и мокрые ветки – и хотя тело подавало сигналы «стоп», воля неумолимо толкала ее вперед. В какой-то момент ему надоело смотреть на ее мучения, и он вмешался. Послушай, дорогая, сказал он жалостливо, ступай домой. Чего ты хочешь, меня же все равно там нет… Поначалу Анна игнорировала его уговоры, но когда он – как всегда, заботливо – остановил для нее встречный автомобиль, медленно выплывший из тумана, она сдалась. Сегодня ты победил, признаюсь, но я обязательно приду… в другой раз…
Вернувшись в Саарбург, она возобновила уборку. Негодование в адрес люксембуржцев не оставляло ее, преследуя во всех комнатах.
– Как вы здесь выдерживаете? – спросила Анну старая женщина, проживавшая в задней части дома. – Вы же не собираетесь заниматься этим до скончания века?
– А что мне еще делать, – защищалась Анна, – я жду Ильзу.
– Господи, тогда вам придется долго ждать. Кто знает, когда она решит свои проблемы. Послушайте, у меня есть предложение. В Трире живет моя знакомая, учительница гимназии на пенсии. Ей нужна помощь по хозяйству. Может, это вас заинтересует?
Анна медленно кивнула – в конце концов, ее жизнь состояла из сплошных импровизаций.
Кайзерштрассе была знакома ей по ночной прогулке в кильватере священника. Там она встретила занимательного человека, полного непостижимых противоречий, – Терезу Шмидт, худую, гибкую женщину с жидкими седыми волосами, подколотыми гребнем, жадную до всего материального, но щедрую и отзывчивую во всем, что касалось работы мысли. Каждый день на загородной ферме своего брата она набивала живот хлебом, мясом и молочными продуктами. Однако на ее фигуре это чревоугодие не отражалось. Она без стеснения распространялась на эту тему, ни разу не подумав о том, чтобы хоть раз угостить чем-то Анну, которая пыталась остаться в живых с помощью двух кусков хлеба и нескольких картофелин в день. Такой рацион установили французы в ответ на испытанный ими самими голод. Невиданная алчность фрау Шмидт не сочеталась с ежедневными походами в церковь, чтением Библии и пылкими молитвами – никогда еще Анна не сталкивалась так близко со столь ханжеским религиозным рвением.
В доме было много книг; в перерывах между домашними делами Анна утоляла вернувшийся из прошлого книжный голод. Когда после очередного визита к брату учительница застала Анну за чтением, то в изумлении придвинула к ней стул.
– Провести всю жизнь на кухне – не ваше призвание, я поняла это сразу. А кем вы, собственно, хотите быть?
– Понятия не имею… – Такой внезапный интерес к ее персоне застал Анну врасплох.
– Неужели вы ни о чем не мечтаете? "
Анна нахмурила брови, Данте соскользнул с колен, но был вовремя подхвачен субтильной рукой фрау Шмидт. Мысль обладать такой свободой, чтобы самой выбирать профессию, казалась столь революционной, что парализовала мышление. Сначала нужно было перечеркнуть уже сложившийся образ мира, где женщины делились на три категории: обширный низший слой крестьянок и служанок, тонкий верхний слой привилегированных женщин, выполнявших декоративную роль образованной элегантной хозяйки, и, наконец, все остальные незамужние женщины, работавшие в сфере образования, ухаживавшие за больными или служившие Господу в монастыре. При этом ни одна из женщин не выбирала свою судьбу, в той или иной категории они оказывались либо по рождению, либо в силу различных обстоятельств. Фрау Шмидт повторила свой невинный вопрос.
– М-да… – вздохнула Анна.
У нее закружилась голова – то ли от холода, то ли от столь щекотливой темы. Ее мысли стремительно перенеслись в прошлое, в поисках примеров, призывая на помощь кого-то, кто мог бы ответить за нее… Так она очутилась в темной, душной, крохотной комнате, где пахло потными ногами и на стене висел погибший солдат, родившийся, чтобы умереть за родину (снова пример неотвратимого, очевидного предназначения). Напротив, спиной придавив дверь, стояла женщина, простирающая к ней руки: иди сюда…
– Защита детей… – выпалила Анна, – думаю, я всегда этого хотела.
– Понятно… Но почему же тогда вы этим не занимаетесь?
– Это невозможно, – сказала Анна хриплым голосом, – сначала мне нужно сдать экзамен…
Фрау Шмидт рассмеялась:
– И только-то!
Из своего прошлого, связанного с работой на ниве просвещения, она выудила учителя, который согласился натаскать Анну к государственным экзаменам. Анну пригласили присоединиться к женщине, уже бравшей у него уроки. Отныне каждый вечер по вековым улицам, минуя развалины и падающих от голода людей, она направлялась к дому учителя – в стертых резиновых калошах поверх стертых башмаков.
– Послушайте, вам не нужно ни во что вникать, – втолковывал ей учитель, – на экзамене от вас требуются лишь верные ответы. Учите их наизусть!
Когда Анна рядом со своим гордым отцом декламировала «Песнь о колоколе», уже тогда все поражались ее памяти. Теперь же учитель разводил руками, изумляясь скорости, с которой Анна следовала его советам. Он прогнал ее по грамматике, основам математики, истории, географии, немецкой литературе. Через две недели он сказал:
– Я здесь имею дело с двумя неравноценными лошадками. Вы мчитесь вперед во весь опор, другая за вами не поспевает. Мне придется вас развести.
Голова была абсолютно пуста – войну Анна глубоко запрятала, а ключ выбросила. Места для умопомрачительного количества сведений, столь приятно-нейтральных в своем качестве культурного достояния, было предостаточно. Она зубрила и зубрила, иногда почти теряя сознание от стремительности поглощения информации.
– Вам нехорошо? – спрашивал учитель.
– Да… – рассеянно отвечала она.
– Что вы ели?
– Пару картошек…
– Черт побери, почему вы не сказали раньше?!
Он сварил ей овсянку.
– Не беспокойтесь, я получаю продукты из английской зоны.
Каждый день уроки начинались с тарелки каши: сперва тело, потом дух – таков был его подход. Он также указал на ее калоши, отжившие свой век. В доме ее работодательницы стояло по меньшей мере десять пар ботинок того же размера, но ей и в голову не приходило отдать одну пару Анне. Учитель обменял две бутылки можжевеловой водки на добротные кожаные башмаки. Дома Анна в восторге их продемонстрировала. Фрау Шмидт лишь равнодушно подняла брови:
– Ну и что?
Накануне Рождества она направилась к своему брату, чтобы заранее запастись продуктами для праздничного ужина. Перед отходом она бросила, что по возвращении хочет принять ванну, дабы очистить тело перед тем как заняться душой во время ночной мессы. Анне надлежало все приготовить и нагреть большой котел воды на печке в кухне. Уже стемнело, когда в дверь неожиданно позвонили. На пороге стояла женщина, прижимавшая к груди завернутого в тряпки, плачущего малыша. От истощения она чуть было не упала в обморок прямо на крыльце. Анна подхватила ее, отвела на кухню и взяла у нее ребенка, от которого исходил такой запах, будто ему не меняли пеленки неделями. Краем глаза она взглянула на дымящийся котел и ушат – для милостивой госпожи все готово. Недолго думая, Анна налила ванну, распеленала младенца и выбросила вонючие тряпки в коридор. Искупав ребенка, она укутала его во фланелевую простынь. Матери сунула бутерброд, вареную картошину и чашку черного кофе. Никто не проронил ни слова, все происходило в поспешной последовательности самих собой разумеющихся действий – на фоне постоянной угрозы появления фрау Шмидт, которая в любую минуту могла вернуться домой. А что теперь, лихорадочно размышляла Анна, куда им податься? В монастырь! К монахиням, к этим бескорыстным ангелам! Она накинула пальто и отвела незнакомцев к урсулинкам, с жадностью принявших их под свое крылышко. На обратном пути ее охватило приятное чувство совпадения во времени: стоял сочельник, и на постоялом дворе не было ни одной свободной комнаты! Небо над развалинами Трира было усыпано звездами, и Анна шла под ним в своих новых ботинках. На какое-то время воцарилось всеобщее равновесие.
Она вернулась домой одновременно со своей хозяйкой. Обнаружив, что вместо горячей ванны ее ждет ушат грязной воды, учительница вышла из себя. Театрально подняв руки, она обрушила на Анну поток обвинений.
– Подождите, – перебила ее Анна, – я налью новый котел, поставлю его на огонь и все уберу. Это займет всего несколько минут.
Фрау Шмидт успокоилась лишь после того, как порядок был восстановлен и вид кухни совпал с картинкой, возникшей в ее голове, когда, розовая и сытая, она возвращалась домой с фермы брата.
В церкви появилась пахнущая мылом и накрахмаленным бельем. Сидя на скамейке, она пела, радовалась и страстно молилась – ангельским голоском, которым всего час назад отчаянно сквернословила. Анна стоически за ней наблюдала. На обратном пути фрау Шмидт сказала:
– И все-таки я не понимаю, как вы могли впустить в мой дом какую-то грязную нищенку с ее вонючим отпрыском.
Анна остановилась, посмотрела ей прямо в глаза и невозмутимо процитировала только что услышанные слова священника: «И родила Сына Своего первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице». [103]103
Лк. 2,7.
[Закрыть]
– Ты уходишь от ответа игрой слов… – буркнула учительница и пошла дальше.
И все-таки Анна получила рождественский подарок. Не теплые чулки или кофту, не молоко или мясо, но латинский служебник: Сакраментарий, Lectionarum и Graduale – тонкий намек на то, что в области христианства ей еще следовало многому научиться.
Альтруизм фрау Шмидт касался исключительно дидактической сферы. Ей пришлось нелегко в поисках социальной работы для Анны. Введенные нацистами образовательные учреждения были закрыты; остался лишь один приличный католический институт в Северном Рейне-Вестфалии. Директор института незамедлительно ответила на ее безукоризненное письмо: в марте она планировала посетить трирскую семинарию и смогла бы лично оценить знания протеже фрау Шмидт.
Защищаясь от пыли, поднимавшейся с развалин, Анна повязала голову платком, который развевался на ветру. Чем ближе она подходила к семинарии, тем сильнее сковывал ее предэкзаменационный страх. Высокомерная и вспыльчивая директорша, не дав ей перевести дух, тут же подвергла ее строгому допросу.
– Почему вы хотите стать социальным работником? – спросила она резким, даже грубым тоном, как будто еще ни разу не сталкивалась со столь нескромным, нахальным желанием.
– Я хочу помогать людям, – тихо ответила Анна.
– Почему?
– Потому что хочу помогать людям! – повторила Анна, повысив голос и забыв обо всех правилах приличия.
Повисла неловкая тишина. Я все испортила, подумала Анна, быстро же мне это удалось. Но почему она обращается со мной как с собакой? Даже собаку и ту гладят, приговаривая: какой милый песик. Наконец она прервала молчание:
– Я сама была ребенком, нуждающимся в помощи.
Снова тишина и насмешливый сверлящий взгляд важной персоны, от которой зависела ее судьба.
– Можете идти, – отрезала женщина.
Анна вернулась домой с удрученным видом. Фрау Шмидт тут же набросилась на нее с расспросами:
– Ну, как все прошло?
– Пиши пропало! Меня не возьмут.
Учительница недоверчиво фыркнула. У нее были свои каналы для получения объективной информации; спустя несколько дней она объявила о победе.
– Ты произвела на нее сильное впечатление. Эта, по крайней мере, знает, что хочет, сказала она аббату.
Анна устало на нее посмотрела. У нее не было ни малейшего желания слушать ее выдумки. Однако почта подтвердила ее правоту. Ей доставили замусоленную, надорванную телеграмму: «Семестр начинается 1 сентября».
Прощайте, учительница фрау Шмидт! Однако перед тем как отправиться в Северный Рейн – Вестфалию, она решила совершить вторую попытку. На этот раз у нее была надежная обувь, светило солнце, почтовые машины подбросили ее прямо до деревни. Она вышла в центре, деревенские жители указали ей дорогу. С букетиком набранных по дороге цветов она толкнула скрипучую калитку из кованого железа. От калитки вела тропинка, разделяя ряды могил. Впереди – самые старые: заросшие мхом, с потускневшими от дождя и мороза фамилиями на покосившихся камнях и потрескавшихся могильных плитах. Посередине – подстриженные тисы. Тишина, только птицы поют. Чуть дальше – могилы посвежее. Одна из них сразу бросалась в глаза, поскольку была квадратной, а не продолговатой, а три самодельных деревянных креста накренились так, словно искали друг у друга поддержки. Анна интуитивно направилась туда, как вдруг в ней зашевелился необъяснимый страх – вдруг он окажется прав, и именно здесь она его не найдет… а он будет смеяться над ее наивностью, там, во всех сторонах света… Но пути к отступлению не было, она шла к этим двум жалким квадратным метрам с момента своего освобождения из американского плена. Шаг за шагом, она робко приблизилась к своему отрезвлению. На каждом кресте готическими буквами были вырезаны имена, его – на среднем. Земля покрыта свежей хвоей, на ней – белые розы. От кого и кому были эти цветы? Она опустилась на колени, положила рядом свой полевой букет и уставилась на его имя в надежде хоть как-то ощутить его присутствие. В памяти возник загорелый бодрый солдат, провожавший ее на вокзале в Нюрнберге: «Этот кошмар скоро кончится…» Если он и продолжал жить где-то, то у нее внутри – здесь ей стало это понятно.
– Что вы делаете на моей могиле? – нарушил тишину женский голос позади нее.
Анна остолбенела. Не оборачиваясь, она произнесла с достоинством:
– Если кому-то в мире и принадлежит 3fа могила, то мне. Здесь похоронен мой муж.
Из еловой кроны зазвучало пение черного дрозда, прерываемое приглушенными всхлипываниями. Анна обернулась. На нее смотрела молодая девушка с опухшими глазами. И хотя могила хранила молчание (самое непопулярное качество всех могил), к Анне закрались ужасные подозрения. Здесь лежат еще двое, успокоила она себя.
– Вы фрау Гросали… – спросила девушка таинственным голосом.
– Да, да… – нетерпеливо ответила Анна. – Я фрау Гросали, а вот какое отношение к моему мужу имеете вы?
Девушка беспомощно подняла глаза к небу, как будто ожидая знцка свыше. Как ни силилась, Анна не могла ее вспомнить. Их взгляды бегло пересеклись.
– Я сейчас все объясню, – пробормотала девушка и откашлялась. – Он был расквартирован у наших соседей… мы познакомились с ним через ограду, моя мать и я… нам он сразу очень понравился…
Она робко продолжала свой рассказ. Вот таким необычным образом – через женщину, которую последней видел перед смертью, – Мартин обращался к Анне, посвящая ее в детали своей гибели. Только теперь его абстрактная гибель – der Heldentot Ihres Mannes [104]104
Героическая гибель Вашего мужа (нем.).
[Закрыть]– приобрела конкретные очертания. В какой-то момент он еще жил, видел, слышал, обонял, говорил, смеялся, а чуть позже пришлось собирать его останки. Тихим голосом девушка описала тот день в сентябре 1944 года. Контору в Прюме, где она работала, закрыли, поскольку вся область стала фронтовой зоной и транспорт не ходил. Она вынуждена была остаться дома. Она сидела на скамейке в саду, когда офицер пожелал ей доброго утра и крикнул, что получил приказ об отправке в Вестфалию со своими солдатами, чтобы захватить бункер с сигнальной аппаратурой. Она вскочила с места. «Можно мне доехать с вами до Прюма? – спросила она в невольном порыве. – У меня там сумка с вещами». Он покачал головой: «На дорогах небезопасно, американцы обстреливают нас со всех сторон». Но она продолжала настаивать и умолять взять ее с собой. «Ладно, раз уж вы так хотите».
Они отправились в путь, грузовик лавировал на лесной дороге; время от времени вдалеке что-то взрывалось, листья и ягоды дрожали на ветках, потом снова все стихало. «Боже мой, – вдруг в панике воскликнула она, – я забыла ключи!» Мартин успокоил ее: «Вам они не понадобятся, вот увидите, там наверняка выбиты все окна, так что проникнуть в здание не составит труда». – «Вполне возможно, но я все-таки хотела бы вернуться за ключами», – упрямилась она и уже собралась было вылезти из машины, как он ее удержал: «Возвращаться одной опасно». Но она не поддалась на уговоры – нужно было во что бы то ни стало забрать ключи. Попрощавшись, она пешком побрела к дому.
В середине дня связисты вернулись в деревню. Трое из них были завернуты в тряпки, точно мумии, а шесть других не получили ни царапины. Вокруг них столпились деревенские жители; смущенная и расстроенная девушка потребовала у выжившйх объяснения, не подозревая, что они и так тяготятся муками совести. Склонив голову, один из солдат рассказал о происшедшем. Грузовик подъезжал к деревне, Мартин сидел спереди между водителем и солдатом. Те, что сзади, закричали: «Останови-ка, мы хотим набрать яблок». У склона был разбит фруктовый сад, румяные яблоки вызывающе блестели на солнце. «Мы должны ехать дальше, – сказал Мартин, – если остановимся, тут же станем легкой добычей для американцев». Но солдаты не унимались: «Только на минутку…» И добродушный Мартин не устоял. «Одна нога здесь, другая там!» Шесть солдат выпрыгнули из машины и, как мальчишки-сорванцы, помчались к фруктовым деревьям. На какое-то мгновение они забыли о войне, тряся ветки и срывая яблоки, пока их не напугал взрыв. На их глазах накрытая снарядом кабина с тремя седоками взлетела на воздух.
Девушка в оцепенении слушала его, вспоминая тех, с которыми лишь несколько часов назад по – приятельски беседовала в кабине. Тем временем солдаты собрали вещи погибших; в чемодане Мартина среди книг лежала пара голубых детских туфелек и серебряная дамская сумочка. Только теперь, при взгляде на его личные вещи, она осознала всю полноту случившегося несчастья. Разразившись рыданиями, она отвернулась. Между тем кто-то воспользовался суматохой – успокоившись, она поняла, что туфли и сумочка исчезли.
Анна медленно кивнула. «Der Heldentot Ihres Mannes…» Погиб за пригоршню яблок. Наводило на мысль о яблоке, оказавшемся злополучным для человечества. Мартин прошел по российским степям и украинским нивам, пережил мороз, нападение партизан, смертельную болезнь – он прошел через всю войну, чтобы отдать жизнь за пригоршню яблок на окраине деревни в Айфеле. Какой бы нелепой и абсурдной ни казалась эта смерть, она ему подходила: он умер, доставляя радость другим. Она узнавала своего Мартина… в рассказе о его смерти он стал ей ближе.
– Это ваши цветы? – тихо спросила она.
– Мы с мамой выменяли эти розы в Трире за масло и яйца, – подтвердила девушка.
Анна окинула взглядом заброшенные могилы вокруг – квадрат с тремя крестами был заботливо ухоженным островком посреди заросших сорняками надгробий.
Девушка настояла на том, чтобы представить Анну матери. Та с чувством пожала ей руку.
– Ваш муж бы таким славным человеком…
Потом она устроила вдове такой прием, как если бы встречала долгожданного родственника из Америки. Все, что было в доме и саду съестного, вывалили на стол и снабдили приправами. Это были поминки и праздник одновременно. Мартин был мертв, но жизнь девушки продолжалась – благодаря ее навязчивой мысли о ключах.
– Я только одного не понимаю… – сказала мать при прощании, – эсэсовцы похоронили их и поставили на могилы кресты, но наш священник отказался их благословить, потому что они служили в СС. Разве это по-христиански?..
– Ты, по крайней мере, хоть могиле могла поклониться, – холодно сказала Лотта. У нее не было ни малейшего желания проникаться рассказом Анны об ее паломничестве к могиле офицера СС.
Витая в своих мыслях, Анна посмотрела на нее:
– Что ты имеешь в виду?
– В Маутхаузене не было кладбища.
Анна вытянула больные ноги. Несколько дней она тешила себя иллюзией, что боль уходит под смягчающим воздействием ванн, однако сейчас она, боль, вдруг вернулась во всей своей остроте.
– Пару лет назад я была в Освенциме… – сказала она. – Ежедневно в газовых камерах там убивали шесть тысяч людей. Мне вспомнилось прекрасное лето сорок третьего года. Приехал Мартин, мы купались в озере, уединялись на острове и проводили вдвоем сказочные выходные – я не знала, что это было мое последнее в жизни наслаждение. В то время, когда на мою долю выпало немного счастья, миллионы людей оказались в лагере смерти… Совладать с этим было мне не под силу… – Она помассировала колени. – Но счастливая или нет, помочь им я никак не могла…
Это была прописная истина. Лотта молчала.
– Сначала я не верила, – продолжала Анна. – В пятидесятые годы я впервые увидела по телевизору кадры хроники. Знаешь, что я подумала? Должно быть, американцы собрали все трупы в разбомбленных ими городах и свалили их в кучу в концентрационном лагере. У меня не укладывалось это в голове.
– И когда же до тебя наконец дошло? – язвительно спросила Лотта.
– Во время выставки «Кельнские евреи со времен Римской империи». Там правда потихоньку просочилась в сознание. Пойми меня правильно: политика меня не интересовала. Я была увлечена своей работой для меня больше ничего не существовало.
– Wir haben es nicht gewu(3t, wir hatten etwas anderes zu tun, [105]105
Мы ничего не знали, мы были заняты другим (нем.).
[Закрыть]– презрительно прокомментировала Лотта.
– Да… – раздраженно сказала Анна, – в повседневной жизни мы ничего не слышали о евреях, я не помню, чтобы кто-то об этом говорил.
Охваченная смутным пониманием тщетности разговора, Лотта поднялась с места. В комнату вошла медсестра и попросила их одеться. Близился час закрытия, сотрудникам термального комплекса не терпелось домой.
Неотвратимое семейное родство продолжало заявлять о своих правах, хотели они того или нет. Что – то неуклонно заставляло их грести против течения, навстречу друг другу.
В тот вечер они поужинали в небольшом ресторане на проспекте Королевы Астрид. Была суббота – на следующее утро можно было отоспаться. В поисках ощущения субботнего вечера сестры зашли в кафе и обосновались на кожаных диванах тридцатых годов – эпоха их молодости, когда они еще не ведали о подстерегающих их опасностях. Они выпили кофе с коньяком, из музыкального автомата доносились ласкающие слух неувядающие шлягеры пятидесятых.








