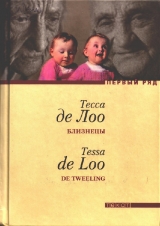
Текст книги "Близнецы"
Автор книги: Тесса де Лоо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 24 страниц)
– Этот ад… – повторила Анна задумчиво. – Расскажи мне все честно, Мартин, не скрывай от меня…
Он коснулся пальцем ее губ.
– Тсс…не надо, – прошептал он, – я здесь как раз для того, чтобы об этом забыть.
Когда приступ ипохондрии ей наскучил, мать решила воскреснуть из мертвых. Бесцельно слоняясь по дому, она снова занимала свои позиции. Мартин и Анна строили планы на последнюю неделю.
– Схожу-ка я в сберегательный банк, – размышлял он вслух, – не хочу считать каждый шиллинг.
Направляясь к выходу, они услышали звук хлопнувшей наружной двери. Они вышли из дома, Мартин взял ее за руку.
– Смотри…
По противоположной стороне улицы, чуть впереди них, в том же направлении опрометью бежала его мать – с высоко поднятой головой и большой, похожей на оружие, кожаной сумкой в руках.
– Куда это она так несется, – изумился он.
Они прошли мимо витрины с диндрлами. [73]73
Диндрл – традиционный женский костюм жительниц альпийских областей, говорящих по-немецки. Состоит из широкой юбки с пестрым или белым фартуком и приталенного лифа.
[Закрыть]
– Представляешь меня в эдаком наряде? – спросила Анна в шутку.
Мартин поморщился.
– Это для сентиментальных натур, которые без ума от сверкающих альпийских вершин и звуков пастушьего рожка.
– Ну и ну… – служащий банка хитро улыбался, – две минуты назад ваша мать сняла со счета последние деньги.
– Но там была довольно крупная сумма, – воскликнул Мартин, – многолетние сбережения!
Ему необходимо было присесть. Оторопело глядя перед собой, он качал головой.
– Перед отъездом я оформил ей доверенность… – сказал он, – на всякий случай.
Анна потихоньку вывела его на улицу. Он подбросил в воздух шляпу.
– Я разорен, – пронзительно крикнул он. – О mein lieber Augustin, alles ist hin… [74]74
«Ах, мой милый Августин, все прошло…» (нем.) – слова популярной песни.
[Закрыть]
Он вошел в квартиру угрожающе веселый. Как ни в чем не бывало, мать возилась на кухне. Мартин схватил кухонный стул и взобрался на него.
– И что же осталось на моем счету? – воскликнул он риторически. – Ничего!
Он взял с полки одну из заботливо закрученных банок с абрикосовым компотом, выронил ее из рук и потянулся за второй.
– Все эти годы я о нем пеклась, – начала канючить мать, – сама недоедала… и никакой благодарности…
С банкой в руках Мартин посмотрел на свою причитающую мать. Затем спокойно поставил банку обратно на полку, повернул ее так, чтобы была видна этикетка, и слез со стула.
– Пошли, – невозмутимо сказал он, беря Анну за руку, – пошли паковать вещи.
Кляня судьбу, мать обходила свои жалкие владения. Она патетически бросилась на полусобранный чемодан сына, стоявший на кровати. В свой чемодан Анна засунула подвенечное платье, которое по приезде повесила в шкаф. Тупая пульсирующая боль в голове отделила ее от мира; она машинально следовала за Мартином из дома, на улицу, в трамвай.
Отец и его вторая жена встретили их с молчаливым пониманием. Анну, считавшую, что обряд принятия в семью уже позади, посвятили в последние тайны. Отец лишь с недавних пор возобновил общение с сыном – после вынужденного двадцатилетнего перерыва. Все это время мать Мартина запрещала им видеться, характеризуя бывшего мужа как ветреного бабника и тунеядца. Когда Мартин учился в четвертом классе гимназии, она, по доступным лишь ее пониманию причинам, отказалась от ежемесячной денежной помощи отца на учебу. Сыну она сказала, что отец больше не желает платить, а отцу – что сыну надоело учиться. В первоклассном парикмахерском салоне, на Кертнерштрассе, недалеко от оперы, она нашла для него место ученика. Вместо гекзаметров Гомера он отныне склонялся над головами капризных див. Ее козни выплыли наружу, лишь когда Мартин связался с отцом по случаю приближающейся женитьбы.
Теперь Анна поняла смысл странной трехголовой встречи на вокзале. Никто не хотел никому уступать, отец не собирался вновь оказаться на скамейке запасных. У Анны кружилась голова от всех этих семейных перипетий. Уж лучше совсем без родителей, подумала она. Хотя Мартин в каком-то смысле – в отсутствие отца и под гнетом матери-истерички – уже давно превратился в сироту.
С отчаянным рвением они возобновили свои прогулки. Из Нижнего Бельведера, шестнадцативековой летней резиденции принца Евгения Савойского, освободившего Вену от турок, они поднимались в еще больший Верхний Бельведер, символ его власти. Они посетили церковь Святого Карла, где Мартин хотел венчаться, и напились молодого вина. Они словно наполняли воображаемый резервуар совместными наслаждениями и удовольствиями, чтобы до конца жизни черпать из него.
Вместе с отцом она проводила его на вокзал.
– Все будет в порядке, – крикнул он из окна уходящего поезда, – Россия большая, и царь далеко!
– Я хорошо помню, как мы боялись, что той осенью русские потерпят поражение, – сказала Лотта.
– А я думала про жизнь лишь одного человека… – сказала Анна, изучая свои ногти, – это было единственное, что меня интересовало. Больше я ничего не видела и не слышала, я надеялась и молилась, чтобы он вернулся. Сейчас все об этом забыли, о том постоянном страхе, в котором пребывал каждый из нас, – таких молодых людей, как Мартин, были миллионы.
Лотта посчитала своим долгом напомнить ей о том, что силами этих самых молодых людей были убиты миллионы русских.
Анна встрепенулась.
– Но мы же об этом совсем не думали! Мы слышали лишь: наступление, наступление, Белосток, Ленинград, Украина. Герман Геринг выступил с длинной речью: «Мы завоевали самую плодородную страну в мире…» И обещал: «Мы превратим ее в прекрасный сад, теперь мы обеспечены маслом, обеспечены мукой». Германия сильно поредела: всех, у кого отыскивались хоть какие-то мозги, отправили туда на руководящие посты в области сельского хозяйства. Даже самый большой тупица оказывался там при деле. Военнопленных привозили в Германию для работы на заводах. Это была грандиозная организаторская машина – огромное достижение в каком-то смысле. Люди, сидевшие дома, тоже отличались изобретательностью – из старого одеяла шили пальто, мастерили обувь…
– Голландцы тоже этим занимались, – сказала Лотта язвительно.
– Разумеется… в чрезвычайных ситуациях мобилизуются все резервы. Поэтому-то нынешнему поколению так скучно жить, его представителям приходится развивать свои творческие способности на всевозможных курсах; неприкаянность – болезнь сегодняшней эпохи.
Лотта оборвала сестру:
– А потом пришла зима.
– Да, генерал Распутица. Со стремительным продвижением было покончено.
– Наполеон в свое время уже застрял в грязи и холоде – мы страстно надеялись, что история повторится. Так оно и случилось. «Вот теперь Гитлер проиграл войну», – уверенно заявляли мы.
– Мы думали: нужно помочь этим парням пережить зиму. Они писали, что мерзнут, и все начинали действовать – даже дети и больные. Мы все бросились вязать. Сшитые вместе одеяла и скатерти, меховые пальто и все такое прочее отправлялось через Красный Крест, минуя партийное руководство. Каждый заботился о том, чтобы его муж, сын, отец не замерз. Да уж… – Она смотрела в окно, на небо цвета сланцевых крыш. – У меня сохранился его Frierfleischorden – орден за ту чудовищную русскую зиму, которая отморозила столько пальцев и носов. Отмороженный орден – цинично окрестили его в народе.
Мать герра фон Гарлица, в прошлом фрейлина императрицы, решила провести остаток своих дней в обитаемом мире и перебралась в Потсдам. Покинутый ею замок с сорока пятью комнатами стоял на другом берегу Одры, во фридрихианской деревне ленточной застройки, каких в Бранденбурге было пруд пруди. Когда-то Фридрих Великий освоил и заселил эту приграничную провинцию; он посадил туда князя – посреди полей для неговозвели замок, проложили улицу, построили дома для батраков, церковь, небольшую школу. В обмен на свою полную зависимость батраки получали зерно и надел земли, достаточный для того, чтобы держать свинью и корову.
Дабы скрыться подальше от бомбежек, герр фон Гарлиц принял решение переехать всей семьей в поместье его детства. Сначала он отправился туда с женой, чтобы провести необходимые приготовления. Детей оставили на попечение Анны в доме его тестя. Через шесть недель Анна получила от фрау фон Гарлиц срочное письмо: «Приезжай, ты мне нужна. Мы разыскали бывшую няню Рудольфа Аделхайд, она присмотрит за детьми». И снова Анна отправилась в путь, прихватив с собой два чемодана – один с подвенечным платьем и письмами Мартина, другой – с прочими пожитками. На вокзале ее ждала госпожа, приехавшая на телеге, запряженной лошадьми; не столь опрятная, как раньше, и несколько одичавшая, она сидела на облучке. В облике хозяйки появилась очаровательная бесшабашность, она пускала все на самотек. Анна, привыкшая к благовоспитанности и самообладанию графини в любой ситуации, была крайне удивлена ее новым обликом.
– Ты умрешь со смеху, – сказала графиня, во весь опор несясь по проселку (с такой же беспечностью она когда-то похитила ее на своем «кайзер-фрейзере»). – Смех сквозь слезы: ты не представляешь, в каком упадке замок, сейчас ты воочию в этом убедишься.
После получасового путешествия по безлюдной местности, где даже чередование лесов и полей навевало скуку, они въехали в деревню. Все присущие ей атрибуты были в наличии: церковь, школа, крестьянские дома по обеим сторонам дороги. Лишь замок прятался от глаз – за каменной оградой, полузакрытой поникшими ветками старых каштанов и кленов. Ворота отпер человек до того косоглазый, что, казалось, кроме графини и Анны, он приветствовал кого – то еще. Трясясь по ухабам, повозка въехала во двор, ворота закрылись. Перед их взором предстал замок, массивный, крепкий, со светло-серыми стенами, увитыми виноградными лозами, с белыми оконными переплетами и частоколом труб на красных крышах. Он стоял робко, замкнувшись в себе, словно человек, не желающий выдавать свои тайны. Из соображений фридрихианской симметрии по центру фасада было пристроено крыльцо с лестницей, широкой и гостеприимной у подножья и постепенно сужающейся к двухстворчатой входной двери. Прямоугольные колонны подпирали фронтон, над которым красовался рельефный фамильный герб. Вдоль боковой стены замка они подъехали к входу для прислуги. Многочисленные строения и сараи окружали мощенный булыжниками двор.
Фрау фон Гарлиц провела ее в дом. Стоило Анне оказаться на лестничной площадке, как рабочие, занятые ремонтом второго этажа, принялись стряхивать с одежды пыль и песок, которые посыпались прямо на ее венскую шляпку. Раздался гомерический хохот.
– Теперь ты понимаешь, что я имела в виду, – сказала фрау фон Гарлиц.
Тщательная инвентаризация жилища в тот же день подтвердила, что графиня не преувеличивала. Строительные дефекты усугубило многолетнее отсутствие ремонта, внутри же дома все изрядно обветшало и покрылось грязью. Во всех комнатах висел едкий запах упрямой старой дамы, на протяжении полувека требовавшей от своих домочадцев, чтобы все в доме оставалось на своих местах – как в детстве. В вестибюле и коридорах хлопали на сквозняке изрядно побитые доспехи, пугая доверчивого полусонного гостя, направляющегося ночью в туалет. Уборка опочивальни фрау фон Гарлиц не терпела отлагательств. Все шесть недель со дня приезда она спала в одной и той же ночной рубашке, на одной и той же простыне, в кровати, шелковый балдахин которой провис под тяжестью пыли. Уже при одном взгляде на все это запустение можно было заболеть.
– Боже мой, – прошептала Анна, – ну и свинарник.
Фрау фон Гарлиц беспомощно возвела руки к небу.
– Я не знаю, где что лежит, я имею в виду постельное белье и тому подобное.
– Где-то лежит, – закашлялась Анна, распахивая одно из окон. До нее начало доходить, что своим умилительно-застенчивым жестом графиня передавала ей всю ответственность за прогнившее поместье.
– Как я рада, что ты приехала… – вздохнула она как девочка.
Анна взяла бразды правления в свои руки. Целый год со свитой польских рабочих и уборщиц из деревни она переходила из одного помещения в другое, пока все сорок пять комнат не претерпели метаморфозу. Немецких батраков, отправленных на войну, сменили польские подневольные рабочие и русские военнопленные, поселенные в сараях под постоянным надзором четырех вооруженных солдат. Не было ни тракторов, ни бензина. Каждое утро в шесть часов на восьмидесяти запряженных волами телегах русские отправлялись в близлежащие поля, где под руководством сельхозинспектора, освобожденного от военной службы, пахали в нерусском темпе, лишь бы выполнить установленную рейхом норму. Картошку, зерно, молоко, масло – все надлежало сдавать, за исключением крошечного пайка для собственного потребления. Для жителей замка соорудили стенной шкаф с ячейками, где каждый хранил свой личный кусочек масла – сто двадцать пять граммов в неделю. Половину полагалось уступать на кухню для жарки, а вторая половина предназначалась для бутербродов.
Человечество словно разделилось на два вида: кто-то одним махом уничтожал целиком всю пайку и оставшуюся неделю ел пустой хлеб, другие же растягивали удовольствие – на каждый кусок намазывали пуританский тонюсенький слой.
Дабы генеральная уборка оказалась результативной. Анне пришлось объявить войну традиционным устоям. Неуверенная в себе (ей предстояло управлять огромным хозяйством на основе знаний, подтвержденных жалким сертификатом Школы молодых хозяек из высшего общества), она слонялась по коридорам и комнатам в надежде каким-то образом организовать свою работу. Так она очутилась в прачечной, где четверо дружелюбных толстушек из деревни стирали простыни в овальных корытах. За этим занятием они пели, смеялись и трещали как сороки; затем шествовали в подвал, чтобы пропустить белье через отжимный каток и выгладить раскаленными утюгами. Они не торопились: прачечный процесс занимал две недели после чего поступала новая партия белья – и все начиналось сначала. Долгий обеденный перерыв в ходе трудового дня воспринимался как само собой разумеющееся. Гувернантка варила кофе и пекла печенье. Работали с настроением, однако до полуразрушенных сорока пяти комнат никому не было никакого дела. Боже мой, думала Анна, так продолжаться больше не может.
В заднем углу прачечной она наткнулась на огромную стиральную машину, подернутую толстым слоем пыли.
– Сломана. – пораженчески махнули женщины.
Длинные приводные ремни пересекали двор и вели к генератору, стоявшему в винодельне, где гнали можжевеловую водку.
– Что с машиной? – спросила Анна электромонтера.
– Не знаю, – пробурчал он, пожимая плечами.
– Что значит «не знаю»? – спросила она резко. – Может, вы все-таки посмотрите, что там не в порядке?
Тяжело вздыхая, мужчина с остекленевшим взглядом склонился над агрегатом. Через несколько часов он, не веря собственным глазам, его починил. На следующее утро в шесть часов Анна заложила белье в стиральную машину; махина диаметром метр с гаком набирала обороты; под ней пылали дрова. Вошедших прачек приветствовали радостные звуки: бум-бум – бум, ч-ч-ч, тук-тук-тук. Они смущенно заморгали, а потом пришли в бешенство. Что эта чужачка возомнила о себе, как может она так бесцеремонно вмешиваться в их жизнь? Они стирали вручную с тех пор, как помнят себя, и это их вполне устраивало – они не нуждаются ни в каких переменах.
– Но зачем вам тратить четырнадцать дней на стирку и глажку? – попыталась Анна перекричать поднявшийся гомон.
К тому времени белье уже было отжато, она развесила его под солнцем и поспешила в прачечную. Игнорируя испепеляющие взгляды, она показала женщинам, как пользоваться машиной.
– Вы можете просто сидеть рядом.
Анна бегала вскачь от бельевой веревки и обратно; к концу дня белье изумительно пахло и легко складывалось. Все готово – оставшиеся тринадцать дней можно было посвятить уборке дома. Маленькая революция. В момент осознания этого вопиющего факта ярость работниц переросла в ненависть. Тем не менее зимой они подобрели: Анна заваривала ромашковый чай для их простуженных детей, тепло укутывала, а рожениц по ночам сопровождала в город. Таким образом она незаметно расплатилась за халатность фрау фон Гарлиц – забота об арендаторах была традиционной обязанностью дворянства.
Одна за другой авгиевы конюшни были вычищены. Чувство омерзения Анны при виде многолетней паутины, пыли, плесени и мертвых насекомых, которых в своей верной тяге к прошлому собрала старая графиня, быстро сменилось упорным трудом по их ликвидации. «Императорской комнате» равных не было. С тех пор как император Вильгельм провел там ночь в качестве гостя бывшей фрейлины супруги, святыню заперли на ключ. Стоило только открыть дверь, как в нос ударил спертый, кисловатый запах. Сообща сняли шторы и портьеры; все в пыли и ковровых клещах, вытряхнули одеяла и подушки с кровати под балдахином – но, даже когда комната опустела, резкий императорский аромат в ней оставался неистребимым. В конце концов они вскрыли матрас: место, где покоилось тело его величества, кишмя кишело личинками червей, которые радостно выпрыгивали из конского волоса на свободу. Анна пришла в ужас. Сейчас война, лихорадочно подумала она, мы не можем просто так выбрасывать ценный конский волос. Внезапно она вспомнила про дистиллятор, который видела на винодельне. Они пересекли двор и свалили содержимое матраса в перегонную колбу, под которой горел слабый огонь. Личинки лопались, как воздушная кукуруза. Когда между волосами жизнь окончательно замерла, их вымыли и просушили на солнце. Вооруженная двумя литрами можжевеловой водки, Анна отнесла дорогой груз в матрасную мастерскую.
На чердаке валялись предметы, давным-давно исторгнутые временем. Единственную стоящую вещь, которую Анне удалось выкопать, – английские гравюры охотничьих сценок, обрамленные красным деревом, – повесили в вестибюле и коридорах. В остальном хламе, под толстым слоем грязи, скрывалось немыслимое количество китча из эпохи любителей завитков и позолоты. Анна поручила снести барахло во внутренний двор для публичной распродажи. Объявление «все с молотка по пятьдесят пфеннигов» передавалось из уст в уста. Из пристроек во двор хлынули польские женщины в поношенной бесформенной одежде и туго завязанных косынках вокруг бледных лиц. При виде такой роскоши они ожили, шаря горящими глазами по символам богатого и беззаботного существования. После долгих колебаний они наконец делали покупку (обитую шелком табуретку или бабу на чайник в стиле рококо) и поспешно исчезали, чтобы, не дай Бог, никто не отнял.
Собранный урожай сахарной свеклы сначала мыли, затем нарезали и прессовали. В тошнотворно – сладком чаду польские женщины изготовляли из нее сироп; все вокруг было липким и клейким. В качестве премии они получали мешок свеклы для собственного потребления.
– Можно нам воспользоваться прессом? – спросили они, нерешительно демонстрируя, как тяжело давить свеклу руками.
– Конечно, – сказала Анна. – Мы закончили. Нам он больше не нужен.
Спустя несколько часов к ней подошел герр фон Гарлиц, одетый в костюм наездника.
– Послушай-ка, – призвал он ее к порядку, – что ты сейчас натворила? Ты отдала пресс полячкам.
– Да, ну и что? – вызывающе сказала Анна, раздраженная его по-светски праздным видом на фоне кипучей трудовой деятельности.
– Ты думаешь, – он вскинул подбородок, – если бы мы жили в Польше в качестве наемных рабочих, они бы поделились с нами прессом? – Он бросил на нее дерзкий взгляд и сам же ответил: – Они бы ни за что этого не сделали, потому что они нас ненавидят.
– Но мы-то их не ненавидим, – возразила Анна. – Кстати, если уж поляки настолько хуже нас, как вы утверждаете, и мне следует брать с них пример, то получается, что мы ничуть не лучше их и не имеем права делать вид, что они, дескать, у нас в подчинении.
Он покачал головой в ответ на столь парадоксальный довод.
– Это люди низшего сорта, – сказал он с достоинством.
– Если это люди низшего сорта, а мы – высшего, как вы говорите, – Анна старалась выражаться дипломатично, – тогда я не могу вести себя, как они, я должна быть выше этого.
Разделение людей на высший и низший сорт казалось Анне смехотворным. Однако интуитивно она понимала, что не стоит говорить об этом вслух прихвостню фюрера. Фон Гарлиц нахмурил брови, подобная диалектика была неподвластна его умственным возможностям. Подсознательно он чувствовал, что его осадила своенравная, но, к сожалению, незаменимая работница, противопоставлявшая свою власть управляющей хозяйством его власти работодателя. С него было довольно; стряхивая с себя смущение, он, потупив голову, удалился коротким размеренным шагом, то и дело хлеща плетью по деревьям.
Уйма работы сокращала время между письмами, приходившими по полевой почте. Мартин описывал красоту полей, засеянных подсолнухами; на базаре он нашел коробку с книгами и приводил ей рецепт борща. В глаза бросалось странное противоречие между громкими триумфальными шествиями вермахта по радио и мирным спокойствием в письмах Мартина, где ни разу не гремел выстрел и не горел дом. Осенью он находился рядом с Тулой. Когда начались морозы и застучали вязальные спицы в надежде победить холод в русской степи, Анна отправила ему посылку, слепо веря, что она найдет свой путь в беспредельном пространстве. Молва о павших в боях подбиралась все ближе. Хроника недели опровергала эту псевдоугрозу и показывала солдат, весело куривших в заснеженных окопах. Сначала среди погибших значились троюродные племянники, школьные товарищи, знакомые знакомых, а потом ими стали братья, женихи и отцы. Однако зима в письмах Мартина была по-чеховски красива. Вместе со своими однополчанами он оказался на ферме, где стоял рояль. Рояль посреди бескрайних снегов, но сильно расстроенный из-за холода. Семья спала на огромной сложенной из кирпича печке. Солдаты сняли с печки матрасы и совместными усилиями водрузили туда рояль. Тот быстро отогрелся; вечер за вечером они музицировали. Крестьянин отмахивался от учтивых извинений Мартина – для него важнее было слушать Моцарта и Баха, нежели нежиться в тепле. Чем искуснее он живописал события, тем подозрительнее становилась Анна.
Один из русских военнопленных занимал в замке привилегированное положение – ему надлежало растапливать печи и поддерживать в них огонь. С корзиной дров он изо дня в день ходил по замку. Никто с ним не заговаривал – считать русских за людей было наказуемым. Однажды Анна столкнулась с ним в одной из комнат. Он выполнял свою работу тихо, почти незаметно, как если бы и сам сознавал, что не имеет права на существование. Не задумываясь о последствиях, Анна обратилась к нему, как поступила бы с любым человеком, оказавшимся с ней с глазу на глаз. К ее удивлению, он ответил ей на ломаном немецком; к тому же его звали Вильгельмом – когда немецкий император наносил визит царю, всех новорожденных окрестили этим именем. Еще один крестник императора, ухмыльнулась про себя Анна. Его речь обволакивали мягко вибрирующие русские согласные. После первого знакомства она все чаще заходила в комнаты, где топились печи. Он признался ей, что люди в сараях голодают и испытывают нужду во всем. Она таскала для него еду с кухни. По вечерам она кромсала на кусочки ненужное постельное белье в синюю клетку и шила из него носовые платки для пленных. Она собирала выброшенные зубные щетки, остатки зубной пасты, негодные расчески, обмылки. Вильгельм тайком проносил вещи в сараи, где их с жадностью принимали и пускали в дело. Она не углублялась в мотивацию своих действий, подрывные замыслы были ей чужды – она попросту не могла выносить контраста между относительным благополучием в замке и лишениями в сараях.
Вильгельм держал ее в курсе циркулирующих среди русских и поляков слухов, которые обнажали теневую сторону ликующих кинохроник: немецкое наступление застопорилось – именно тогда, когда они полагали, что миллионные потери истощили русскую армию, на защиту каждого мертвого советского солдата встали десятки живых. «А в Туле?» – у Анны защемило сердце. Он извинился: мол, не владеет такими подробностями. А как доходили до него все эти слухи? Мда… он развел руками с восточной улыбкой. Источник информации оставался для нее за семью печатями. Приносили ли вести стаи перелетных птиц, пронзавшие серое небо, или же почтальоном был хорошо тренированный марафонец, в олимпийском темпе покрывающий расстояние до польской границы и по дороге забегающий во все поместья, где работали поляки?
– Ты воистину настоящая немка, – сказала Лотта, качая головой.
– Почему? – Анна насторожилась.
– Настоящая деятельная немка… Как ты решила проблему со стиральной машиной… все в духе экономического чуда. Но вот только…
– Да? – Анна превратилась в саму благосклонность, готовая устранить любое недоразумение.
– Стали ли прачки в конечном итоге счастливее в этом налаженном тобою хозяйстве? Они по-прежнему смеялись, пели, болтали?
Анна устало пожала плечами:
– Они по-прежнему получали свой кофе с печеньем. Но прогресс нельзя остановить. В эпоху землевладельцев рабочий люд научился читать и писать, больше ничего не требовалось. Потом пришло время, когда этот же люд больше не желал пребывать в невежестве – такой была и я – и получил образование, затем появилось телевидение, компьютеры… Если мы захотим вдруг снова смеяться, петь и трепать языком, придется выключить всю технику и отказаться от комфорта, который она нам предоставляет.
– И все же многое утрачено.
– Не стоит романтизировать утраченное.
И опять этот старый камень преткновения. Они смотрели в окно сквозь женщину с лебедем, пытаясь упорядочить свои мысли, собрать воедино воспоминания, подобно клочкам бумаги разворошенные ветром и разнесенные в разные стороны.
– То, что ты помогала русскому пленному, я хорошо понимаю, – промурлыкала Лотта, – в глубине души ты надеялась, что то же самое русские сделают и для Мартина, попади он в плен…
– Нет… – Анна поджала губы. – Я просто ему помогала, бескорыстно.
– Под этим могли скрываться неосознанные мотивы. С того момента, как мы начали скрывать людей у себя в доме, я почувствовала, что наконец могу что – то сделать… для Давида…
– Так вы прятали у себя людей…
Лотта кивнула.
– Евреев?
– В основном.
Анна вздохнула всеми своими округлостями.
5
Они пообедали в ресторане на площади Альберта с видом на огромного ангела, который обосновался на высоком пьедестале, откуда озадаченно разглядывал человечество. Затем совершили небольшую прогулку по городу, выполнив положенную норму терапевтической активности. По пути заглянули в церковь из серого гранита с тремя башнями, шпили которых, как учительские карандаши, указывали в небо. На сей раз, ради разнообразия, они согласились друг с другом, что церковь на удивление некрасива. Вооружившись исторической брошюркой, они без всякого вдохновения расхаживали по сумрачному помещению.
«Построена в 1885 году, в романо-германском стиле, по канонам кельнской школы», – зачитывала Анна.
– Я и не знала, что мы экспортировали тогда столь чудовищную архитектуру!
Они задержались у скульптуры, изображающей группу ангелов с мечами и епископскими жезлами. Скульптура попала сюда из прежней церкви, стоявшей когда-то на этом самом месте. Со скучающими лицами они покинули Божий храм и направились прямиком в кафе напротив – утешение для разочарованного прихожанина. Обе смерть как хотели кофе. Истребитель по диагонали рассек небо, почти касаясь мизантропических церковных башен, точно собирался их перечеркнуть.
Когда однажды летом на пороге появилось элегантно одетое трио Фринкелей, никто и не подозревал, что сей на первый взгляд безобидный визит станет вехой в жизни Лоттиной матери и ее семьи. Встречу устроил Брам Фринкель, которому в ту пору уже исполнилось восемнадцать; все эти годы он дружил с Куном. Они выпили нечто похожее на кофе. В честь Макса Фринкеля, который со времени своей эмиграции из Германии снискал славу первой скрипки в оркестре радиовещания, отец Лотты поставил «Двойной концерт» Баха. Гости внимали каждому звуку так, словно специально пришли послушать это сочинение. Однако когда угасли последние ноты, война тут же заняла их место – во внезапной тишине, в суррогатном кофе, в присутствии Фринкелей.
– Вы меломан… – начал Фринкель с сильным немецким акцентом, смущенно теребя подбородок. Это придавало ему смелости просить Лоттиных родителей о гостеприимстве – за плату, разумеется, и на короткий срок, пока не отыщется окончательное решение.
– Все евреи из Хилверсума должны собраться в Амстердаме… – сказал он многозначительно.
– Прекрасно, что вы живете на отшибе, – добавила его жена Сара на безупречном голландском. – Макс мог бы беспрепятственно репетировать – его здесь никто не услышит.
Это была маленькая подвижная женщина с накрашенными под цвет платья губами и ногтями.
Кровать Брама переместили в комнату Куна, чета Фринкелей вселилась в детскую; раздававшиеся оттуда головокружительные рулады и флажолеты сотрясали стены. Когда заканчивал играть отец, эстафету перенимал сын, исполняя цыганские мелодии и «Славянские танцы» Дворжака. К ним наведался старый приятель, с которым они познакомились еще в Германии и которому доверяли, Леон Штайн. Когда-то он покинул свою страну и отправился на гражданскую войну в Испанию бороться против фашизма. Затем он долгое время жил и работал в Харлеме, у своего дяди, изготовителя бочек и ящиков, которому за большую сумму денег немцы позволили бежать в Америку. Верховых лошадей взять с собой ему разрешили, а вот племянника – нет, поскольку тот в результате своей испанской авантюры лишился гражданства. Новый Свет по другую сторону океана распахивал двери для всех национальностей, но герметично закрывал границы для лиц без гражданства. Штайну срочно требовалось пристанище. Временно, объяснил он. В нем еще не угас былой пыл испанского антифашиста, толкнувший Леона в голландское Сопротивление. Его случай являл собой яркий образец презрения к смерти – более еврейской внешности, чем у него, было не найти, даже когда во время налета он носил немецкую военную форму и отдавал приказы на своем родном языке.
В кабинете отца Лотты для него поставили кровать; он спал там, как солдат, на узких нарах, судорожно строя какие-то планы и беспрестанно нервничая. По его собственному признанию, только в гуще самой страшной опасности на него снисходил благостный покой. Он был неуловим, его жизнь окутывала тайна, он то неделями скрывался у них, то снова без предупреждения исчезал на целый месяц.
Как-то утром на рассвете их разбудили выстрелы. Пока все в пижамах бегали по дому, семья Фринкелей отчаянно искала, куда бы спрятаться. Кун с горящими от возбуждения глазами пошел посмотреть, что случилось. Как будто случайно, он забрел в лес. Там он наткнулся на трех австрийских солдат, едва ли старше него самого, вышедших на охоту, дабы внести разнообразие в ежедневный рацион. Они угостили его сигаретой и принялись болтать о зайцах, обронив * ненароком, что позже тем днем собирались участвовать в облаве в окрестностях – иногда легче поймать еврея, чем зайца. Кун поднялся с ними на холм, испещренный норами и проходами. Они расстались, братски похлопав друг друга по плечу.








