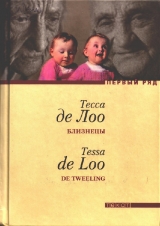
Текст книги "Близнецы"
Автор книги: Тесса де Лоо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 24 страниц)
Тетя Вики от страха растеряла всю свою болтливость; дядя Франц был, по обыкновению, спокоен и сдержан – даже если бы начали бомбить его больницу, ему надлежало сохранять присутствие духа. Во время ужина он бросил на Анну одобрительный взгляд: молодец, девочка, парень хоть куда. Лицо тети Вики тоже сияло от удовольствия: вежливый и внимательный Мартин с молоком матери впитал, как нужно обходиться с женщиной. В честь австрийского гостя дядя Франц ставил опереточные арии, пока «Mein Liebeslied soil ein Walzer sein» [68]68
«Моя любовная песня будет вальсом» (нем.) – ария из оперетты австрийского композитора Ральфа Бенацки «У белого коня».
[Закрыть]не прервали звуки сирены. Отработанным движением тетя Вики устремилась в детскую, схватила с постели спящего ребенка и побежала в подвал. Они спокойно последовали за ней и уселись, найдя свободное место в углу. Суматоха, торопливые шаги, голоса. Анна в ужасе посмотрела на газопроводные и канализационные трубы, представляя себе, как в случае бомбежки все они утонут в месиве экскрементов. Подобная перспектива была отвратительна, и она втайне молилась, чтобы в первую очередь взорвался газопровод. Этот вариант ее устраивал; всякий раз, когда мысли о канализации угрожали взять верх, она заново исполняла ритуал заклинания газопровода. Ребенок тети Вики мирно спал; было немыслимо, что кто-то намеревается убить ангелочка с белокурыми волосами и чуть подрагивающими веками. А может, он служил талисманом, оберегающим всех, кто находится от него в непосредственной близости? От одного его вида Анне самой захотелось спать. Она прижалась к Мартину и задремала. Земля дрожала, но она продолжала мирно спать.
– Разбуди ее! – вскричала тетя Вики, обеспокоенная мыслью, что взрослый человек встретит смерть во сне.
Сквозь полудрему Анна слышала голос Мартина:
– Пусть спит, какая разница?
Снова толчки. Рука Мартина обнимала ее, она была в безопасности.
Перед лицом постоянной угрозы английских эскадрилий фрау фон Гарлиц окончательно переселилась в поместье своих родителей в Бранденбурге. Хотя ее собственный дом находился далеко от центра, на другой стороне Рейна, граничащий с парком химический завод служил притягательной мишенью. Мартин вернулся в Польшу, Анна же опять осталась сторожить поместье, одна-одинешенька, в безысходном праздном
9-5909 ожидании – чего? Оставленная всеми во вражеском стане, она взволнованно ходила туда-сюда по дому. Даже библиотека не спасала, Анна могла лишь рассеянно перелистывать страницы. Воображения хватало только на то, чтобы представлять, какой может быть смерть, подстерегающая солдата на поле боя. Она с неисчерпаемой фантазией мысленно набрасывала трагичные сценарии возможного развития событий в далекой Польше. Дабы взять себя в руки, Анна решила помыть старинные шкафы и затем принялась фанатично их натирать. За шкафами последовали балки – все должно было блестеть. С наступлением темноты она спускалась в шикарно обставленное бомбоубежище, отгоняя мысль о том, что сходит в собственную могилу, растягивалась на ватном матрасе, скрещивала на груди руки и закрывала глаза.
В конце зимы ей приказали запереть дом и переехать к хозяевам на восток. Чтобы не оставлять добро волкам на растерзание, она убрала в шкафы столовое серебро, хрусталь, сервизы и прочие ценные вещи, заперла их, а большие железные ключи приклеила пластырем снизу. Анна сняла с карнизов шторы, свернула их и спрятала вместе с дорогим бельем. Затем вышла, чтобы в последний раз посмотреть на дом с фасада. В свете тусклого мартовского солнца, с голыми окнами, он выглядел хрупким и призрачным. Анна оставляла его на ничьей земле, пустым, безжизненным, холодным. В отличие от дома, пригвожденного к этому месту, сама она чувствовала себя вырванной с корнями: в который раз она меняла адрес – череда приездов и отъездов, привязанностей и разлук становилась все длиннее. С чемоданом в каждой руке Анна шагала по аллее к трамвайной остановке. В Кельне она села на поезд, который должен был отвезти ее на новое место.
При первом знакомстве с Берлином Анну поразила грубость его жителей. Вымотанная поездкой, сгибаясь под тяжестью чемоданов, она остановила на перроне двух прохожих.
– Простите, пожалуйста, вы не скажете, где находится Силезский вокзал?
Кинув на нее презрительный взгляд, как на побирушку, мужчины поспешили дальше. Анна поймала другого пассажира. На этот раз она опустила «Простите, пожалуйста», но все равно не успела даже договорить, как он, качая головой, удалился. Наплевав на вежливость, она закричала: «Силезский вокзал!» Ее голос отозвался эхом под кровлей перрона. Похожий на гангстера мужчина в фетровой шляпе, усмехаясь, остановился:
– Так это же прямо у вас под носом, что, не видите?.
Он кивнул в сторону таблички, на которой большими буквами указывалось нужное ей направление.
Родовой замок стоял на реке Одра, среди земельных угодий с извилистыми тропинками и прудами, семейной часовней и заросшими мхом надгробными плитами, спрятавшимися в тени елей и тисов. Украшенное фронтоном крыльцо с белыми колоннами делило фасад на две симметричные половины. Неоклассическая строгость вполне уживалась с южной желтой лепниной и свободно разгуливающими вокруг террасы гусями. Анну тут явно ждали. Сын фрау фон Гарлиц Рудольф заболел туберкулезом селезенки. Ему требовался ангел-хранитель, в обязанности которому вменялось день и ночь следить за строгой диетой и покоем, а также разгонять тоску семилетнего мальчика чтением. Изолированный от сверстников, он замкнулся в своей болезни, подрывающей не только здоровье мальчика, но и планы его дедушки, у которого он был единственным наследником мужского пола. Каждый день, подкручивая концы своих белых усов, старик справлялся о внуке, и каждый день Анна вынуждена была запрещать ему приносить ребенку конфеты. Так, постепенно, ангел-хранитель превращался в тюремщика. Дяди, тети и двоюродные сестры, тайком таскающие ему лакомства, дабы побаловать мальчика, измученного жесткой диетой, на самом деле лишь приближали его смерть. Она читала ему вслух любимые книжки, стараясь отвлечь от мыслей о запретных сладостях, а самой забыть о письме, которое она ждала из Польши. Да уж, в чем она преуспела, так это в ожидании.
Между тем Анна получила ответ на вопрос, почему имя ее отца так магически подействовало на фрау фон Гарлиц. Она напрямую спросила об этом графа фон Фалкенау.
– Йоганнес Бамберг… да… никогда его не забуду… Выдающийся молодой человек, преданный своему делу и изобретательный… Это был талант по части разного рода нововведений, которые повышали эффективность нашего предприятия… – Он задумчиво посмотрел на Анну. – Внешне вы на него не похожи, но я подмечаю в вас тот же энтузиазм и неподкупность… К сожалению, мы недолго сотрудничали с вашим отцом… Помнится, ему предложили другую работу… Он был социалистом, м-да, это было его дело… Замечательная личность, этот Бамберг…
– Вы первыми начали бомбить города, – сказала Лотта. Ее раздражала манера Анны делать из жителей Кельна жертв. Стоило только вспомнить бомбежки Роттердама или Лондона, как ее сочувствие превращалось в лед.
– Да, бесспорно, зачинщиками были мы, – сказала Анна.
– Тогда нечего удивляться, что вам нанесли ответный удар.
– Мы не удивлялись, мы испугались – так же как и жители Лондона, битком набившиеся в бомбоубежище. Этот страх универсален!
– С той лишь разницей, что вы сами были во всем виноваты. Вы сами выбрали себе режим, который не останавливался ни перед чем.
Анна вздохнула. Положив пухлые руки настол, она наклонилась вперед и устало посмотрела на Лотту.
– Я ведь тебе объяснила, на что прельстился нищий глупый народ. Почему ты не можешь этого принять? Так мы ни на шаг с тобой не продвинемся.
Лотта пригубила пустую кофейную чашку. Она чувствовала, как в ней закипает ярость, – ей тут еще и урок преподают! Какая самонадеянность!
– Я обстоятельно расскажу тебе, почему я не могу этого принять, – сказала она язвительно, – может, и ты, в свою очередь, что-нибудь да намотаешь себе на ус.
Замерзшую воду, которая еще полгода назад плескалась о киль лодки, рассекали теперь их фризские коньки. Крест-накрест взявшись за руки, они гармонично скользили по льду, как бы слившись воедино. Мимо проносились покрытые инеем тростниковые заросли и ивы, стоявшее низко солнце медленно краснело. Лотта споткнулась о трещину на льду, Давид ее подхватил. Они стояли друг против друга, вихляя на узких коньках; он поцеловал ее в замерзшие губы.
– Снежная королева… – прошептал он ей на ухо, – что бы ты сказала, если бы мы обручились…
– Но… – начала было Лотта.
Она оторопело на него смотрела. Он засмеялся и поцеловал ее в кончик носа, окоченевший от холода.
– Подумай об этом… – сказал он.
Он схватил ее за руки, и они продолжали чертить зигзаги по льду. Поднимался туман, микроскопические водные частички окрашивались в цвет заходящего солнца. Холод пронизывал до костей. На ум пришла строчка из малеровского цикла: «В такую непогоду я б ни за что не отпустил детей из дома…»
В темноте они возвращались домой на велосипедах. Он попрощался с ней у калитки.
– Я не хотел тебя напугать, – сказал он, – я просто от тебя без ума. – Она дула на руки, он взял их в свои ладони и тер, пока они не согрелись. – Я приду в субботу, – пообещал он, – мы еще поговорим об этом.
– Нет, нет… – сказала она растерянно… – то есть… в субботу я не могу… давай немного подождем.
Он беспечно ее поцеловал.
– Хорошо… хорошо… нам некуда спешить.
Что-то мурлыча себе под нос, он умчался, еще раз обернувшись, чтобы ей помахать.
Несколько дней она ходила сама не своя. Она надеялась, что еще не оформившаяся влюбленность будет длиться до бесконечности, ей нравилось это затаенное, невысказанное и печальное чувство. Такие понятия, как «помолвка», заставляли ее нервничать. И все же она знала, что в конце концов скажет «да». Перед тем как их роман примет стремительный оборот и все вокруг начнут вмешиваться в их отношения, она хотела еще немного понежиться в амбивалентных ощущениях и своем привычном одиночестве. Возможно, он это чувствовал, так как не давал о себе знать.
Иллюзии по поводу того, что с войной вполне можно ладить, пришел конец. В еврейских районах Амстердама произошли столкновения между сеющими беспорядки членами ВА [69]69
Штурмовые отряды (WA – Weerafdeling, голландский аналог немецкого СА).
[Закрыть]и группами евреев, в результате чего погиб один немец. Двадцать второго февраля начались репрессии: немцы арестовали сотни выбранных наугад еврейских юношей. В официальном сообщении говорилось о «жестоком и зверском убийстве, на какое способны только евреи». Однако нелегально издававшаяся газета «Хет пароол» разрушила этот миф: речь шла об обычной потасовке – у трупа в руке была обнаружена дубинка! Лоттин отец принес домой манифест подпольной коммунистической партии с призывом к сопротивлению против еврейских погромов. «Бастуйте!!! Бастуйте!!! Бастуйте!!!» – обращались они к рабочим. Забастовки, вспыхнувшие в различных частях страны, были подавлены, некоторых забастовщиков немцы расстреляли. Потом снова установилось мнимое затишье.
Именно тогда, когда Лотта потеряла всякое терпение – уж слишком долго длилось его молчание, – ей позвонил отец Давида. Приглушенным голосом он спросил, могут ли они с женой зайти к ней сегодня вечером; им необходимо с ней кое-что обсудить. Кровь хлынула в голову. Почему Давид посылает своих родителей? И это после всех его речей! Он что, сам не мог прийти? Их встречали торжественно – известный певец как никак. Лоттин отец молча пожал им руку, певец грустно улыбнулся, а усы совратителя вытянулись в полоску. Его взгляд скользнул по четырем сестрам:
– И кто же из вас Лотта?
Лотта нерешительно кивнула. Мать Давида поспешила взять ее за руки и легонько их сжала. Не в силах сдержать чувства, она раскрыла сумочку из крокодиловой кожи и достала носовой платок.
– Мы и не знали, что у него была девушка… – сказала она, растрогавшись.
После того как они сели, отец Давида взял слово. Поводом к их визиту послужила открытка от Давида из Бухенвальда, в которой он просил родителей передать привет Лотте, так как не успел с ней попрощаться.
– Бухен…вальд? – пролепетала Лотта.
Де Фриз старший сглотнул и провел рукой по лбу – жест, выражающий безнадежное смирение. Уставившись в пол, он рассказал, что в субботу двадцать второго февраля Давида арестовали в амстердамском еврейском квартале, когда он музицировал со своими приятелями. Внезапно в дом ворвались полицейские и приказали им встать спиной к стене.
– Wer von euch ist Jude? [70]70
Кто из вас еврей? (нем.).
[Закрыть]– крикнули они. Ни секунды не раздумывая, еще весь в своей музыке, Давид сделал шаг вперед. Два других еврея из их компании мудро держали рот на замке. Его отвезли на площадь Йохана Даниэла Мейера, где уже столпились десятки других товарищей по несчастью. Без каких бы то ни было обвинений, без суда и следствия, их увезли в Германию, в лагерь.
Мать Давида всхлипнула. Отчаянно озираясь вокруг, отец Лотты пытался говорить бодро:
– Вот увидишь, через несколько месяцев мальчишек вернут домой. Немцы просто хотели наказать их для острастки: чтобы другим неповадно было устраивать беспорядки. Давид здоров, он много занимался спортом… Не так уж плохи у него дела… прочти сама… здесь…
Лотта склонилась над скудными строчками на открытке: «…es geht mir gut, wir arbeiten tüchtig…» [71]71
У меня все хорошо, мы усердно работаем (нем.).
[Закрыть]Эту открытку он держал в руках. В ней было что-то тревожное – открытка, которой удалось покинуть лагерь и найти дорогу домой, в то время как ее отправитель находился под арестом. И все же она не в состоянии была проникнуться всей серьезностью происходящего. Это было так странно, так нелепо, так бессмысленно, что не укладывалось в голове. Она непроизвольно посмотрела на пианино – ноты еще лежали раскрытыми на той странице, где они остановились. Всем своим существом она противилась мысли о том, что он так просто взял и исчез. На душе стало легче только тогда, когда она представила себе трудовой лагерь, нечто вроде лагеря скаутов, где на открытом воздухе рубили дрова и сажали деревья…
– Мы тоже пошлем ему открытку, – сказал отец Давида, – может, и ты черкнешь пару слов?
«Дорогой Давид…» – написала она мелкими буквами, отыскав свободное местечко. Ручка застыла в воздухе. Она чувствовала за спиной взгляд отца, управляющий ее движениями. Вот бы написать ему на тайном языке, что-то личное, существенное. Ей вспомнилась строчка из песенного цикла, которую она, слегка перефразировав, не раздумывая, положила на бумагу: «Я надеюсь – ты лишь гуляешь, и путь свой вновь домой направляешь…» Пока она перечитывала строчку, ее вдруг охватил неистовый страх. Боже, что она написала? Цитату из печального стихотворения, элегии. Слишком поздно, слишком поздно, чтобы что-то менять. Дрожащей рукой она отдала открытку. Ей стало нестерпимо в комнате, вид родителей Давида ее пугал, да и сочувствие собственных родителей было невыносимо… мир, позволивший исчезнуть ее другу, спирал дыхание. Она резко поднялась и, не проронив ни слова, вышла из гостиной – по коридору, из дома, на улицу. С бешено колотящимся сердцем она упала на ступеньку садового домика. Словно медленно действующий яд до нее дошло нечто, столь же ужасное, как и само исчезновение Давида: двадцать второго февраля он мог бы быть с ней… если бы она захотела.
Несколько недель подряд она истязала себя самоанализом: почему она сразу не согласилась на его предложение… почему взяла время на раздумья… хотела ли она его испытать… подразнить… зачем надо было все затягивать? Она мучила себя вопросами, на которые не могла ответить, вопросами, постепенно превращавшими ее в горгону и неизменно приводившими к одному и тому же беспощадному выводу.
Снова позвонил отец Давида. Они получили вторую открытку, на этот раз из Маутхаузена, с загадочным текстом: «Если я как можно скорее не получу свой парусник, будет слишком поздно…» Он отчаянно воскликнул:
– Он умоляет нас о помощи, мой мальчик, но что я могу сделать? Я бы хотел поменяться с, ним местами-я старый человек, а у него еще вся жизнь впереди…
Лотта тщетно подбирала слова – всякий раз, когда она действительно в них нуждалась, они куда-то пропадали. Если Давид не выживет, то вся идея справедливости превратится в иллюзию, а мир – в царство произвола и хаоса, посреди которого человек с его планами, ожиданиями, надеждами и фантазиями – ничего не значит, он – абсолютное ничто. По ночам в ее снах проплывал корабль с надутыми парусами, озера JIoo– сдрехта разливались до размеров океана, сам Давид, загорелый и сияющий, стоял у штурвала – потом вдруг падал в воду и пытался, окоченевшими пальцами хватаясь за край лодки, подтянуться на борт.
От отца она получила его последнюю фотографию, на которой Давид душераздирающе невинно улыбался в камеру. Наивность стоила ему свободы, а может, даже и жизни. Он оказался в неподходящем месте в неподходящее время – без этой мысли она не могла смотреть на фотографию. Исключительно из уважения к нему она не разорвала снимок. Беззаботно помахав рукой, Давид укатил на велосипеде из ее жизни; это движение руки, вверх-вниз, никак не выходило из ее головы, как будто в нем был какой-то скрытый смысл. А что, интересно, он напевал, растворяясь в темноте?
Музыка ее раздражала. Все эти мелодии, такты, тональности, украшательства казались ей смехотворными – бессмысленная мишура, ложные сантименты. Ее голос перестал брать высокие ноты, а на глубине неуверенно вибрировал. Катарина Мец отправила ее домой:
– Приди-ка ты сначала в себя.
4
Откуда берется и куда уходит вся эта вода? Анна лежала в блестящей медной ванне, на коже оседали воздушные пузырьки – причудливое сплетение чешуек. Бледное скользкое тело было погружено в воду. Наверняка создана хитроумная система водосточных труб, по которым вода из источников попадает в термальный комплекс, а потом выводится обратно – омываемое в течение получаса тело лишь транзит на ее пути. И всю эту воду, текущую незримо и неслышно, точно кровь по жилам, словно насос, выкачивает термальный комплекс-сердце. Интересно, сколько бутылочек минералки требуется на такую вот ванну?
Много лет назад это самое тело сидело в корыте на кухонном полу, а дядя Генрих с издевкой барабанил в запертую дверь: ну и грязнуля же ты, если моешься каждую неделю. Казалось, что в ванной повисла напряженная тишина, как если бы курортники из прошлого боялись себя обнаружить. Какие известные мертвецы нежились в этой ванне? Неужели здесь и поныне витают их мысли, накаляя тишину до предела? То, о чем они думали, вряд ли заслуживает внимания, улыбнулась она сама себе.
Всего один шаг отделял всех этих незнакомых покойников от погибшего друга Лотты. Стыд, гнев, горечь не давали Анне спать. И все же мы, сестры, упрямо убеждала она себя. Разве снисходительность и мудрость не самые верные спутники старости? Если мы вдвоем не в состоянии преодолеть непонимание, то что тогда делать другим? Мир навсегда останется во власти нетерпимости, а каждая война растянется, по крайней мере, на четыре поколения. Конечно, Германия, ворочавшая большими деньгами, добилась-таки примирения, однако хватило одного футбольного матча, чтобы понять – старая вражда еще жива.
Что-то в угле падения света, в зеленом отражении кафеля, в безмятежной уединенности перенесло ее в казино прошлого. Лотта сидела напротив нее в ванне на львиных лапах, а склонившаяся над ними темная женщина (тетя Кейте?) поливала их из синей эмалированной кружки тонкой струйкой холодной воды. По очереди они визжали от наслаждения. Она четко видела перед собой Лотту с мокрыми темными волосами и крепко зажмуренными глазами – образ был f столь ясным, что казался правдоподобнее, чем Лотта, сидевшая напротив нее за столиком днем раньше. Я все еще это помню, подумала она изумленно. И хотя бомбежки не оставили от казино камня на камне, в ее голове оно сохранилось в своем первозданном виде, как если бы и не было всех этих лет.
То, что с нами сотворила история, размышляла она, нельзя мерить на свой аршин. Страдание не разделяет, а соединяет – так же как в свое время соединяла нас радость. Эта мысль, какой бы нелепой она ни казалась, принесла ей облегчение. В этот момент в комнату вошла служащая в халате, чтобы помочь ей вылезти из ванны. Она протянула Анне руку. Анна спокойно и с достоинством перешагнула через край ванны и ступила на пол. Как Полина Бонапарт в сопровождении камеристки, ухмыльнулась она.
Ближе к полудню они встретились в буфете, дверь которого всегда была зазывно открыта, однако они еще ни разу не заставали там посетителей. Время от времени по лабиринту коридоров мелькал одинокий курортник, но вообще-то в здании было тихо и пусто. Январь – мертвый сезон.
– Я так плохо спала, – призналась Анна, – всю ночь мне снился тот молодой человек, который, ни о чем не подозревая, шагнул вперед.
Лотта рассеянно кивнула, отпивая поочередно из кофейной чашки и из кружки с ключевой водой. Анне показалось, что она не хочет продолжать эту тему.
– Не подумай, что я собираюсь состязаться с тобой в тяжести выпавшего на нашу долю горя… – начала она осторожно, – но в этой чертовой войне, стоившей мне нескольких тревожных лет, погиб и мой Муж…
В гостиной раздались первые такты Пятой симфонии Бетховена. «Та-та-та-та… Главнокомандующий войсками вермахта объявляет: Двадцать восьмая пехотная дивизия продвигается к границам России». Анна делала для Рудольфа бутерброд, медленно намазывая его маслом вперемешку со слезами. Завтракавший напротив старик фон Фалкенау сочувственно на нее смотрел.
– Не стоит плакать, фрейлейн, – orf покачал головой. – Ваш жених ведь не в пехоте! В войсках связи ему ничего не грозит. К тому же через шесть недель вся эта операция закончится – вот увидите! Вы, наверно, думали, что народ будет защищаться? Да они только рады избавиться от коммунистов!
Анна грустно улыбнулась. И хотя вояка фон Фалкенау обладал связями в высших военных кругах и получал информацию из первых рук, ничто не могло утешить Анну в ее страхах. Что значил один солдат среди миллионов других – пушинка, несомая ветром над тундрой, в безграничных просторах страны, где солнце восходит на одной стороне, а заходит – на другой. Это была иллюзорная война, выражавшаяся в неисчислимых жертвах, не укладывающихся в голове: «Та-та-та… Главнокомандующий войсками вермахта объявляет…» Тридцать тысяч русских военнопленных, сорок тысяч,' пятьдесят. Что с ними происходит? Вот те безобидные вопросы, которыми в домашней обстановке задавался практический ум, в то время как сквозь распахнутые двери в сад проникал победный гомон. Письма от Мартина добирались до Анны лишь спустя четырнадцать дней. За это время его уже могли убить. Она ходила смотреть кинохронику в близлежащий городок, читала газеты; однако чем больше она старалась оценить его шансы на выживание с учетом армейских передислокаций, тем беспомощнее себя ощущала. Сидеть дома сложа руки и ждать – вот ее фронт, о котором никто не упоминал.
В конце октября пришла телеграмма. «Приезжай, пожалуйста, в Вену. Немедленно. Мы женимся». Ее чемодан с самодельным подвенечным платьем и официально заверенным генеалогическим древом уже давно стоял наготове. Очертя голову она понеслась в Вену. Однако по прибытии она не решалась выйти из поезда – будто мощный воздушный поток на секунду втолкнул ее обратно в вагон. Он стоял на перроне, совершенно реальный, после того как уже сотни раз погибал в ее воображении. Он вернулся из беспредельности, где простой смертный уж точно бы затерялся.
Его же время и пространство доставили сюда в целости и сохранности. По бокам к нему прильнули мать и отец. На мгновение она позавидовала, что у него оба родителя, с которыми он мог здесь ее встречать: смотрите, вот и она. Отец и сын были одеты в костюмы и шляпы – у Мартина шляпа сползла чуть набок. Худощавый отец выглядел моложаво, но его лицо в тени, отбрасываемой полями шляпы, выражало озабоченность, словно он щурился от яркого солнца. От матери жизнь, похоже, тоже требовала нечеловеческих усилий. Она крепко сжимала губы, словно надувая воздушный шар; перманент черных волос она носила словно шапочку. Между этими людьми, которые, судя по всему, не обращали друг на друга внимания, и стоял сияющий Мартин.
Отец попрощался с ними у входа в массивное серое шестиэтажное здание на широкой торговой улице без единого деревца, по которой громыхали трамваи. Пора возвращаться к жене, сказал он учтиво, которая, кстати, приглашала их в гости. Анна переводила изумленный взгляд с одного на другого. Почему Мартин не рассказывал, что его родители разведены? Отец приподнял шляпу и побрел на трамвайную остановку. Втроем они вскарабкались по лестнице в квартиру на втором этаже, над аптекой, где вырос Мартин. Привыкшая к просторным комнатам с коврами, старинной мебелью, картинами и семейными портретами, Анна невольно отшатнулась, переступая порог неказистого, захламленного жилища.
Отправив Мартина с поручением, мать с подчеркнутой гостеприимностью проводила Анну в ее комнату.
– Ну вот, – сказала она, радостно закрывая за собой дверь, – теперь мы можем поговорить, как женщина с женщиной. Послушай. Хочу тебя предупредить, ради твоего же блага. Не выходи замуж. Откажись от свадьбы, пока еще возможно. Брак – чисто мужское изобретение, только мужики извлекают из него выгоду. Заключив эту единственную сделку, они получают в собственность мать, шлюху, повариху, домработницу. Всех в одном лице и задаром. О жене же никто ни гу-гу. А та, живя взаперти и считая гроши, везет на себе домашнее хозяйство. Она в гнусной ловушке, но, увы, уже слишком поздно что-то менять. Не делай этого, милочка, будь благоразумна, говорю тебе это по-дружески.
Анна попробовала оторвать взгляд от гипнотизирующих черных глаз.
– Уверяю вас, я очень люблю Мартина, – поклялась Анна.
– Ох уж эта любовь! – пренебрежительно сказала женщина. – Сплошной обман и уловки, чтобы только свести женщину с ума!
Дрожащими руками Анна принялась распаковывать чемодан, вытащив оттуда первую попавшуюся блузку.
– Простите, – произнесла она едва слышно, – я хотела бы переодеться.
– Подумай об этом! – Женщина победоносно вышла из комнаты.
Анна опустилась на край кровати. Она считает меня недостойной партией – была ее первая мысль. Что это за мать, которая за спиной своего сына пытается расстроить его планы? Планы солдата, которому срочно нужно возвращаться на войну! Остолбенело глядя на подвенечное платье, Анна погрузилась в путаные размышления, откуда нетерпеливо-радостным стуком в дверь ее вырвал Мартин.
– Darf ich reinkommen?.. [72]72
Можно мне войти? (нем.).
[Закрыть]
Анна мужественно решила держать язык за зубами.
После ужина мать поставила перед сыном фарфоровую миску, расписанную цветами.
– Я приготовила для тебя сюрприз, мой мальчик, ты это обожаешь!
С таинственной улыбкой она извлекла откуда-то стеклянную банку с абрикосовым компотом и налила миску до краев.
– А Анне? – спросил Мартин.
– Но я специально для тебя берегла… – Лукавый воинственный блеск в глазах.
Мартин вздохнул.
– Пожалуйста, поставь еще одну миску.
Мать не шелохнулась. В набитых до отказа комнатах она была царицей – тот, кто осмеливался ступить на ее территорию, подвергался странным проявлениям неистовой материнской любви. Воинственность сменилась обидой.
– Ах так… значит, я должна для нее….
– Да, иначе я не притронусь к компоту.
За пределами квартиры она была им не страшна. Облегченно вздохнув, они отправились в центр города, который кокетливо раскрывал перед ними свои церкви, дворцы, регулярные парки, пруды и кондитерские.
Для него это был его город, для нее – генеральная репетиция ее будущего. Здесь они поселятся, как только закончится война. В музее они любовались сокровищами династии Габсбургов, с горы Леопольдсберг смотрели вниз на городские крыши. Билеты в оперу или в театр купить было сложно, но только не для солдата с увольнительной. На каждый спектакль, который они посещали, он приглашал и мать. Всякий раз она настаивала на компании ее близкой подруги – пышной экзальтированной дамы в оборках и кружевах; во время спектаклей она считала своим долгом посвящать всех во внезапно озарявшие ее мысли.
– Мама, – не выдержал Мартин, – я рад, что ты ходишь с нами… но эта твоя подруга…
– Ах, вот как! – Она оскорбленно вскинула подбородок. – Тебе не нравится моя подруга? Но ты ведь тоже не спрашивал моего мнения при выборе своей спутницы.
В спальне Мартин извинился за ее слова, утомленно глядя на Анну:
– Мне очень жаль, ты уж прости ее… Она стала такой после ухода отца. Я был тогда еще ребенком. Она никогда не была нормальной матерью… в привычном понимании этого слова. Она всегда хотела мной обладать, подчинить своей тиранической власти. Чтобы отомстить за себя. Ничего не поделаешь, так уж сложилось.
Радостное предвкушение, вызванное городом, медленно таяло. Анне казалось, что, широко расправив крылья, над ним парит ее свекровь, – куда бы они ни ходили, ни один район, ни одно здание не ускользало от ее тени. Возвратившись как-то домой, они очутились в траурной атмосфере. Шторы были задернуты, в нос ударил резкий запах уксуса. Они осторожно открыли дверь в спальню. Мать с закрытыми глазами лежала на кровати, а ее подруга накладывала на сердце смоченный в уксусе компресс.
– Тсс, – прошептала она, приложив палец к губам, – у вашей матери нервный срыв.
Мартин крепко сжал челюсти. Бросив холодный взгляд на эту сцену, он повернулся и вышел. Анна мешкала у постели, беспокойно глядя на бледную как смерть свекровь. Боже мой, подумала она, если он так обращается со своей матерью, как он поступит со мной, если я заболею? Ей стало не по себе, и она на цыпочках покинула комнату. Мартин с подавленным видом сидел на кухонном столе.
– Я знаю, о чем ты думаешь, – начал он, – но я вот что тебе скажу: это чистой воды комедия. С ней все в порядке.
– Откуда ты знаешь? – возмущенно спросила Анна.
– Ладно, – вздохнул он. – Несмотря ни на что, ты ей сочувствуешь. Подойди к ней и пощупай пульс. Тогда ты убедишься, насколько это серьезно.
Анна робко вернулась в спальню. Она положила палец на широкое запястье, подруга дружелюбно ей кивнула. Пульс был стабильным – таким, как положено. Мать Мартина не открыла глаз и продолжала возлежать на подушках, как огромный надломленный черный георгин.
– Я должен тебе кое в чем признаться, – сказал Мартин, – я уже несколько дней не решаюсь тебе сказать… Мы не можем сейчас пожениться…
Анна застыла на месте.
– Почему?
Он обнял ее за плечи. Его отпуск был незаконным, он подделал увольнительную. После военной кампании им дали трехнедельный отдых. В России, разумеется. Командир, свой парень, предложил им: «Перед тем как снова придется оказаться в этом аду, я советую вам… съездить на пару недель домой. Под мою ответственность». О таком официальном событии, как свадьба, следовало сообщать вышестоящему начальству, поэтому Мартин будет чувствовать себя предателем. Анна молча кивнула. Война вдруг снова выплыла на поверхность. В полном раскаянии он склонил голову ей на плечо. Какое все это имеет значение по сравнению с тем, что скоро ему предстоит отбыть на восток. А ей на север. Они были лишь пешками на этой шахматной доске мирового масштаба.








