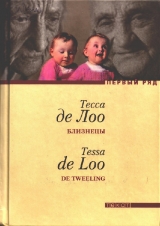
Текст книги "Близнецы"
Автор книги: Тесса де Лоо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 24 страниц)
Часть III. Мир
1
Фюрер был мертв; всего несколько дней отделяло Германию от окончательного поражения. Вечер накануне капитуляции растворился во всеобщем пьянстве. В подвалах бывшей гостиницы, под покровом паутины хранились довоенные запасы спиртного. Опасаясь, что американцы устроят оргию и будут приставать к медсестрам под свою извращенную джазовую музыку, руководство госпиталя распределило бутылки между сотрудниками. Сидя на полу в одной из комнат, Анна заливала чувство реального горьковатым красным мартини. Сняв стягивающую голову шапочку и мурлыча что-то себе под нос, она принялась расчесывать свои светлые волосы.
– Ну и ну… – в изумлении восклицали ее коллеги, – да ты, оказывается, хорошенькая! Почему ты прячешь волосы под шапочкой? Покажись-ка!
Анна снова глотнула из бутылки; ей не хотелось объяснять, что у нее нет ни малейшего желания красоваться. Все, что касалось женского кокетства и искусства обольщения, столь не вяжущихся со смертью, вызывало в ней отвращение. Под конец вечера еле державшуюся на ногах, хихикающую Анну отвели в спальню.
Наступивший следующим утром мир Анна встречала с режущей головной болью. По шоссе тащилась бесконечная процессия изможденных солдат, погоняемых упитанными американцами, которых распирало от самодовольства и презрения. Вскарабкавшись на откос, Анна смотрела на удручающую толпу, проходившую мимо в этот солнечный день освобождения, – серые лица, потрескавшиеся, высохшие губы. Она познакомилась с феноменом черного американца. Жуя жвачку, он повернулся к ней на своих толстых резиновых подошвах:
– Hello, baby… – небрежно ухмыльнулся он.
Оскорбленная, Анна помчалась вниз. Едва дыша, она прибежала на кухню:
– Наши солдаты спускаются с альпийских укреплений… Боже… они совсем без сил!
Все, кто мог ненадолго оторваться от работы, налили в кувшины лимонада и поспешили к шоссе. Однако стоило троим-четверым пленникам отпить из кувшина, как к сестрам подвалил эдакий выходец с Дикого Запада и толкнул их вниз, с откоса. Сестры быстро поднялись и снова взобрались на откос, чтобы напоить солдат. Мальчики жадно поглощали лимонад и тайком засовывали записки в карманы накрахмаленных фартуков медсестер.
– Пожалуйста, прошу вас… напишите моей жене, что я еще жив, – умоляли они на ходу, – передайте моей матери, что вы меня видели…
В госпитале сестры вынимали эти записки из карманов и наполняли кувшины; они неутомимо продолжали удерживать свои позиции у края дороги. Их отгоняли пинками, угрожали прикладами, но они возвращались назад до тех пор, пока мимо не проследовал последний солдат. В госпитале сестры разобрали почту. Кто-то бросил Анне посылку, без адреса, без письма. Вскрыв ее, она обнаружила темно-синюю шерстяную ткань для офицерского мундира – подарок? Когда почтовые учреждения возобновили свою работу, она написала десятки писем: «От Хайнца, моей дорогой Герте… Мути от Герольда… через Анну Гросали».
В тот же день состоялась смена караула. Подъехали джипы, американцы спокойно приняли на себя руководство военным госпиталем. Выздоровевших солдат объявили пленными и увезли; врачам, санитарам, медсестрам надлежало продолжать работу под наблюдением. Вокруг госпиталя установили огромные вращающиеся прожекторы, дабы обескуражить смельчаков, мечтающих о побеге. Среди раненых были убежденные нацисты, державшие при себе фотографию Гитлера и другие нацистские атрибуты. Медсестры вовремя собрали все их имущество и, из страха спровоцировать американцев, выбросили в озеро. Один солдат, не в состоянии расстаться с наградами и портретом Гитлера, оставил все у себя. Через несколько дней он обратился к Анне:
– Сестра, сделайте милость, спрячьте куда-нибудь эти вещи.
– Но куда? – скептически сказала Анна.
– В лесу, за госпиталем. Закопайте их, пометьте место и нарисуйте карту с четким указанием, как его найти. Когда все это закончится, я их откопаю.
Анна не смогла ему отказать. Вечером она прокралась на территорию лазарета, пригибаясь под лучами прожектора и озираясь по сторонам. Между двумя березами она выкопала яму, тихонько посмеиваясь на самой собой, – она рылась в земле, словно собака, прячущая свою кость. Быстро набросав план при свете луны и отметив крестиком место захоронения фюрера, она возвратилась назад тем же путем, на ходу проклиная американцев за их нелепую демонстрацию силы, препятствующую свободному передвижению человека в собственной стране в мирное время.
Очень быстро американцы вкусили прелести бывшего отеля: в озере Химзее можно было купаться и ходить под парусом. Они реквизировали дом для генерального штаба. Госпиталь упразднили, эсэсовцев рассортировали и отправили по этапу, сестер Красного Креста под охраной отвезли в казармы вермахта в соседнем Траунштайне. От пресловутой немецкой аккуратности там не осталось и следа: верховное командование, по-видимому, решило скрепить кутежами закат Третьего рейха. Сестрам поручили расчистить устроенный победителями авгиевы конюшни. Их унижал статус пленников, противоречивший нейтралитету Красного Креста, равно как и далекая от их призвания грязная работа. Однако все эти горести вскоре померкли на фоне ежедневного рациона, состоявшего из чашки черного суррогатного кофе, куска сухого хлеба и тарелки водянистого супа. От голода кружилась голова; через неделю у Анны хватало сил таскать ведра, наполненные лишь на четверть.
В какой-то момент одна из сестер прорвала коллективную солидарность пустых животов и променяла себя американцам на тарелку еды. Снедаемая ненавистью к самой себе, она вернулась зареванная и, отжимая тряпку, пожаловалась на непоправимое. Все по очереди пытались ее утешить, но она не желала выслушивать слова сочувствия от тех, чье самоуважение оставалось нетронутым. Ее подруга, сестра Ильза, знала, что на этой неделе у нее день рождения.
– Мы должны ее чем-то порадовать, – сказала она Анне.
Анна вяло кивнула – чрезмерные движения головы мгновенно вызывали головокружение.
– По другую сторону от дороги растут маргаритки, – предложила она нерешительно, – но как нам проскочить мимо охранников у ворот…
– Предоставь это мне, – сказала Ильза, – я немного говорю по-английски.
После долгих переговоров на очаровательной смеси английского и немецкого Ильзе удалось уговорить постовых. Ворота открылись – им пришлось сдерживать себя, чтобы не помчаться вприпрыжку на лужайку подобно выпущенным на свободу телятам. Разгуливать по цветущему лугу, среди маргариток, лютиков, щавеля… упасть в траву и умереть! Пока Анна собирала цветы, травяные стебли по берегам Липпе будто снова гладили ее икры, и она вновь ощутила тот ни с чем не сравнимый щекочущий запах зелени. Ее не волновало, что вокруг были разбиты американские палатки – так же как раньше ей было наплевать на близость фермы, где ее мачеха замышляла новые издевательства. От постоянных наклонов закружилась голова, ее охватило пьянящее чувство, что она вот-вот упадет в обморок посреди этой Аркадии и забудется вечным сном.
Откуда ни возьмись, к ее ногам упала плитка шоколада, затем еще одна, кусок хлеба, и еще что-то, и еще. Она в испуге возвратилась в реальность. «Чертовы свиньи…» – огрызнулась она, даже и не помышляя к чему-либо притронуться. Ильза тоже притворялась, будто не замечает, как из палаток к ним летят анонимные деликатесы. Они невозмутимо продолжали рвать цветы. Один из охранников не выдержал:
– Господи, да подберите же вы эти продукты, они вам дают их просто так!
Ильза колебалась.
– Если мы возьмем их с собой, – прошептала она, – и пустим все это богатство в общий котел, получится настоящий день рождения!
Анна об этом не подумала. Она наклонилась и принялась набирать вкусности в свой фартук. Поднявшись с оттопыренным фартуком, она снисходительно крикнула:
– Danke schön!
Ни один букет мира не сравнится с пучком веселых полевых маргариток, который получила именинница. Сестры сели в круг, каждая с порцией американской благотворительности. Виновнице торжества досталось больше других, и она, в свою очередь, поспешила со всеми поделиться.
В другом конце Траунштайна находился военный госпиталь. После ареста сестер там не хватало персонала для ухода за больными. Один из врачей СС, работавший под конвоем, обратил внимание американцев на сестер Красного Креста в казармах. В сопровождении двух солдат их доставили в госпиталь. Анна не могла нести свой чемодан – кто-то положил его на тележку. Лишь сверток с синей офицерской тканью она зажала под мышкой. Так они шествовали через весь Траунштайн, притягивая к себе взгляды его жителей. В госпитале облегченно вздохнули: они не только могли возобновить привычный род занятий в гигиеничной обстановке, где все еще царила знакомая эсэсовская упорядоченность, но и получили паек. Старший сержант СС, заведующий бухгалтерией, коренной житель Траунштайна, не терял связей в тылу. Пока американцы дежурили у ворот, фермеры загружали через заднее окно сало, колбасу, картошку, а горожане прорыли к подвалу туннель и пополняли продовольственные запасы. Три дня подряд Анна наедалась до отвала.
Однако статус пленников с сестер никто не снимал. Был разгар лета. Пейзаж у подножья Альп заманчиво простирался за горизонт, но им не разрешалось выходить за ворота. Охваченная томлением клаустрофобии, Анна свесилась из окна спальни. Свободные граждане разгуливали по идиллической проселочной дороге, обвивавшей холм и исчезавшей в лесной чаще. Дорогу охраняли двое горе-солдат, криком «Hello, baby!» приветствующих каждую проходящую мимо юбку, – они что, и в прерии вели себя так же? Анна решила сама распоряжаться своей судьбой. Она сняла униформу Красного Креста и вытащила из многострадального чемодана помятый костюм. Замаскированная под горожанку, она вылезла из окна и незаметно пробралась в лес. То был обычный лес в простоте своих бесчисленных проявлений. Бук был буком, дуб дубом, не больше и не меньше, – она поздоровалась с буком, обняла дуб, перебежала от одного дерева к другому, вдохнула запах перегноя, вскарабкалась на упавшую сосну и затянула безумную песню, постепенно перешедшую в рыдания. Ствол раскачивался под ней в ритме ее всхлипываний – плачь Анны был сродни природной стихии, проливному дождю, очищающему листву от пыли. Это был не просто душевный разлад: все ее тело плакало, сжималось и тут же широко раскрывалось, издаваемый ею звук сбрасывал с себя вызвавшие его к жизни причины пока не достиг свободной формы возвышенного плача, который мало-помалу стих. Уже начало смеркаться, когда она пришла в себя, стряхнула с одежды хвою и ветки и отправилась на поиски тропинки. Обратную дорогу преграждали двое солдат, поглощенные беседой. Анна присела на корточки за деревом и ждала. Наконец, ленивой походкой они удалились, растворившись в вечерних сумерках. Какой-то отрезок дороги она смогла пройти как свободный человек. Анна миновала ферму – надо же, изумилась она, вон там люди сидят за ужином, горит свет и никаких бомб! Она вдруг осознала, что с 1939 года без затемнения не провела дома ни одного вечера; она так привыкла к противоестественному, что с недоумением взирала на естественное.
В один прекрасный день закрыли и госпиталь в Траунштайне. Пациентов увезли, охрана исчезла, врачей и медсестер бросили на произвол судьбы – но никому и в голову не пришло удирать. Через два дня к дому подъехал грузовик с американцем за рулем. Они всем скопом забрались в кузов и запели во весь голос: «I am a prisoner of war…», [98]98
Я военнопленный… (англ.).
[Закрыть]– хирург дирижировал хором своими искусными руками. Светило солнце, на деревьях висели яблоки, никто не стрелял, не взлетали на воздух машины, не болели коленные суставы. Удивление и неуверенность вылились в фатализм, преобразовались в коллективное озорство. Война кончилась – несмотря ни на что, медленно-медленно этот факт просачивался в умы людей.
Поющих, их привезли в огромный лагерь военнопленных, расположенный на бывшем аэродроме в Айблинге, недалеко от Мюнхена. Женщин, медсестер и девушек из СНД поместили в ангары, а высших чинов вермахта в остальные здания. Чуть дальше, отдельно от других, под открытым небом, на голой земле лежали тысячи эсэсовцев, охраняемые солдатами с пулеметами. Анна и Ильза проследовали в умывальню, чтобы ополоснуться после поездки. Женщины теснились перед зеркалами, накрашивая губы и прихорашиваясь. В ангаре гремела популярная музыка; между номерами диск-жокей с ужасным акцентом передавал привет Сабине от Вольфганга и от имени Уши поздравлял Ганса с днем рождения.
– Боже, что все это значит? – воскликнула Анна. – Они что, все с ума посходили?
Очень скоро она поняла значение этого маскарада. По улице, мимо ангаров, фланировали высокопоставленные шишки вермахта, в мундирах, с орденами, медалями и генеральскими погонами, – а рядом расфуфыренные женщины, одна краше другой. Американцы, обожающие шоу даже на расстоянии тысяч миль от дома, обеспечили музыку и крутили пластинки, привезенные из Америки. Каждый день, с пяти до семи, для верхушки вермахта, отправившей на смерть тысячи и тысячи солдат, устраивался парад ухаживаний. А в это время вдали от музыки и красивых женщин уцелевшие солдаты СС, как скот, лежали на траве. Анна и Ильза, разинув рты, взирали на это гротескное представление. Генералы, высшие офицеры, которых война не коснулась напрямую, дефилировали как почетные пленники в такт мелодии победителей. Стиснув зубы, Анна слушала дурацкую музыку и не знала, как совладать с закипающей в ней яростью. Яростью против этих надутых индюков, развязавших войну и давших крылья Гитлеру. Яростью против самодовольных американцев с их ковбойской тупостью. Яростью против собственной беспомощности – ей оставалось только зааплодировать вместе с остальными или самой пойти накрасить губы.
Спустя неделю ежедневные парады внезапно прекратились. Никакой музыки, никаких приветствий, никаких генералов, никакого макияжа. Лежа в кроватях, женщины вздыхали. Долгое время их морили голодом, пока из Мюнхена не приехал епископ и в качестве посредника между Богом и грешниками не посодействовал улучшению их рациона. Между тем женщин обследовали на наличие венерических инфекций и в зависимости от результата постепенно освобождали. Уехала и Ильза, уехала на поиски авторитетного лица, которому было бы под силу добиться освобождения ее жениха, солдата СС, валяющегося в траве, под открытым небом. Анну продолжали удерживать из-за воспаления, вызвавшего сомнения у американского врача. Когда же оказалось, что дело всего лишь в сильно ослабленном иммунитете, ее отпустили.
Странствующий по центру Спа, передвигается от здоровья к азарту, вере и войне – порядок может меняться в зависимости от зданий и монументов, мимо которых он следует. Термальный комплекс, казино, церковь, памятники погибшим. Здесь трудно ощутить себя в девяностых годах двадцатого века – все дышит прошлым.
Сестры остановились у витрины магазина, где выставлялись атрибуты Второй мировой войны: солдатские шинели, каски, вещмешки, искусно вышитые носовые платки американского военно-морского флота, баночки с «Неприкосновенным запасом воды», складной велосипед английского парашютиста, афиша с изображением девочки с куклой в руках и словами: «That she may never know the horrors of dictatorship, let's all pull together for a victorious, prosperous America». [99]99
Чтоб никогда ей не познать ужасов диктатуры, сплотим наши усилия для построения победоносной, процветающей Америки (англ.).
[Закрыть]
– Ненавижу этот язык, – в сердцах сказала Анна. – Никогда не хотела его учить. До чего же тупой народ, один тупее другого. «Hello, baby…» Они пришли к нам со своими жирными задницами и вели себя так, будто даровали нам культуру. Они чувствовали себя правителями мира.
– Они нас освободили, – отрезала Лотта.
Анна хрипло засмеялась и указала на витрину.
– Этих идиотов до сих пор чтят как героев. Смотри, столько лет прошло после войны, но везде американские и английские вещи. Ни одной немецкой. У меня ноги ноют, может, присядем где-нибудь?
Они обосновались в ближайшем кафе с видом на источник Петра Первого. Лотта чувствовала себя неловко.
– Не понимаю, – нерешительно сказала она, – почему ты точишь зуб на американцев. Они ведь тебе ничего не сделали.
Анна нетерпеливо вздохнула.
– Потому что это жалкие псы. Им бы только пустить пыль в глаза. Не забывай, что мы пережили. Тут заявляются эти парни, которые ни черта не стоят… Будь наша воля, их как ветром бы сдуло. Каждый из нас, каждый раненый солдат стоил больше всех их, вместе взятых… Это было ужасно.
– Не понимаю, – настаивала Лотта, – они же положили конец войне.
– О чем ты говоришь! Эти жвачные животные, лоботрясы, призванные прямо из Техаса?!
– Они могли быть до этого в Нормандии… – резко возразила Лотта.
– Эта кучка американцев? Допустим, они помогли выиграть войну. Но англичане, французы, русские – подумай о том, что они сделали!
– Многие американцы тоже были убиты.
– Ах ты, господи! – Анна с саркастичным видом облокотилась на спинку стула. – Сейчас заплачу. Что значит несколько тысяч американцев по сравнению с миллионами погибших?
– Дело не в цифрах.
– У вас, голландцев, свое представление об этом. А у нас свое. Тебе придется с ним считаться. Они внушали нам отвращение. Нам, у которых за плечами были шесть лет войны и двенадцать лет диктатуры. И тут приходят эти невежды, бездельники без царя в голове, прямо со своих ферм. Эти высокомерные, напыщенные ковбои с Дикого Запада, разбогатевшие на золоте. И что это вообще за люди? Триста лет они сидят, окопавшись на своей земле, после того как истребили индейцев. И это все? Может, я не права?
– Ни один народ не лучше и не хуже других, – сказала Лотта дрожащим голосом, – тебе как немке следовало бы это уже уяснить.
– Но они просто-напросто глупее, – крикнула Анна, – полное бескультурье!
– И среди них есть интеллектуалы.
– Тончайший слой. Взгляни на массу.
– Такая же масса, как у нас, и как у вас. Изначально это были выходцы из Англии, Германии, Голландии, Италии…
– Отбросы общества. Посмотри, во что они превратились!
– Это были нищие эмигранты, не имевшие будущего в Европе.
– Хорошо, хорошо, ты права… – Анна подняла руки в знак смирения, – тогда я спокойна…
Они сидели друг против друга, точно собаки, переводящие дыхание посреди драки. Лотта отвела взгляд и уставилась в окно – лицо сестры ей вдруг стало невыносимо. Жгучее враждебное чувство парализовало язык. Ее собственная критика в адрес американцев – по поводу антикоммунистической «охоты на ведьм» Маккарти, ку-клукс-клана, вьетнамской авантюры, президентских выборов – вдруг трансформировалась в сильнейшее желание защищать их всеми средствами. Но Лотта не произнесла больше ни слова. Она впала в уныние. Две разные планеты, сказала она сама себе, две разные планеты.
Анна заметила, что ее пылкость возымела обратный эффект. Она проклинала себя за свою откровенность. Пытаясь разрядить атмосферу, она сказала:
– Ты голландка, у тебя иная точка зрения. Я не хотела иметь ничего общего с этим сытым и самодовольным народом. Наши солдаты падали от голода и болезней, они потеряли родину, потеряли все, они были моими товарищами. Тебе не понять, ты не выхаживала немецких солдат в лазарете. Окажись ты на моем месте, ты бы думала точно так же.
Это был последний удар – Лотте заткнули рот, даже протестовать ей уже запрещалось. Анна неумолимо продолжала свою тираду, словно учительница, с бесконечным терпением по сто раз вдалбливающая одно и то же отстающему ученику.
– Но они ведь освободили вас от нацистской диктатуры… – бросила Лотта, собрав остатки сил.
– Ха… – Анна с циничной улыбкой перегнулась через стол, – уж не полагаешь ли ты, что они пришли специально для того, чтобы нас спасти? Они украли у нас наших ученых и увезли их в Америку: химиков, биологов, атомщиков, военных профессионалов. Бывшие агенты гестапо, такие, как Барбье, были завербованы ЦРУ. И ты призываешь считать их освободителями. Из Гитлера и его войск СС они сделали козлов отпущения, а генералы вермахта, на совести которых была гибель миллионов солдат, так и не понесли наказания. Их считали джентльменами. Любой, объявляющий войну по всем правилам и стоящий во главе армии, – джентльмен. Подумай о судьях, подписывавших смертные приговоры и отправлявших людей в концентрационные лагеря, – большинству из них все сошло с рук.
– А как же Эйхман?
– Это заслуга Визенталя.
Лотта слушала и не слушала. Аргументы сестры показались ей знакомыми; странное чувство дежавю рассеяло ее внимание. Где она уже слышала это? В голосе Анны она пыталась уловить чей-то другой голос. И вдруг поняла: отец относился к американцам с такой же ненавистью. В течение многих лет. Это началось сразу после войны под влиянием харизмы Сталина и продолжалось после его разоблачения уже по собственной инициативе. Янки!
Освобождение: не только от вражеской оккупации, но и от страха. Непрекращающийся ни днем, ни ночью страх стал почти осязаемым после своего исчезновения. Ему на смену пришла всеобщая эйфория, длившаяся, однако, недолго, – время от времени страх совершал свои последние вылазки.
Поприветствовать продвигающиеся канадские и английские части в центре Хилверсума собралась толпа, гордо размахивающая голландскими флагами. Ожидалось, что войска направятся прямиком к зданию радиостанции. И хотя после высадки союзников в Нормандии все неотрывно следили за их успехами и поражениями, героизм освободителей оставался абстракцией – люди хотели увидеть их собственными глазами, обнять, прижать груди. Лотта и Эрнст стояли на краю этого силового поля и ждали, когда из-за угла появится первый танк. Однако вместо танка в здании напротив прозвучали выстрелы. Толпа бросилась врассыпную, Эрнст схватил Лотту за руку и потащил в боковую улицу. Капитуляция была свершившимся фактом, но все ли капитулировали? Смерть во время войны – печальное событие, но смерть от пули отчаявшегося солдата в мирное время – бессмысленная трагедия. Они решили вернуться домой и таким образом пропустили показанное затем во всех кинотеатрах зрелище: восторженную встречу освободителей посреди карабкающихся на танки женщин и подростков, ознаменованную раздачей сигарет и шоколада.
Через несколько дней мимо проходила колонна разоруженных немцев, представляющих собой столь жалкое зрелище, что энтузиазм Лотты немного приутих. Их освистывали с тротуаров, бранные слова летели в солдат подобно гранатам; пять лет страха и ненависти разряжались над головами побежденных. В душе загорелась было искра сочувствия, но Лотта тут же ее погасила.
Евреям опостылело укрываться. Они рвались домой, на поиски своих родственников. Накопившееся нетерпение и тревожные предчувствия гнали их на улицу, на свободу, которая ни для кого – и в первую очередь для них – никогда уже не будет прежней, такой, как до войны. Их предупреждали: не все немцы еще разоружены, не все голландские нацисты схвачены. Из последних сил сохраняя самообладание, они продержались дома еще десять долгих дней. Сдался лишь Рубин. Он хотел как можно скорее увидеть родительский дом и удивить соседей: «Как они мне обрадуются!» Невзирая ни на какие увещевания, он покинул дом, неуверенно крутя педали шаткого велосипеда. Его с волнением провожали глазами.
Он вернулся обратно на первый взгляд как ни в чем не бывало. Молча опустившись на стул, какое-то время он сидел без движения – только зрачки бешено сновали туда-сюда за стеклами очков. Потом голова упала на грудь, и тут все заметили, что он плачет. Это был тревожный сигнал, поскольку за все эти годы он не проронил ни слезинки. Не поднимая головы, он рассказал, как прошло воссоединение. Когда в ответ на его звонок соседка открыла дверь, она тут же отпрянула назад с глазами, полными ужаса и отвращения. Первым ее порывом было захлопнуть дверь перед его носом, но он уже переступил порог. Как в старые добрые времена он вошел в комнату. Его взгляд упал на стул, сидя на котором в детстве так часто пил лимонад или какао. Но она не пригласила его сесть и лихорадочно расхаживала из угла в угол. Все это время она полагала, что их семью увезли в Германию.
– Мать тоже еще жива, – сказал он, – она будет вам весьма признательна за то, что все эти годы вы присматривали за ее вещами.
Он рассеянно указал на персидские ковры и картины, отданные родителями ей на хранение.
– Твой отец мне их подарил, – резко поправила она его, – я хорошо помню его слова: «Лизбет, забери эти вещи, нам они больще не нужны, для нас это только обуза».
Рубен смотрел на портрет своего деда, свысока взирающего на него через монокль.
– Вам лучше обсудить это с моей матерью… – прошептал он дипломатично.
– Мне нечего с ней обсуждать, – сказала она надменно.
Костяшки ее пальцев, схватившихся за край стола, побелели.
– Послушай-ка, – рявкнула она. – В вашем доме уже давно живут другие люди. Мир поменялся, мы все приспосабливались к новым обстоятельствам, и тут с неба сваливаетесь вы, полагая, что все будет по – старому…
– Вы правы…
Рубен как во сне проследовал к двери.
– Вы правы. Простите, что побеспокоил…
Сплотившаяся в целях выживания община постепенно распадалась – один за другим ее члены покидали ковчег, созданный матерью Лотты. Когда колесо ежедневных обязанностей по поддержанию хозяйства остановилось и вокруг все стихло, ее тело свело судорогой. Она лежала на кровати, корчась от боли. В спальне висел горьковатый запах, а промокшее постельное белье надлежало постоянно менять. Безуспешно пытаясь поставить диагноз, семейный врач вызвал «скорую». Какая ирония: те, кому в течение нескольких лет она помогала сохранить жизнь, ушли из дома в полном здравии, в то время как ее пришлось тащить на носилках. Что с ней такое, выяснилось в отделении неврологии: резкое расстройство нервной системы, которая долгие годы подавала сигнал «опасность».
Ее муж придавал значение другим вещам. Он ругался на англичан, канадцев, американцев, набрасывался на новое правительство, сопротивлялся ликованию и возвеличиванию западных союзников на фоне всеобщего замалчивания грандиозных заслуг на востоке.
– Без Сталинграда, без Восточного фронта, без многомиллионных потерь Советской армии, без несгибаемости и хитрости Сталина, – доказывал он, – у Западного фронта не было бы ни малейшего шанса выиграть войну. С востока надвигалась серьезная опасность, об этом прекрасно знал Гитлер и все немцы – почему об этом молчат, почему эту тему обходит пресса? – И сам же давал ответ: – Из страха перед большевиками! Ха! Поскольку не фашизм, но коммунизм их самый заклятый враг! Этот страх всех их объединит!
Дрожа от негодования, он заводил пластинку. Успокоить его могли лишь великие композиторы – за исключением Вагнера, записи которого всю оставшуюся жизнь провалялись на дне самого дальнего ящика.
2
Когда-то давным-давно они вместе мылись в тазу, а теперь лежали в отдельных ванных комнатах пастельных тонов и размышляли о причудливом мучительном родстве, которое их притягивало и отталкивало одновременно. Они ежедневно встречались в пустых коридорах по дороге из грязевой ванны в кислородную или на подводный массаж. Устав от вида воды, неутомимо вытекающей из фонтанов, и гонимые страстным желанием выпить чашечку кофе, они обе оказались в банкетном зале. По крайней мере, любовь к кофе была у них общей – генная предрасположенность? Они воссоединились под «Ледой и лебедем». Как обычно, разморенное состояние после процедур как рукой сняло, когда Анна в очередной раз завела разговор на «эту тему».
Дождливым сентябрьским днем Анна стояла за воротами со своим чемоданом. Война кончилась, идти ей было некуда. Она скучала лишь по одному человеку на свете, которого твердо решила отыскать, – план по его поиску давно созрел в ее голове.
Первым этапом этого плана был Бад-Нойхайм в Гессене, где она собиралась встретить Ильзу. Ее подвезли в открытом кузове грузовика, набитом шестьюдесятью освобожденными солдатами вермахта. Ветер продувал мокрую униформу. Трясясь от холода, она крепко держалась за край кузова.
– Сядьте в кабину, рядом с шофером, сестра, – настаивал один из солдат, – а если тот будет распускать руки, позовите нас, мы быстро приведем его в чувство.
Солдат постучал в кабину, грузовик затормозил. На ломаном английском он объяснил ему суть дела.
– Of course, – кивнул черный американец, галантно открывая Анне дверцу.
Внутри было тепло и удобно. Водитель по-братски разделил с ней бутерброд. Каждый со своим акцентом, они говорили на разных языках.
– Куда путь держите? – спросил он.
– У меня никого нет, – ответила она. – Муж погиб, дом разбомбили. В Бад-Нойхайме у меня встреча по поводу возможной работы.
Испугавшись собственной откровенности, она посмотрела на его гибкие коричневые пальцы, свободно державшие руль. Кто он? Кто она? Откуда они взялись и куда следуют? Бывший раб из Африки попал в Германию через Америку, а бывшая служанка из Кельна вернулась в Германию из Австрии, бывшая пленная в компании бывшего раба, которого несколько минут тому назад, ко всему прочему, считали потенциальным насильником. Будто почувствовав ее замешательство, он дружелюбно улыбнулся.
В Бад-Нойхайме она принялась разыскивать адрес, который оставила ей Ильза. Прогуливающиеся мимо американцы заговаривали с ней. Не получая ответа, они в изумлении смотрели ей вслед – большинство женщин ловились на их приманку, с готовностью прогуливались с ними по городу, держа их под руку и куря их сигареты. Анна была так сосредоточена на своей неприступности, что долго не замечала искомой улицы, которая находилась прямо под ее ногами. Хозяйка впустила ее в дом и вручила записку от Ильзы с таким видом, будто дело касалось государственной тайны. Ильза уже уехала к своим родителям в Саарбург и просила Анну следовать за ней.
– Как же мне туда добраться… – вздохнула Анна.
Саарбург располагался во французской зоне, и лишь тамошним жителям, имевшим при себе необходимые документы, разрешалось туда вернуться. Анне как жительнице Вены доступ в город был закрыт.
– Что-нибудь придумаем, – шепнула женщина, оставляя ее в чистой спальне.
В том же доме был расквартирован американский офицер, адвокат из Чикаго. Анну представили ему на следующее утро. Оказалось, что колоссальная империя, простиравшаяся между двумя океанами и завоеванная при помощи крытой телеги, лассо и ружья, случайно произвела на свет цивилизованного гражданина, который к тому же разговаривал на ее языке.
– То, что нацисты причинили немецкому народу, – ужасно, – выразил он свое сочувствие.
– Мне лично нацисты ничего не сделали, – сказала Анна сурово, – а вот американская артиллерия убила моего мужа, американские бомбы разрушили мой дом, американские солдаты захватили меня в плен.








