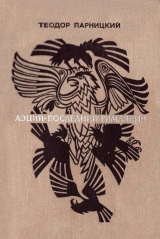
Текст книги "Аэций, последний римлянин"
Автор книги: Теодор Парницкий
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц)
При виде их Плацидия уже не может сдержать ярости.
– На колени! – кричит она нечеловеческим, хриплым голосом. – На колени, изменники, убийцы!.. Бешеные псы! Вот здесь, здесь… целуйте его лицо… ее изуродованные ноги… Я сама, своей рукой отрублю вам ваши подлые головы… тупым мечом, видит бог… Меч! Дайте меч!
Крик ее переходит в дикий, смешной писк. Никто не двигается.
– Прости, великая Плацидия, – холодно говорит Астурий, – мы пришли уведомить тебя, что твой верный слуга, единственный защитник империи, непобедимый Флавий Аэций счастливо избежал злокозненной смерти… Но поскольку, как я вижу, ты уже знаешь…
На лице Плацидии тут же появляется маска достоинства и спокойствия.
– Флавий Аэций предстанет перед нами под стражей, обвиняемый в предательстве и убийстве…
– Нет, великая, он предстанет здесь и уже скоро – может быть, через два-три часа – как счастливый победитель короля Теодориха…
Вскрик удивления и отчаяния вырывается из груди Плацидии. Среди приближенных небывалое смятение. Астурий же спокойно продолжает:
– Он предстанет перед великой Плацидией уверенный, что его не минует заслуженная награда… награда не только за победу – это не столь важно, поскольку для Аэция она привычна, – он должен быть обласкан тобой за опасность, которая ему грозила из-за угла, а не тогда, когда он подставлял свою грудь в честном бою за тебя, о великая.
Снаружи донеслись вдруг громкие крики, трубы, звон оружия. Еще сильнее побледнели сановники и сенаторы.
– Что это? – тщетно пытаясь сдержать тревогу, воскликнул префект претория Феодосий.
Андевот усмехнулся.
– Это италийские легионы, и прежде всего преданные спатарии и скутарии Августы Плацидии выходят встречать победителя. А зачем они сюда пришли? Им, наверное, кажется, что сиятельные мужи захотят следовать во главе их…
– И действительно, сиятельные мужи, – подхватил Астурий, – кто пойдет приветствовать победителя от имени Августы Плацидии и сената Рима?
Не услышав ответа, он с нарочитой небрежностью добавил:
– Кто знает, а вдруг солдаты, которые проливают кровь за императора и сенат, обидятся… и очень обидятся, что никто, кроме них, не хочет воздать победителю…
– Я иду, – сказал Геркулан Басс.
– И я, – поспешно подхватил Секст Петроний.
– Я тоже, – откликнулся молодой Квадрациан, друг патриция Феликса.
Астурий посмотрел на них благосклонно, Петроний Максим – с презрением; Плацидия не посмотрела совсем – возможно, она уже никому не смела показать своих глаз.
– От имени легионов и орденов Италии благодарим вас, сиятельные мужи, – послышался снова голос Астурия, – но смею думать, что счастливому победителю, чудом спасшемуся от коварного убийства…
– Ты хотя бы постыдился своей трусости и лжи, Астурий, – произнесла, не поднимая глаз, Плацидия. – Почему у тебя нет смелости сказать: Аэций нам велел – и мы убили… Мы сильны и сегодня убиваем Феликса, а завтра кого-нибудь еще… Ведь ты же сам не веришь в то, что говоришь о коварном убийстве, которого избежал Аэций, а…
И тут произошло вдруг неслыханное. Даже Андевот оробел и смертельно побледнел. Астурий смелым быстрым шагом подошел к Плацидии, чуть ли не оперся еще окровавленным локтем о священную руку и, приблизив свое лицо к священному уху, что-то зашептал.
– Это неправда… – услышали сановники и придворные уже не возглас, а стон, который сорвался с внезапно побледневших губ Плацидии.
– Ты сама знаешь, что это правда, великая Августа… Когда Леонтей принес тебе в эту самую комнату весть о том, что видел меня около терм, ты велела Феликсу…
– Молчи… не говори ничего, – громко прервала она его шепот. – Закончи то, что ты хотел сказать до этого, Астурий…
– Я говорил, что Аэцию, несомненно, будет приятно встретить сиятельных мужей, но наверняка большую радость ему доставит, если высшему воинскому начальнику первым воздаст честь высший в данную минуту цивильный начальник…
Слова «в данную минуту» он произнес, особо акцентируя их.
– Я пойду, если ты, великая, повелеваешь, – сказал префект Феодосий.
– Великая Плацидия повелевает, не так ли? – устремил на Плацидию испытующий, многозначительный взгляд Астурий.
– Повелеваю…
После этого все сановники стали тесниться к Геркулану Бассу, выражая желание сопровождать его при встрече Аэция. Один только Петроний Максим не двинулся с места, где он стоял, склонившись над окостеневшими обрубками ног Падузии.
– Что мы должны сказать сиятельному Аэцию? – спросил префект.
Все вопрошающе взглянули на Плацидию. Она молчала. Молчали и Астурий с Андевотом.
И тут тишину прервал голос Геркулана Басса:
– Ты скажешь, сиятельный, что великая Плацидия благодарит великого полководца и своего возлюбленного слугу за блистательную победу… что она радуется и возносит благодарения Христу, поскольку оный возлюбленный слуга ее счастливо избегнул злокозненной смерти. Об одном только жалеет она, что тот презренный, кто умышлял этот коварный удар, не станет пред императорским судом, а сразу перед господним, иже покарал его сурово – о, воистину сурово! – но и справедливо, самовольный, к прискорбию, но понятный и правый гнев народа, обожающего своего заступника и предводителя италийского войска… И еще скажешь, что в следующий господний день епископ Эгзуперанций по настоятельному желанию Августы Плацидии отслужит в Урсианской базилике двукратный благодарственный молебен: за победу над готами и за чудесное избавление Аэция от коварного удара убийцы…
– Эгзуперанций при смерти. Он не проживет и дня, – прервал его Секст Петроний.
– Значит, его преемник! – воскликнул Андевот, уже не в силах скрыть своей радости.
Басс же продолжал:
– И еще скажешь прославленному победителю…
Через бесконечно длинные коридоры и семь обширных комнат прошла Августа Плацидия ровным, спокойным, царственным шагом. Но как только упала за нею пурпурная завеса на пороге триклиния императора Западной империи Валентиниана – бессильно рухнула на пол, задохнувшись, как малое дитя, судорожным, громким рыданием. Но услышав, что одиннадцатилетний император вторит ей еще более громким плачем, Плацидия тут же вскочила на ноги, крепко обняла сына и, прижимая черную головку к увядшей груди, быстро зашептала:
– Запомни: Аэций – это бешеный пес… змея… самый большой, смертельный враг… Не прощай ему никогда… никогда не прощай… не успокаивайся в кознях против него, подкопах, мести… Когда меня уже не будет, ты отомстишь за унижение и слезы матери, ведь так, сын мой?
Неожиданно она легко оттолкнула Валентиниана и, вскинув стиснутые кулаки, крикнула:
– Но и я еще не проиграла! Не отступлю, не сдамся, не успокоюсь! У меня есть еще друзья… Есть Бонифаций!..
Соперник

1
Бонифация, у которого был необычайно чуткий и легкий сон, сразу разбудил шорох босых ног около ложа. Удивленный, он сел в постели: рядом стояла Пелагия. Волосы у нее были распущены, ногти не накрашены – одета она была в одну только ночную столу, открывавшую плечи, шею и верхнюю часть груди. Остатки сна тут же покинули Бонифация: значит, произошло что-то особенное, если Пелагия прибежала сюда из гинекеи, в чем спала, не накинув на себя никакой одежды, не надев сандалий!
Сердце забилось у него сильнее: неужели, пока он спал, вандалы вторглись в город? Он бросил на жену вопросительный, полный тревоги взгляд и вдруг почувствовал, как кровь мощной горячей волной подплывает к голове: а может быть? Может быть, она пришла только для того, чтобы быть с ним?.. И может быть, поэтому она так одета?! Совсем забыв о вандалах, он протянул к ней полные робкой надежды руки, гладкие, красивые, сильные… Неужели она наконец смягчилась?.. Поняла его?.. Решила примириться?!
Но тут же отдернул их, пораженный её необычайным взглядом: не мягкость, непонимание, нежелание примириться, а гордая, дерзкая издевка и странная, настораживающая радость были в этих самых любимых черных африканских глазах, в которых Бонифаций годами привык видеть только неуступчивое упрямство, пренебрежительную грусть или обиду и гнев.
Он слишком хорошо знал ее, чтобы не понять сразу все. Значит, случилось что-то, о великий боже?! Кровь отливает от лица уже не такой сильной волной. Бонифаций дрожащей рукой крестится, вскакивает с ложа и, стыдливо прикрывая красивое нагое тело, бежит к широкому окну, откуда открывается чудесный вид на всю главную часть королевского Гиппона – от побережья до самой базилики Восьми мучеников.
Никакой праздник не приходился на этот пятый день перед сентябрьскими календами; вандалы, осаждающие город вот уже несколько недель, не проделали в стенах нового пролома; час ранний: время работы для гумилиоров и еще не прерванного сна для гонестиоров [46]46
Honestiores – почетные горожане (лат.).
[Закрыть]; на небе ни тучки, на море штиль – утреннее африканское солнце слепит тысячами лучей, гнетет безжалостным зноем: но ведь вот же – Бонифаций видит – весь Гиппон, как один человек, высыпал на улицу, невзирая на время, на работу, отдых, зной… Тысячные толпы мужчин и женщин, старцев и детей, гонестиоров и невольников – мрачно рокочущими ручьями, потоками, реками выплывают со всех сторон к главному форуму и сливаются в одно безмерное, скорбно гудящее море, беспомощно бьющее сотнями посыпанных прахом голов о желтый мрамор базилики Мира.
Солнце как будто меркнет, ослепленное апокалиптическим светом, идущим от такого множества свеч, светильников, ламп и факелов, никогда никакая, даже темнейшая из темных гиппонских ночей ничего подобного не видала. Перед самым домом, где живет Бонифаций, катится толпа, состоящая преимущественно из людей в зрелых годах: рыбаки, ремесленники, крестьяне – почти все плачут и то и дело бьют себя в мощную грудь большими и тяжелыми, как молоты, кулаками… Исцарапанные ногтями лица вымазаны грязью либо плотно укрыты вместе с головой… Из общего гула и плача время от времени вырывается чье-то громкое рыдание или полное невыразимого отчаянья: «Увы нам!» или «Господи Христе, смилуйся!»
В какой-то момент Флавий Бонифаций, наместник Африки, гордость римского оружия, неустрашимый и несокрушимый, хотя и не всегда удачливый солдат, заметил вдруг, что по обеим его щекам катятся крупные жгучие слезы. Он торопливо вытер глаза и лицо краем ткани, которой, вскочив с постели, прикрыл свою наготу, и отвернулся от окна, кинув настороженный взгляд на Пелагию: видела ли?
Видела. Об этом явно говорил ее взгляд, еще более издевательский и радостный, торжествующий, дышащий гордым сознанием силы, свободы и победы. Если бы не этот полный жизни взгляд и не беспрерывное подергиванье пальцев, выдававших ее необычное волнение, могло бы показаться – так неподвижно застыла она возле ложа! – что это не живое существо, а изваяние, под которым спустя много-много веков – когда сойдут с него краски, а глаза вместе со зрачками утратят свое выражение – прибьют табличку с надписью: «Гипс. Римлянка из Африки в ночной одежде».
Бонифаций же, глядя на нее, подумал: «Торжествующая ненависть», и еще подумал: «Иисусе, разве это возможно, чтобы так могла ненавидеть женщина, слабое, хрупкое творение?! И кого?!»
Быстрым шагом он приблизился к ней и, взяв за дрожащую руку, произнес полным невыразимой печали голосом:
– Ты победила. Признаю. Но в этом нет твоей заслуги, твоих усилий – просто случайно. Как ручной голубь мысленно побеждает сраженного стрелой орла. Так будь победительницей, достойной своего великого противника и… своего мужа… Ты пойдешь поклониться ему.
С минуту она смотрела на него в остолбенении: впервые Бонифаций ставил ей в пример для подражания себя! Вот-вот она уже готова была взорваться от негодования (может быть, издевательским смехом – она сама еще не знала), но вдруг лицо ее просветлело, и она склонила голову в знак согласия. Хорошо, она пойдет с ним… пойдет охотно, даже с радостью, но не за тем, чтобы поклониться, а чтобы победно взглянуть в навсегда застывшее лицо… на закрытые глаза, из которых никогда теперь не блеснет молния вдохновенного гнева, и, конечно, для того, чтобы увидеть навеки сомкнутые уста, еще недавно для нее – это она признает – такие страшные, а теперь такие бессильные…
Бонифаций пожимает плечами.
– За свои чувства и мысли, – медленно, тихо, точно с трудом сдерживая гнев, начинает он, – ты сама ответишь перед богом на последнем суде; боюсь, что это будет страшный для тебя суд… Но помни: ты не смеешь не уважать горя, отчаяния и скорби этих тысяч…
И он указал рукой на окно.
В самый полдень заколыхалась молитвенно поющая толпа, окружившая базилику Мира. Громкие возгласы: «Дорогу… дорогу комесу Флавию Бонифацию!» – заглушили на минуту гул молитв и скорбное, молящее, покаянное пение… Людская толпа с готовностью расступилась, освобождая проход для своего земного вождя и защитника, который в закрытой траурными завесами колеснице ехал отдать последний поклон духовному вождю и защитнику. Не одна сотня глаз заметила в колеснице рядом с Бонифацием стройную женскую фигуру: и тогда взгляды мрачнели, ожесточались, наполнялись гневом и ненавистью. Сжимались кулаки, а губы, еще минуту назад произносившие священные, сокрушенно скорбные и сладчайшие благостные слова, бросали тихое, набухшее с трудом сдерживаемой яростью слово: «Еретичка!»
Она же, чувствуя на себе жгучий огонь сотен ненавидящих взглядов и мучительную тяжесть, точно каменья, швыряемых проклятий, еще больше утверждалась в своей торжествующей издевке и мстительном злорадстве: для них всех это день поражения и скорби, для нее – победы!
Траурная колесница наместника Африки остановилась перед небольшим старым домом прямо против северного крыла базилики Мира. Наиболее густая в этом месте толпа увидела сначала укрытого с головой в черную траурную тогу Бонифация, а потом Пелагию – также в трауре. В старом доме перистиль, фауцес, атрий, триклиний и все кубикулы были тесно забиты плотной людской массой, над которой, словно кроны пальм, шелестя, колыхались сотни голов, преимущественно черных, курчавых, лоснящихся, резке седых или лысых – все всклокоченные, густо посыпанные прахом или пеплом. Казалось, что руки некуда просунуть ни в одной из комнат – и все же, как только высокая фигура Бонифация завиднелась у входа в перистиль, сейчас же через все комнаты насквозь пробежал к перистилю в три шага шириной свободный проход, в конце которого сверкнул ослепительный, точно неземной, свет.
И тогда наместник Африки взял жену за руку, как берут ребенка, и быстро повел ее под огнем сотен пар сверкающих глаз через длинный ряд утопающих в полумраке комнат. Пелагия сразу заметила, чем ближе приближались они к свету, тем меньше внимания обращали на них тесно сгрудившиеся люди: сосредоточенные, набожные, заплаканные лица смотрели в одну точку – на низкую дверь, из которой струился на скрытые мраком головы этот необычный свет. На пороге этой двери Бонифаций на миг задержался: быстрым движением руки стянул с головы черную тогу, после чего, зачерпнув из ладони стоящего рядом старца пригоршню праха, посыпал на свои темные, но гладкие – не курчавые – волосы и, шепнув Пелагии: «Останься тут», – решительным, упругим солдатским шагом двинулся в свет…
Свет, бьющий из низкой двери (входя в нее, Бонифаций вынужден был нагнуться), сразу заставил Пелагию плотно закрыть глаза; лишь через минуту она осмелилась приоткрыть веки и взглянуть перед собой. Она стояла на пороге комнаты, низкой, но просторной, освещенной по меньшей мере двадцатью разного рода и величины светильниками и в два, а то и в три раза большим числом свечей. Шестнадцать больших свечей на высоких бронзовых подставках окружали стоящее посреди комнаты узкое ложе – по четыре на каждом углу. Первое, что уловил взгляд Пелагии, когда она впилась жадными глазами в скромное ложе, – это большую молочно-белую бороду, в которой совсем тонули губы… те губы, что – некогда столь страшные для нее – умолкли и сомкнулись навсегда… губы врага… Да, врага. А разве не был он им для нее? Разве не был он ярым врагом ее веры?.. Жупелом священнослужителей этой веры?! Она отлично помнит: ведь еще так недавно ее пастырь – арианский пастырь, святой епископ Максимин, вызвал вот этого покоящегося вечным сном ее врага на религиозный диспут. Ах, и теперь еще гнев охватывает Пелагию при воспоминании, что женщинам не разрешили присутствовать на диспуте. А она так хотела там быть! Весь день говорил тогда Максимин – говорил, как рассказывают, прекрасно, медоточиво, вдохновенно, как ангел божий… а враг слушал. Назавтра должен был слушать Максимин – весь Гиппон провел бессонную ночь, с волнением ожидая того часа, когда заговорит его пастырь. И вот с восходом солнца разлетелась весть, что епископ Максимин уехал! Святая Агата, что тогда поднялось в городе! Пелагия потом две ночи не спала, а днем тщетно старалась чем-нибудь занять себя: такой стыд сжигал ее и такая злость… Бонифаций смеялся, говорил, что Максимин струсил!.. Пелагия с жаром защищала своего епископа, но сама не очень верила в то, что говорила, и только тезисы, которые Максимин написал для этого диспута и огласил полностью, успокоили ее. Тезисы эти она читала много раз, так что знала их почти наизусть.
Максимин… Максимин… Неужели то, о чем она на этом месте сейчас думает, тут же чудесным образом приобретало зримые формы? Она отчетливо видит в нескольких шагах перед собой большие буквы: «…llatio cum Maximino» [47]47
Спор с Максимином (лат.).
[Закрыть]. Первых букв недостает: пергамент до половины свернут, но Пелагия знает, что там написано: «Collatio…» Только теперь она замечает, что в одном из углов комнаты, где лежит покойник, большой беспорядок: книги рассыпаны, свитки в футлярах, накрученные на валки, наполовину развернуты, какие-то огромные листы и маленькие, убористо исписанные таблички – все это свалено в огромную кучу, которую, видимо, не успели убрать. А может быть, умышленно не тронули из уважения к покойному, который – как Пелагия слышала от Бонифация – в последние дни перед смертью хотел иметь под рукой все любимые или самые необходимые книги. Взгляд Пелагии с любопытством разглядывает бесформенную груду книг; некоторые названия бросаются в глаза: «Apollonius», «Pauli Apost…» «Contra Julianum», «Victorini Prosodia», «De tempore barbarico…» Но вот ее любопытствующий взгляд отрывается от книг и вновь обращается к смертному одру. Теперь она разглядела, что темный предмет странной формы в ногах умершего – это чья-то голова, сотрясаемая судорожным рыданием. Пелагия не знает, что голова эта принадлежит епископу Севериану, не знает она и священника Кводвультдея, который стоит на коленях чуть левее ложа, касаясь низко склоненной головой согнутого колена Бонифация. Зато она сразу узнает горячо молящегося старичка епископа из Буллы Регии, который еще в июне укрылся в Гиппоне от вандалов, и Каламского епископа Поссидия, коленопреклоненного с левой стороны останков, так что лоб его слегка касается уже навеки застывшей руки. Кроме этих пяти, в комнате находится еще один человек: единственный, кто молится стоя, – епископ города Константины Антонин. Его высокая фигура заслоняет широкими плечами заднюю часть комнаты, но за его спиной Пелагия высматривает два из Давидовых псалмов, которые покойный за одиннадцать дней до смерти велел повесить на больших листах над ложем. Антонин молится тихо, беззвучно плачет – его длинные, скрещенные на груди руки отбрасывают причудливую тень на белую бороду умершего. Время от времени руки двигаются, тогда худые, угловатые, остро торчащие локти взлетают черными крыльями справа и слева от черного неподвижного силуэта, заслоняя на стенах: «Miserere…» и «…ericordiam Tuam» [48]48
Ниспошли благодать свою… (лат.).
[Закрыть].
Пелагию вновь охватывает волна торжествующего злорадства: плачьте… молитесь… бейтесь головами о землю – ничто вам не поможет… не воскресить вам его… никогда уже ни словом, ни писанием не вооружит он, не призовет к битве с ее святой верой…
И с нею самой!
Пелагия с трудом сдерживает рвущуюся на уста улыбку радости и гордости: да, на сей раз она действительно победила… победила окончательно! И пусть даже это будет, как говорит Бонифаций, победа голубя над сраженным стрелою орлом… пусть она не принесет ей никакой славы… Не в этом дело. Не ради славы она боролась, ради истины господней, и вот ныне вместе с этой истиной она и победила! Воистину глупы и слепы все эти здесь, которые, полные тревоги, боли и отчаяния, все молятся и оплакивают кончину пастыря своего… глупые, глухие и слепые, неспособные понять ни воли божией, ни божьего предначертания… Для нее совершенно ясно: потому-то господь и насылает на них тревоги, горести и погибель, потому и лишает их последней опоры и утешения, которые они видели в том, кого называли величайшим слугой господним, – что не угоден богу такой слуга… Не угодны ему их обеты, молитвы и почитания: потому что извращают они правду божию… умаляют божье могущество и кощунствуют против него, дерзко утверждая, что не могло оно породить святейшего Христа, а само от века с ним составляло единое… Единость? Единосущность или подобосущность?.. Мысли Пелагии мешаются и мутятся, вдруг она чувствует себя усталой… Единость и множественность, единосущность и подобосущность – все это путается и переплетается одно с другим, становится непонятным и нелепым… А ведь когда она не касается этих вопросов, то все кажется таким легким, простым и понятным… все, чему учат теперь Максимин и Пасхазин и во что вот уже три поколения нерушимо верует могущественный род Пелагиев. Из знатных родов Африки – это, пожалуй, последний, что так упорно, невзирая на все возрастающие притеснения, верен учению Ария, которое на всем Западе уже почти никто не признает, кроме германских варваров. Но последняя наследница рода не только обороняется, как ее отцы и деды, – она побеждает…
И вновь нужно большое усилие, чтобы задушить распирающую все ее существо и стремящуюся вырваться наружу радость и гордость. Четыре года борьбы!.. Да, да, через девять дней, как раз в сентябрьские ноны, будет ровно четыре года, с тех пор как могущественный Флавий Бонифаций – наместник Африки и начальник дворцовой гвардии, любимец и друг Августы Плацидии – с первого взгляда влюбился в насчитывающую семнадцать весен последнюю наследницу рода Пелагиев. Разумеется, обширные и богатые владения между Гиппоном, Диаритом и Тамугади, которые должны были достаться в приданое молоденькой Пелагии, сыграли не последнюю роль в решении прославленного комеса, а все-таки прежде всего великая любовь, которой он к ней воспылал, заставила его просить ее руки. Род Пелагиев с охотой согласился породниться с другом и любимцем Августы Плацидии, но все же поставили условие, что их дитя, сочетаясь браком с исповедующим никейский символ веры, не будет принуждаемо к смене вероисповедания. И набожный Бонифаций согласился. Это была первая ее победа.
А другие?.. Другие она одержала не только над мужем, но и над епископом Африки… Когда она почувствовала себя матерью, Бонифаций потребовал, чтобы его ребенок, как только появится на свет, был окрещен и воспитан в вере, которую он исповедует. Пелагия ответила: «Нет». Началась борьба. Родилась девочка. Епископ Африки засыпал прославленного наместника письмами и устными строгими напоминаниями и дружескими советами. Пелагия отвечала: «Нет». И девочка была окрещена арианским священником.
– Ты меня поймешь?.. Ты меня простишь? – с грустью и тревогой в голосе шептал Бонифаций, глядя в окаменелое лицо епископа Африки. – Не справился… не смог… Пусть тебе Христос всезнающий, в лоне которого ты уже покоишься, сам скажет, мог ли я сделать иначе?..
И через минуту:
– Разве ты не учил нас словами апостола и своими собственными, что Христос – это бог любви и вся его вера и церковь только на любви и зиждутся?!. На любви, а не на насилии… Как же я мог насилием склонить ее, чтобы она почитала нашего Христа, нашу веру?.. Ты, который теперь знаешь все, скажи… скажи сам, разве угодно было бы отцу нашему, иже на небесех, уловление для него душ устрашением, насилием, мужской властью?! Я солдат, мудрейший отец, – не священнослужитель: всех путей мудрости божьей не уразумею, не проникну, но верю, что нимало не почту и не порадую господа нашего, если сумею принудить чьи-то стопы следовать в ту, а не в другую церковь, а сердца не переделаю… И поэтому… только поэтому…
Он вздрогнул. Как только он произнес «только поэтому», оживилось вдруг неподвижное, мертвое лицо, и, хотя не раскрылись мудрейшие глаза, хотя не сказали ему ничего в ответ толстые африканские губы, даже после смерти еще по-молодому мясистые и почти пурпурные, все равно Бонифаций отчетливо увидел тонкую, какую-то многозначительную и, скорее всего, издевательскую улыбку в уголках губ епископа Африки, и вместо того, чтобы побледнеть от испуга, он залился горячим румянцем.
– Да… да… я знаю… знаю, что ты хочешь сказать, – начал он шептать быстро, лихорадочно, страшно растерянный и пристыженный. – Ты издеваешься надо мной и смеешься над моими словами, потому что думаешь: «Правду ты сказал, Бонифаций: любовь тобой правит и дела твои определяет, но не Христова, а суетная, земная, людская любовь». И еще думаешь: «Бонифаций – это лист осенний, господней рукой кинутый на распутье: земной голос сердца, как вихрь, подхватит его без сопротивления и понесет, куда захочет». Правду сказал ты, святой, мудрейший отец, только кто, кто лучше тебя знает, что суть сердечные бури и сколько мощи и святости надо, чтобы с ними бороться?! А вот этой мощи и святости не даровал господь бог наш солдату, которого ты как-то раз изволил назвать своим другом и сыном…
Епископ Антонин снова пошевелил локтями, и тень, лежавшая на губах покойного, придавая им выражение издевательской усмешки, переместилась на шею и грудь. Перед Бонифацием снова был недвижный облик, серьезный, спокойный… Но мысль его все еще судорожно цеплялась за упоминание о сердечных бурях и теперь, призвав на помощь память, бродила уже по всем книгам «Вероисповеданий», отыскивая все больше сходства между собой и тем, кому господь не отказал в милости, даровав святость и мощь…
– Как это правдиво, что он писал потом о милости… Воистину, ничего бы я так не хотел, как дождаться той минуты, когда я почувствую, что на меня нисходит милость… милость святого господнего покоя…
Доселе этой милости он никогда не изведал. Вся его жизнь – вопреки тому, что было начертано на красивом, благородном лице, – была сплошной полосой тревог и терзаний. Действительно, он был подобен осеннему листу, кружимому страшной бурей вечно неудовлетворенного сердца. Как тяготила его борьба с женой из-за веры, а потом из-за крещения ребенка! Он не солгал перед собой и перед духом епископа Африки, когда говорил, что верит, что нельзя принуждением уловлять души для Христа, но одновременно чувствовал, что только любовь к Пелагии руководит его поступками, в глубине же души нередко считал себя достойным адского огня за нерадивость и лень в служении господу… Сколько раз бывало по утрам, с обожанием целуя ноги Пелагии, клялся ей, что сделает с ребенком, как она пожелает, – а вечером, возвращаясь из епископского дома, решал навсегда расстаться с женой-еретичкой. За три дня до смерти святого епископа он сказал ей это прямо в глаза! А разве после сражения с Маворцием, Сенекой и Галлионом не велел он своим солдатам жестоко истязать их, потом же, когда увидел растерзанные останки своих противников, разразился рыданиями, три дня не ел и не спал и наконец решил уйти от мира и стать отшельником?! И не стал им! А его отношение к Августе Плацидии? К вандалам? К народам африканских провинций?.. Он уже больше не может… нет сил… Поистине, сверх человеческих сил измучен он бурями вечно беспокойного сердца… Неужели никогда не снизойдет на него святой покой?.. С восхищением и одновременно с какой-то грустью и завистью жадно всматривался он в невыразимый покой, исходящий от лица умершего старца: вот и тут достиг он наконец счастья покоя, искусный воитель, неутомимый в борениях с бурями сердца… столькими вихрями терзаемый, несгибаемый великий дух, искатель путей божьих, Августин… А когда же я?..
– Славный муж… Вандалы…
В мгновение ока срывается Бонифаций с колен! Еще один торопливый прощальный взгляд на мертвое лицо Августина – и вот он уже идет быстрым, упругим шагом к низкой двери. Ни о чем не спрашивает – некогда. Он и без всяких расспросов знает, что произошло что-то действительно важное, если, не доверяя никому из своих подчиненных, комес Сигизвульт, его заместитель, лично, покинув стены города, идет в дом Августина – он, истый арианин, приверженец и могущественный поборник епископа Максимина! За низкой дверью как будто уже начинался ад: мрачная темнота, невыносимый шорох трущихся друг о друга в мучительной тревоге и отчаянье десятков тесно сдавленных тел, горестные возгласы, стенания, рыдания, взвизгивания – гиппонцы любили и почитали своего епископа, но еще больше боятся они вандалов: от этого такой безумный взлет горя и отчаянья. Даже в комнату, где покоится мертвый, проникает отчаянье и безумная тревога живых, жаждущих жить: епископ Северная отрывает от ложа голову и с беспокойством смотрит вокруг, Кводвультдей поднимается с колен и спешит за Бонифацием, почтенный пастырь Буллы Регия поднимает молящий взгляд на гота Сигизвульта. Один Поссидий, казалось, ни о чем не знает, ничего не слышит, а высокий черный Антонин вновь резко вскидывает острые крылья локтей и говорит негромко, но отчетливо, мгновенно унимая тревожную сумятицу:
– Утишьтесь, здесь покоится слуга божий Августин. Ты же – слуга императорский, ступай и сделай так, чтобы еретики не нарушали покоя и святости сна отца нашего…
И вновь погружается в тихую молитву. Кровь ударяет Бонифацию в лицо: никто не сомневается, что слова епископа относятся к Сигизвульту, каждый, однако, видел, что взгляд Антонина, когда он говорил, покоился на Пелагии, которая на какое-то время появилась на пороге и остановилась в полосе света. Еще до этого ее все узнали и передавали из уст в уста приглушенным шепотом: «Пелагия… еретичка». Но никто не знал, то ли следует ее осудить за то, что осмелилась сюда прийти, то ли, наоборот, радоваться, что пожелала поклониться епископу Августину; но после слов Антонина сдавленное шипение перешло в громкий ропот. И вновь почувствовала на себе Пелагия жгучий огонь ненавидящих взглядов и мучительную тяжесть каменьями швыряемых проклятий. И она, обведя их взором, платила им тем же – уводимая, – нет, увлекаемая мужем к перистилю. Они были сильнее, их было больше: это прибежище величия, покоя и святости смерти неожиданно сделалось каким-то чисто земным чистилищем, которое двойным пламенем ненависти и презрения клеймило ересь, выжигая клеймо на челе идущей вдоль двойного шпалера ортодоксов женщины.








