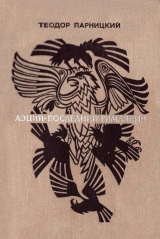
Текст книги "Аэций, последний римлянин"
Автор книги: Теодор Парницкий
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 22 страниц)
Префект претория Вирий Никомах Флавиан, с трудом сдерживая ироничную улыбку, незаметно склоняется к уху квестора святого дворца.
– Одно-единственное справедливое слово, которое прозвучало сегодня, – это именно недостойноечело, – шепчет он.
Квестор улыбается, но весьма сдержанно: он всегда умеет должным образом оценить шутку, но пусть не думает сиятельный префект, что квестор разделяет его чувства. Все знают, что возвышение друга Августы Плацидии – это настоящий удар по сенаторским родам, которые еще почитают староримских богов, и в первую очередь удар по Никомахам Флавианам, находящимся в тесной дружбе с главнокомандующим. Квестор с большой охотой позлорадствовал бы над щекотливым положением, в котором очутились могущественные Вирии (он презирает их веру и завидует их прославленному имени): взять, например, да и спросить с заботой в голосе, а что, сиятельный коллега не испытывает никаких опасений относительно дальнейшей посмертной судьбы своего отца и его памятника в сенате?.. История с этим посмертным почитанием и статуей натворила полгода назад много шума в Риме: отец нынешнего префекта при императоре Феодосии был также префектом претория Италии, главой староримской партии, принимал деятельное участие в последней вооруженной борьбе против христианства и пал под Аквилеей, победоносный же Феодосий приказал убрать из сената его изваянье и лишить посмертного почитания. Только Аэций, который после покушения на Феликса искал сближения с сенатом, добился от Плацидии снятия позора с Флавиана и согласия на восстановление его памятника в курии, чем завоевал расположение всех могущественных языческих сенаторских родов, которые благодаря численности и своему весу в Риме и всей Италии все еще держали верх над христианскими родами. Теперь квестор был уверен, что друг Плацидии пожелает все, что касается посмертной славы Флавиана, вернуть в первоначальное состояние. Но после краткого раздумья признал, что разговора об этом начинать, пожалуй, не следует, а чтобы что-то сказать, произнес:
– Воистину, со времени бегства Варрона из-под Канн Рим не помнит ничего подобного…
Тем временем новоявленный Варрон, так же как и настоящий шесть веков назад, пристыженный и придавленный, уже въезжал на форум Траяна. Как только он показался под аркой, все сенаторы, как один, подняв правую ладонь, воскликнули: «Ave, vir illustor!»
И все как один впились тысячеглазым взглядом в благородную статную фигуру… в красивое, с тонкими чертами лицо… в устремленные в землю красиво опущенные глаза…
А он, чувствуя на себе этот палящий жар любопытства, удивления и наверняка скрытой издевки, предпочел бы провалиться сквозь землю: ведь кто он, собственно, друг Плацидии, встречаемый как триумфатор императорами, сенатом, римским народом?.. Бунтовщик, которому не повезло и которого милостиво простили!.. Изменник, изменил императору и святой вере, призвав на помощь еретиков и хищных варваров!.. Плохой полководец, трижды разбитый хромоногим ублюдком!.. Беглец, который, потеряв надежду, малодушно бросил вверенный его попечению край, отдал его на разграбление яростным грабителям и кинулся через море, чтобы молить о прощении, готовый принять все: казнь, епитимью или презрительную милость, только бы обрести наконец после стольких лет бурь и треволнений желанный покой!
Под конной статуей Траяна стоят два мандатора в красных, расшитых золотом далматиках. Мандатор – это язык и ухо государя во время публичных выступлений.
– Приблизься, сиятельный муж! – скандируют оба сразу, великолепно соблюдая меру и силу голоса.
Дует пронзительный, холодный ветер, но друг Плацидии знает, что он не смеет в теплой, темной одежде предстать пред императорские очи. Поэтому он сбрасывает ее на руки стоящего сзади трибуна – гота и в одном далматике оранжевого цвета с черными клави идет через весь форум. Но он не чувствует январского холода. Гот следует за ним, чтобы в нужный момент набросить теплое одеяние.
Под конным изваянием Траяна возвышаются на высоту локтя два гипсовых бюста консулов – того года, который кончился, и того, который только что начался. Два белых изваяния: бородатое – Геркулана Басса, и грубо вырубленное, широкое, почти варварское – Аэция. Между двумя этими бюстами друг Плацидии преклоняет колени в первый раз.
– Кто это идет? – протяжным ритмичным голосом спрашивает мандатор с левой стороны памятника.
– Флавий Бонифаций, – таким же голосом отвечает мандатор справа.
– Пусть он приблизится к нашему обличию, – снова скандирует первый.
Бонифаций поднимается с колен и делает десять шагов. Гот с одеянием остается на своем место.
Мандаторы меняются местами. Бонифаций снова опускается на колени.
Теперь вопрошает мандатор, который до этого стоял справа:
– Кто мечом и советом служил великому Констанцию Августу, тогда еще патрицию, в борьбе с презренным – да будет он проклят богом! – Гераклианом?
– Достойный Бонифаций, трибун, – падает ответ.
– Кто по первому зову великой Августы Плацидии поспешил ей на помощь, мешая злым козням трижды презренного Кастина?
– Достосветлый Бонифаций, комес.
Голос левого мандатора возносится нотой выше:
– Кто поспешил незваным с денежной помощью к великой Августе Плацидии, отбывающей из Италии под давлением неблагодарности и измены? Кто нанял корабль для великой и ее благородных младенцев?
– Достопочтенный Бонифаций, вождь и комес Африки.
– Кто стойко отказывался признать презренного узурпатора Иоанна?.. Кто, пострадав от измены и козней неблагожелательных к нему сановников, пренебрег своим благом, когда настали тяжкие времена для святой веры и римского мира?.. Кто, укрепляемый царем нашим небесным, не согнулся, не поддался искушению, но мужественно грудью своей защищал божьи церкви и императорские города?..
Бонифаций поднялся с колен и двинулся прямо к обитому пурпуром возвышению. За ним следовали голоса мандаторов.
– Кто целый год геройски отражал грабителей и еретиков, посягающих на город, освященный жизнью и смертью святого епископа и мудреца божьего Августина?
– Сиятельный Бонифации, вождь и комес Африки, начальник дворцовой гвардии…
В это время поднялись с тронов Валентиниан и Плацидия. Бонифаций преклонил колени на ступенях подиума, прикоснувшись лицом к пурпурной ткани. Широкие складки оранжевой далматики с шелестом трепались на все усиливающемся ветру.
Префект претория Флавиан перехватил многозначительный взгляд Геркулаиа Басса: лицо бывшего консула было куда белее его гипсового изваяния. У обоих – у верного почитателя старых богов и у ревностного христианина – одинаково задрожали уголки побелевших губ, когда голос не мандаторов, а голос Плацидии, рискующей простудить свое священное горло, с огромной радостью и силой взлетел над вековым мрамором сердца Рима:
– Кто всегда был, есть и будет преданным слугой и верным другом великого императора Западной империи?..
И тут частым биением нескольких сот сердец ответил ей форум Траяна, опережая на несколько чреватых глухой тишиной мгновений тоненький голосок императора Валентиниана, восклицающий:
– Поистине никто, только трижды сиятельный и славный Флавий Бонифаций, комес и вождь, главнокомандующий и патриций Священной империи…
Префект Вирий Никомах Флавиан был слишком римлянином, чтобы у него не подогнулись колени при виде, как вырванное сильным порывом ветра одеяние Бонифация вылетело из окоченелых рук гота и упало на белое лицо Аэциева бюста.
4
Шел снег. Бессолнечное небо с раннего утра наваливалось непроницаемыми рядами мелких белых хлопьев, которые, ни на минуту не утрачивая плотного скошенного строя, победно кружили над головами, покрывали волосы, брови, усы, бороды, ресницы, оседали на плечах и даже пробивались под броню и одежду. Но Аэций все равно не пригласил послов из Италии в палатку. Спокойно выслушал он длинную речь Басса. Двукратно велел прочитать письмо Бонифация. Слушая, испытующе смотрел в лица послов. Он сразу обратил внимание, что бывший консул с героическим усилием сдерживает чувства и исполняет свою миссию так, как будто отбывает наложенную на него за очень тяжелый грех строгую епитимью. Сигизвульт не отрывал взгляда от заснеженных ног. Епископ Иоанн, прозванный Ангелоптес, то и дело судорожно стискивал сплетенные на груди пальцы рук. Один сиятельный Петроний Максим время от времени бросал исподлобья быстрый, насмешливый взгляд. «Это враг» – решил Аэций. А Максим, казалось, и не скрывал, что эту неприятную и почти мучительную для остальных послов минуту он переживает с чувством непритворного удовольствия. Ведь он же специально согласился поехать, чтобы – как он говорил друзьям в сенате – собственными глазами узреть, как выглядит дерзкий счастливчик, а вообще-то плохой игрок, наконец-то оставленный в дураках. И никто, слушая тогда его слова, не знал на самом деле, то ли в нем говорит все еще неутоленная жажда мести за смерть друга – Феликса – или же давняя презрительная ненависть и тщательно скрываемая зависть, которую в гордом представителе могущественного рода – партии Анициев – вызывал избранник бездумной Фортуны, сын солдафона, homo novus [51]51
Выскочка (лат.).
[Закрыть]который не скрывал своего нежелания иметь дело с Петронием и самым решительным образом разрушал все честолюбивые надежды, питаемые могущественным сенатором, в том числе и виды на патрициат.
Но, выступая в качестве посла, Петроний Максим действительно думал прежде всего о Феликсе. Как только он заметил огненно-рыжую голову Андевота, он сразу припомнил май – два года назад… Лавровый дворец в Равенне… лежащие на полу истерзанные останки Феликса и Падузии… «А ты вспоминаешь сейчас об этом, Аэций? – будто спрашивали его издевательски усмехающиеся глаза и презрительно искривленный рот. – Ты же такого тогда натворил… ты и твои бешеные псы… Ты шел к власти с сердцем и душой варвара: через ужасное, подлое убийство… И чего ты этим добился?.. Ты думал, что ты уже на вершине… что никто не станет тебе поперек пути… что стоит только руку протянуть к патрициату… Вот тебе теперь твой патрициат!..»
– «…и это ты тоже сделаешь, сиятельный, ибо такова священная воля великой Плацидии и таков мой приказ – приказ главнокомандующего и патриция империи», – закончил второй раз чтение письма молодой трибун Меробауд.
Но прежде чем он произнес последнее слово, Андевот разразился криком, похожим больше на звериный рев, чем на людской голос. Все, кроме Аэция и Максима, вздрогнули: огненноволосый Андевот вскинул к небу огромные, судорояшо стиснутые кулаки и, задыхаясь, вопил:
– Псы! Неблагодарные, подлые псы! Позор Риму! Позор Плацидии! Позор тем, кто согласился на такое гнусное посольство! Повесить таких послов!
Трое или четверо комесов и трибунов подхватили его последние слова, но остальные из Аэциевой свиты молчали, хотя глаза всех выражали изумление, тревогу, возмущение…
Аэций, ни на минуту не переставая улыбаться, пытался уловить взгляды послов. У епископа тряслись губы, Басс побледнел, но голос его был спокойный и строгий, когда он воскликнул:
– Ты можешь приказать нас повесить, Аэций, но ты не смеешь позволять, чтобы варвар бесчестил Рим и императорский трон.
Андевот вплотную подскочил к нему.
– Варвар проливает кровь за Рим и императора! – крикнул он хрипло, и лицо его исказилось гримасой гнева и ярости. – А вы, неблагодарные собаки, втихомолку, сзади обрушиваетесь на человека, единственного, который своей грудью защищает вас!..
– Довольно, Андевот! Аэций благодарит тебя. Послов я вешать не стану. Не дрожи, Петроний.
Лицо Максима залилось пурпуром. Аэций мстил за каждый взгляд.
– Я не дрожу, – с трудом сдерживая бешенство, ответил Петроний. – Изволь, я даже хочу – вели меня повесить, тебе это легко сделать – и увидишь, как я боюсь.
Комес Кассиодор бросил на Аэция умоляющий взгляд: у посла великой Плацидии волос с головы не может упасть!
Но Аэций, казалось, пропустил мимо ушей, словно бы не заметил оскорбления, содержащегося в словах Петрония.
– Верю, что ты не боишься, – сказал он почти дружелюбно, – и сиятельный Басс не боится, и святой епископ Иоанн. О Сигизвульте я и не говорю – он солдат.
А спустя минуту, будто что-то неожиданно вспомнив, он, придав лицу выражение удивленной задумчивости, воскликнул:
– А ведь бывают такие солдаты, что боятся… Вот, например, Бонифаций…
Послы посмотрели на него с удивлением, а Аэций тем же задумчивым голосом продолжал:
– Да, да… если бы не боялся, то наверняка не отправил бы такого знатного посольства… Вы только посмотрите: консул, епископ Равенны, прославленный и трижды победоносный полководец, сиятельный Максим – краса и гордость сената… Даже к грозному персу Варану не отправлял император Феодосии таких блистательных послов…
Максим снова улыбнулся уголками губ. «Грозного перса легче умилостивить, чем бешеного вепря из гуннской Паннонии», – подумал он, но тут же вынужден был признать про себя, что вепрь оказался не таким уж свирепым, как он ожидал. И это его рассмешило, ну теперь-то он все понял! Это не вепрь, а змей… подколодный змей… Свернется, а через год вновь попытает счастья на ступенях какой-нибудь базилики…
И довольный, что наконец-то понял Аэция, угадал его намерения, Петроний Максим начал прислушиваться к словам Басса.
– …и потому отправил такое блистательное, как ты изволишь говорить, посольство, чтобы ты уразумел и уверовал, что никто не посягает на твою честь и заслуги… что ты по-прежнему являешься величайшим полководцем империи…
– Ты так говоришь? – прервал его Аэций. – А почему же тогда не я, а Бонифаций назначен главнокомандующим?..
– Это только вопрос титула. Ведь и Феликс так назывался, а разве он командовал армией?..
Аэций рассмеялся и хлопнул себя ладонями по бедрам.
– Наконец-то поумнел Бонифаций! – воскликнул он. – А может быть, это Августа Плацидия поумнела? (Басс нахмурился.) Давно пора понять, что он даже в комесы не годится… Но поелику я должен и дальше командовать, то почему я должен выполнять его приказы, да еще в военных делах?..
Басс преклонил колено на снегу.
– Сиятельный муж, непобедимый воин, меч и щит империи! – голос его дрожал от волнения. – Твоего слова слушаются солдаты, трибуны, комесы, как будто это божье слово. Почему? Ты скажешь: потому что я веду их от победы к победе, от добычи к добыче… Это правда. Но если бы ты повел их в бой первый раз, почему бы они тебя стали слушаться? Потому что ты власть над ними, поставленная императором… Ибо воля императора, милостью божьей освященного, – это все равно что воля самого бога… Так что послушайся этой воли, сиятельный… Не время сейчас для раздоров, обид, личной мести. Франки – вон там, за этим синим лесом, ужасные вандалы – за морем, готы, свевы, бургунды – вот что повинно быть единственным предметом заботы истинного римлянина… Так напряжем же совместно все силы – спасем империю… спасем сладостный и благословенный римский мир! Покорись воле великой Плацидии, Аэций, о которой – если ты любишь правду – ты не осмелишься сказать, что она не помнит твоих заслуг… Разве ты не консул, сиятельный?..
– Да, я консул, Басс, но если я не захочу подчиняться воле Плацидии, разве я останусь им?..
– Вспомни Кастина, Аэций…
– Ты слышишь, Меробауд?.. Они замажут или сотрут мое имя на всех таблицах, разобьют все мои изваяния. Бедный ты, молодой друг!.. Можешь своим панегириком накормить короля франков – пергамент может быть съедобным, если как следует приготовить… Ты знаешь, Басс, с первым заморозком я придушил франков голодом!..
Послы с беспокойством следили за игрой мышц на лице Аэция. Низкий лоб перерезали борозды. Напряженно двигалась массивная, выступающая челюсть. Огромными ладонями он то и дело похлопывал себя по массивным, крепким бедрам. Торопливо скрылись куда-то устрашенные надвигающейся бурей остатки улыбки.
– Да, я заставил поголодать сикамбров, – в голосе Аэция появились свистящие нотки, – но они уже не будут голодать… Славный Андевот! Ты поедешь послом к благородному королю Клодиону… Если они возобновят феод и завтра же отступят в Токсандрию, то получат пятьдесят тысяч модиев [52]52
Древнеримская мера сыпучих тел, равная 9 литрам.
[Закрыть]хлеба и всех захваченных нами женщин…
– Как сиятельный?! – воскликнул Кассиодор. – Мы их так прижали и теперь вдруг мир?..
– Да, будет мир. Мне некогда возиться с франками. Я еду в Равенну.
– Один?.. – вырвалось у Максима.
Аэций снова усмехнулся, но это была уже другая улыбка.
– Еще не знаю, Петроний… Узнаю… А что, достойный поэт Меробауд, ты не хотел бы, чтобы вот этот сиятельный Максим, стоя в сенате, вынужден был три часа слушать твой панегирик? Пойдешь за мной?
– Повсюду, господин.
– А ты, Кассиодор?
– Куда поведешь, непобедимый.
– А Валерий?
– Ave, vir illuster!
– А достойный трибун Литорий?
– На смерть и жизнь, Аэций!
– А о чем думает Вит?..
– Я считаю, сиятельный.
– Что ты считаешь, друг?
– На пальцах одной руки – битвы, выигранные Аэцием. На пальцах другой – победы прославленного патриция. Вы видите?.. На этой руке мне не хватает семи пальцев, а на этой – четыре торчат бесполезно. Придется снова посчитать – не может быть, чтобы я считал хуже великой Плацидии.
Громкий взрыв смеха. Аэций треплет Вита по плечу и кричит:
– Трубачи!..
Басс хватает обеими руками край его одежды.
– Что ты хочешь делать?
– Спросить тех, кого я водил на Угольный лес, на Колубрарскую гору, на левый берег Дануба, – хотят ли они прогуляться со мной в Равенну?!
– Это бунт, Аэций?..
– Это возмездие, Басс!
– Но послушай, сиятельный муж, – воскликнул в испуге епископ Иоанн. – Ради Христа, которого ты почитаешь…
– Уж я-то лучше его чту, чем Бонифаций. Я не женат на арианке и не крестил своего ребенка в арианской церкви…
«Но зато, когда был у гуннов, жег церкви», – думает Максим.
Аэций кладет руку на плечо Сигизвульта.
– А ты, славный полководец, не хочешь еще раз побить Бонифация?.. Возможно, ты считаешь его более великим, чем я?..
Гот гордо хмурит брови.
– Слава тебе, непобедимый. Но я служу великой Плацидии.
– Мы также хотим ей служить. Для того и отправляемся в Италию, чтобы принести к стопам Августы Плацидии свою преданную службу…
Тибии, буцины и многочисленные рога заглушают голос Басса, снова строгий и полный торжественности и достоинства:
– Флавий Аэций, именем Августы Плацидии призываю тебя подчиниться приказу патриция империи. Призываю в третий раз.
– Я подчиняюсь его приказу, Басс. Разве я не делаю того, что он велит… чему учит? Как Бонифаций в консульство Пиерия, так я в свое собственное – его покорный и послушный ученик и подчиненный Аэций отвечает на приказ Плацидии: «Нет!»
Басс в отчаянье хватается за голову.
– Значит, война? Междоусобная война?.. Сейчас, когда вандалы…
– Пусть ад поглотит вандалов, Бонифация, Плацидию! Кто не умеет ценить заслуг, недостоин править. Стань на мою сторону, Басс, и ты увидишь, как надо награждать друзей.
– Я всегда был твоим другом, Аэций, – медленно и отчетливо произносит бывший консул, – но… но… в битве при Фарсале не за Цезаря стояли Бассы…
– Но после битв при Тапсе и Мунде встали на его сторону. Ты видишь? И Аэций читал Цезаря, друг мой. Слышишь эти трубы?.. Вот мой Рубикон. «Alea iacta est» [53]53
Жребий брошен (лат.).
[Закрыть]– так тогда было сказано.
5
Взор Бонифация скользнул по золотой радуге, которая во всю стену плавной, но резко бьющей в глаза аркой разрезала строгую однотонность сапфира и переливающуюся всеми цветами мозаику. Его гораздо больше занимали фигуры на мозаике, обрамленные радугой: Христос с бородой (Бонифаций второй или третий раз в жизни видел бородатое изображение Спасителя!), благословляющий неимоверно длинными пальцами слишком коротких рук Галлу Плацидию и Констанция, непонятно каким образом поместившихся на одном неправдоподобно узком троне с зелено-розовой обивкой.
– Это сирийская мозаика, – начала объяснять Плацидия, которая стояла рядом, почти касаясь Бонифация плечом.
Но Бонифаций, не отрывая глаз от выложенного из мелких цветных камешков лица Констанция, поспешно воспользовался паузой, которую Плацидия сделала, припоминая имя сирийского мастера, и торопливо вернулся к прерванному разговору.
– Я еще раз умоляю, о великая, – голос его переливался мягкими, сочными тонами. – Прежде чем я получу из твоих священных уст последний приказ, благоволи взвесить все еще раз. Ведь речь идет о человеке огромной известности и заслуг… о непобедимом полководце, поистине – пусть меня простит великая Плацидия – равном твоему великому супругу, – он указал кивком головы на мозаичный портрет Констанция с пышной, красивой бородой, которой тот никогда не носил.
– Старые книги гласят, что еще более великих полководцев скидывали с Тарпейской скалы, – возразила она без всякого гнева, – да и разве сами мы не посылали Маворция, а потом Сигизвульта против полководца, столь заслуженного перед нами и нашей империей?!
Красивое лицо Бонифация покрылось огненными пятнами. Плацидия какое-то время вглядывалась в него со странной усмешкой и наконец тихим, чуть дрожащим голосом сказала:
– Одним только я обязана Аэцию… Его можно поблагодарить за ступени Урсианской базилики…
Он недоуменно посмотрел на нее.
– Какой ты недогадливый, патриций империи, – произнесла она почти шепотом. – Ведь если бы Феликс был жив, то по сей день был бы патрицием… Презренный Феликс, который чуть не лишил трон его вернейшей опоры. Как ты мог ему верить! – воскликнула она снова громко, с упреком и почти гневно.
Но прежде чем он успел ответить, она вновь приглушенным голосом, почти касаясь пальцами его большой руки, прошептала:
– Но теперь мы будем вдвоем при императоре… Ты и я, и никого, кроме нас… Наконец-то… Ты не рад, Бонифаций?..
– Я хотел бы радоваться, великая…
– Ты не веришь в себя?.. Боишься Аэция?! Низкого человека!.. Но ведь за тобой стоит Плацидия, а за Плацидией – сам Христос… Он одолеет гнусных гуннских демонов… Он не оставит своей ревностной почитательницы и преданной слуги…
– А если?
– Молчи… молчи… Это невозможно. В это нельзя поверить. А если случится это – но видит Христос, не случится, Бонифаций! – я верю: император Восточной империи Феодосий не откажет в гостеприимстве и опеке своему великому брату, Валентиниану, его родительнице и преданному их слуге…
Длинные, сужающиеся к ногтям пальцы почти лежали на широкой, сильной и нежной ладони.
– Никогда, великая Августа… Никогда, клянусь Христом и спасением моей души!.. Ты никогда не увидишь – разве что в день страшного суда – Бонифация, вновь побежденного… убегающего от врага… Если победит Аэций…
– Не победит… Ты победишь… Ты должен победить!.. Только с тобой я чувствую себя в безопасности и сильной… Только с той поры, как ты рядом, я не дрожу за нашего императора… только теперь я спокойно ложусь в постель…
Необычно маленькие уши мозаичного Констанция наверняка не услышали слово «постель», но слишком круглые, почти рыбьи глаза его не могли не видеть, как с последним словом Плацидии сплелись вдруг в судорожном пожатии две пары дрожащих рук, а красивая темная голова бессильно опала на свое собственное, выгравированное на бронзе изображение, висящее на странно подвижной в эту минуту цепочке. Умерший одиннадцать лет назад солдат из Наисса, казалось, с абсолютным равнодушием к делам этого мира и даже с дружелюбным сочувствием к лишениям и тяготам строгого вдовства смотрел на этот неожиданный взрыв, в котором все для него было человеческим, простым и понятным, кроме одного: как же это получилось, что Бонифаций не только не отодвинулся, даже самым деликатным образом, дабы избавить и себя и Плацидию от искушения: он – такой скромный, стыдливый и всегда такой строгий к себе! – нет, более того, судорожно сжимая ее руки, он ласкал припавшую к нему женщину взглядом, столь тоскующим и выдающим такой великий, мучительный и как будто давно не утоляемый любовный голод, как будто у него вовсе не было красивой молодой жены, которая подарила ему ребенка и в которую он был до безумия влюблен?!
В следующее мгновение они очутились в разных концах радуги. У Бонифация еще дрожали руки, а у Плацидии судорожно вздрагивали уголки губ и часто-часто стучали зубы.
А через минуту, когда Бонифаций стоял уже на пороге, Плацидия сказала спокойным, повелительным голосом:
– Послы вернулись. Завтра сенат провозгласит Аэция бунтовщиком, объявит его вне закона и попросит Августу Плацидию поручить патрицию империи возглавить карательную экспедицию. Да поведет тебя Христос!
В ту ночь уже не два часа, а до самого рассвета ходила босиком Плацидия по острому битому камню. На другой день она не могла надеть башмаков, и в этот день никто не удостоился милости лицезреть священное обличив великой Августы Плацидии.
6
Словно окаменелые в тревоге и отчаянье жены воинов-братьев, вышедших на смертельный поединок друг с другом, со стиснутым сердцем, затаив дыхание следила Галлия и Италия за начатой сразу же после январских ид игрой. Аэций – предваряемый снегами и заморозками, точно мандаторами своего гнева и мести, с присущей ему быстротой перебросил войска из Бельгики в Рецию и выискивал самое удобное место для перехода через Альпы, в то время как Бонифаций только еще выходил из Рима, направляясь Фламиниевой дорогой к Равенне. Аэций вел около тридцати тысяч воинов, в том числе четыре тысячи конницы или – как подсчитали сведущие в Риме люди – почти все, включая гарнизоны городов, комитатные отряды [54]54
Оккупационные войска.
[Закрыть]Галлии, которые – кроме двух легионов – как один пошли за своим главнокомандующим. Таким образом, Галлия была совершенно оголена и отдана на милость федератов. Те пока не двигались с места, зачарованно следя за борьбой непобедимого Аэция с Плацидией, кроме того, они были так загипнотизированы величием Аэция, что ни на минуту не переставали верить, что не может быть иначе, чем сказал Аэций, который обещал – с титулом патриция и с головой Бонифация на аланском копье – через две недели вернуться в Галлию и самым суровым образом расправиться с теми федератами, которые, воспользовавшись его отсутствием, нарушат перемирие. В Италии мнения поделились: опытные люди полагали, что если Бонифаций сумеет помешать Аэцию переправиться через Альпы, то решающая победа наверняка будет за Плацидией; а если же Аэций вторгнется в Италию, то к нему примкнут гарнизоны Аквилеи, Медиолана и стоящие на Паде ауксиларии; тогда силы обеих сторон будут равны, и более чем сомнительно, сможет ли патриций противостоять непобедимому, разве что запрется, как в Гиппоне, в каком-нибудь из укрепленных городов; наиболее подходящим для этого знатоки считали Медиолан, Патавию [55]55
Современная Падуя.
[Закрыть]или Аримин.
В амфитеатрах – атлеты, в цирках – белые, красные, голубые и зеленые квадригарии, в театрах – трагики, мимы, канатоходцы и фокусники – все они сразу перестали занимать жителей Вечного города. Спорили об заклад только о том, кто победит: Аэций или Бонифаций?.. И прежде всего о том, что сделает победитель с побежденным и схваченным противником… Больше всего интересовала в случае поражения судьба Аэция. Известны были его угрозы, что схваченного соперника он сначала прокоптит в дыму и, когда тот задохнется, отрубит голову. Но никто не знал, как поступит победитель-патриций. Бонифаций покидал Рим, облеченный такой властью и свободой действий, какой не имел даже Констанций, пока не стал императором. В то время как муж Плацидии был обязан всех побежденных и схваченных им узурпаторов и бунтовщиков отсылать на императорский суд или же наказывать строго по букве полученного им приказания, – Бонифаций добился у Плацидии и сената позволения самому решать, что делать с побежденным Аэцием: и, стало быть, он мог, даже не обращаясь в Рим, ограничиться одним ослеплением, отрубить правую руку, а то и просто изгнать и конфисковать имущество. Плацидия очень неохотно, после длительного сопротивления рассталась с мыслью увидеть голову ненавистного Аэция у своих ног, но Плацидии в то время, более чем когда-либо, требовалось сохранить хорошие отношения с сенатом, а сенат как раз не только поддержал, но и почтил решением желание патриция выбить медаль, на которой были бы увековечены его истинно римская humanitas [56]56
Человечность (лат.).
[Закрыть]и милосердие, присущие христианскому полководцу. Сенат был того мнения, что заслуги Аэция в защите римского мира и всей Западной империи настолько велики, что даже за бунт и гражданскую войну нельзя бесповоротно приговаривать его к казни. Правда, Петроний Максим и Квадрацнан в длившихся несколько часов речах ссылались на старину, в первую очередь на Манлия Капитолийского, а в качестве недавнего примера приводили Стилихона, но Вирий, Басс, Секст Петроний и Глабрион Фауст в еще более длинных речах сумели убедить подавляющее большинство сенаторов – и не только своим весом, влиянием и красноречием, а и тем, что три четверти всех сиятельных, достопочтенных и достосветлых мужей отнюдь не были уверены в исходе борьбы и предпочитали по возможности застраховаться на случай победы Аэция. Надо сказать, что их одолела страсть биться об заклад: Глабрион Фауст поставил четыре прославленные в цирковых ристалищах квадриги против снолетского виноградника одного из многочисленных Лициниев Крассов, утверждая, что все закончится примирением; Секст Петроний втихомолку поспорил с молодым Ауксенцием на десять самых красивых невольниц, каких только можно будет найти весной на рынке «Трех Таверн», причем по крайней мере половина из них должны быть негритянки из Южной Ливии, особенно дорого ценящиеся в Риме в эту пору года. Предметом их спора была не столько судьба Аэция в случае поражения, сколько место предстоящей битвы. Ауксенций, который какое-то время служил под началом Аэция, был уверен, что галльские войска беспрепятственно спустятся с Альп и долину Пада и, чтобы не дать втянуть себя в длительную осаду, тут же поспешат встретиться с Бонифацием, осаждая по дороге все более или менее значительные крепости, вынудят его к битве в открытом ноле и наверняка разобьют где-нибудь между Мутиной и Бононией. Секст Петроний соглашался с тем, что Аэций без помех перейдет Альпы, но считал, что это займет у него столько времени, что Бонифаций успеет запереться или в Медиолане, или в Патавии, но уж никак не в Аримине, так как не бросит на милость бунтовщика любимую Плацидией Равенну.
В действительности произошло и так и не так, как они предполагали. Аэций перешел Альпы и двинулся по дороге, ведущей через Тридент и Верону к Патавии. Сделал он это в более короткий срок, чем предвидел даже Ауксенций; более того, едва он вступил на италийскую землю, как семь из двадцати одного легиона ауксилариев, стоящих в Италии, немедленно перешли на его сторону, сведя на нет численное превосходство, которое имел вначале Бонифаций. Ауксенций почти уже держал в руках свои десять невольниц: быстрота Аэция не позволила Бонифацию не только спрятаться в Медиолане или в Патавии, но даже защитить Равенну. Горящий жаждой мести Аэций рвался встретиться с противником, поэтому Равенну он оставил нетронутой, обошел ее и вскоре, как Ауксенций необычно точно предсказал, уже двигался от Мутины к Бононии. Бонифаций же, казалось, совсем не спешил, к этому времени он прошел только Ареций и направился к реке Рубикон. В свою очередь торжествовал и Секст Петроний: сомнений нет – Бонифаций спешит к Аримину, чтобы запереться там, как в Гиппоне, и связать Аэция, пока из Африки не подойдут новые, верные Плацидии войска под командованием преданного ей друга Аспара.








