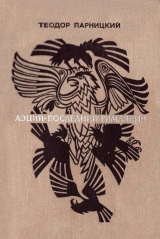
Текст книги "Аэций, последний римлянин"
Автор книги: Теодор Парницкий
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 22 страниц)
Последний щит Рима

1
Наконец-то он появился. Вошел в курию быстрым, упругим шагом, почти не сгибая колен. По этой походке его сразу узнали, хоть лицо у него до невероятности изменилось: похудело, удлинилось, сузилось и стало более благородным – широкие Гауденциевы скулы почти совсем потонули в густой выхоленной темной бороде, и волосы уже не спадали, как раньше, длинными прядями на шею и чуть ли не на плечи, теперь они коротко острижены, искусно завиты и послушно лежат под двойной пурпурной повязкой. Тем же самым, как и раньше, жестом он вскинул в знак привета широкую, унизанную кольцами руку и улыбался точно так же, как тогда, когда внесли в курию статую Флавиана и все Вирии, Аурелии и Деции, вне себя от счастья и гордости, целый час рукоплескали опухшими ладонями самому справедливому из христиан. Теперь же, через восемь лет, не только те отцы города, которые еще почитали старых богов, но и все сенаторы как один: старые и молодые, богатые, как Красс и Саломон, и абсолютно разорившиеся, могущественные и ничего не значащие, внуки освободителей и потомки похитителей сабинянок, – все почтительно и радостно под-хватили долго не смолкающие рукоплескания, в которых тонули радостные, приветственные возгласы:
– Будь здоров, славный муж!..
– Привет, Аэций!
– Привет тебе, защитник римского мира! Гордость города! Украшение света! Триумфатор!
Во всей курии только одна пара ладоней не сомкнулась в рукоплескании… даже не дрогнула… не шевельнулась на прикрытых пурпуром коленях… Торжественно восседающий на золотом троне худенький двадцатилетний юнец, увенчанный золотой диадемой, неуклюже сползшей на большие оттопыренные уши, – неуверенным, раздраженным взглядом мерил гордую фигуру победоносного врага своей матери. Еще четыре года назад окончательно завершилась ожесточенная битва дочери Феодосия с презренным слугой узурпатора и убийцей Феликса. Возвращение Аэция из изгнания, бегство Себастьяна и обращение в истинную веру Пелагии; лишили старую волчицу последнего клыка, как говаривал Секст Петроний Проб. Спустя два года – когда Валентиниан достиг совершеннолетия и женился на дочери Феодосия Второго – Плацидия лишилась даже видимости власти. Не имея никакого влияния на ход дел, она вся ушла в молитвы и ревностные труды по приданию христианского облика своей любимой Равенне: строила новые церкви, разрушала остатки староримского культа, приглашала из Восточной империи строителей и художников и всячески служила святой троице, прославляемая проповедниками и христианскими писателями. Западной же империей правил – как утверждали императорские приговоры и эдикты – самовластно государь император Валентиниан Третий Август; по сути же дела, когда Аэций сражался в Галлии, в Риме правил преданный ему сенат: правил Глабрион Фауст, префект претория после Басса и консул на тринадцатый год правления Валентиниана; правил сам Басс, ближайший единомышленник Аэция; а также Вирий Никомах Флавиан, Секст Петроний Проб и Петроний Максим, снова примирившийся с патрицием и только что назначенный – после Фауста – префектом претория.
Все пятеро отлично сознавали, что неожиданному возвращению сенатом давно утраченного им значения и влияния они обязаны единственно тому, что в заключительном периоде борьбы между Плацидией и Аэцием высказались за бывшего главнокомандующего. Хорошо знали они и то, какие блага приносит сенаторскому сословию союз с патрицием – союз, направленный против императорской власти, любое ослабление которой тут же вызывает усиление мощи сената!.. Так что прибывшего в курию после четырех лет отсутствия Аэция встречали действительно радостно и искренне, чествуя в нем не только могущественного и полезного союзника, но и прежде всего свое великолепное настоящее и свои гордые упования на еще более блистательное будущее…
Остальные отцы города – в основной массе не посвященные своими предводителями во все подробности и нюансы истинного существа союза с патрицием – бурно рукоплескали, видя в шагающем по курии человеке великого и удачливого полководца своего века, могущественного защитника римского мира и целостности империи, грозного покорителя врагов Рима, с деяниями которого даже и сравнивать нельзя то, что свершили Бонифаций, Кастин, Констанций, Стилихон и даже он сам – тот давний Аэций периода битвы под Аримином, о которой, впрочем, никто из сенаторов уже и не вспоминал… «Ну что такое, – думали они лихорадочно, – его старые победы над готами, франками, норами и ютунгами в сравнении с достопамятными деяниями, которые он свершил в последние годы, будучи патрицием империи?! Что, например, можно сравнить с полным уничтожением грозной мощи бургундов?.. Или эта последняя готская война?! Или благоденственный для империи союз с королями гуннов Бледой и Аттилой?! А Гензерих, еще четыре года назад такой опасный, грозный и страшный?! Бесчинствует, конечно, как сущий диавол, в захваченных провинциях; грабит римлян и преследует правоверных, лишил даже жизни – проклятый! – святых епископов Поссидия, Новата и Севериана, изгоняет и забирает имущество у чиновников, которые не хотят признать учение Ария, – и все же не смеет нарушить границ, определенных Тригециевым миром – так боится Аэция!..»
Но не одного патриция империи бурно чествуют славные мужи. Почти с таким же жаром встречают всех, кто его сопровождает, кто сверкает, как звезды при луне, следуют за ним, как волчата за могущественной кормилицей Ромула и Рема, как на старой картине – пантеры за львом… «Как ветры за Эолом» – думают Симмахи и Вирии. «Как Маккавеи за Иудой», – шепчут в восторге Паулины, Гракхи, Аниции. Сенаторы показывают на них пальцами, да, почти все они тут, кто вот уже долгие годы делит славу с непобедимым и слили свою судьбу с его величием. Вот он, по правую руку Аэция, шагает гот Сигизвульт. Нет, не разочаровался он в том, кому столько помог при возвращении из изгнания, не может пожаловаться на неблагодарность, поистине царски награжден. Варвар, арианин – стал консулом!.. И в один год с Аэцием, в торжественный для Западной империи 437 год, когда обрел совершеннолетие император Валентиниан, а император Восточной империи, дабы ознаменовать это событие, уступил в пользу Западной империи честь назначить на этот год и второго консула… Но как будто еще мала показалась Аэцию и эта великолепная награда Сигизвульту – и он поделился с ним своим титулом главнокомандующего!
Указывали сенаторы и на рыжую голову Андевота, и на растрепанную бороду Марцеллина, которому, как собрату по вере, с особенным рвением рукоплескали Вирии, Симмахи и Деции. Правда, не шел подле Аэция преданный и любимый друг – Кассиодор, но все знали, что первый взгляд патриция устремился к третьему ряду курульных кресел, где почетное место занимал давний его соратник, ныне сенатор, – и «Ave, Cassiodor!» загремело с таким жаром, как будто бы тот с утра не сидел в курии. Зато напрасно высматривали глаза славных мужей Астурия: комес Испании вел ожесточенные бои в Бетике, подавляя восстания крестьян – багаудов, поддерживаемые королем свевов. Зато другой испанец следовал сразу же за Аэцием; еще молодой, но уже прославленный оратор и поэт, да к тому же еще комес – Меробауд, панегирики которого на долгие века делали бессмертными деяния Аэция. Не было в курии сенатора, который бы по десять, а то и больше раз не прибегал к кодексу од Меробауда, особенно к тем, которые воспевали свадьбу Валентиниана с Евдоксией и второе консульство Аэция. Ведь нигде – так казалось почти всем сенаторам – не найти столь прекрасного описания войны, как воспеваемые Меробаудом исторические сражения патриция со все более грозными для империи бургундами, дерзкие короли которых то и дело нападали на римские владения из своей мощной крепости Барбетомаг на Рене. Одни галльские легионы вряд ли справились бы с многочисленными и храбрыми бургундами, но разве у Аэция, помимо крепкой руки, нет еще достойной любого мудреца головы?.. Так вот, он склонил к совместному походу младшего из гуннских королей Аттилу и вместе с ним, не ожидая, пока враг сам выйдет из своих владений, с такой яростью обрушился на бургундов, что двадцать тысяч их воинов легли на поле битвы, а среди них и король Гунтер…
И еще одного из прославленных товарищей Аэция не увидят глаза славных отцов Рима: начальника конницы Литория. И все знают: только потому, что они не видят Литория, они могут созерцать вот уже четыре года не виденного сиятельного Аэция. Ведь одному только Литорию доверяет Аэций как самому себе и на него одного может оставить дальнейшее ведение войны с готами. Хотя патриций и находился столь долгое время за пределами Италии: долгое время не совещался с императором и сенатом, не садился за пиршество вместе с италийскими друзьями, не разделял ложе с супругой, – но, несмотря на все, и теперь не покинул бы Галлию, не питай он безграничное доверие к командующему всей конницей Западной империи. Ведь имя Литория вот уже два года громким эхом прокатывалось по всей империи. Когда в год совершеннолетия императора король Теодорих осадил Нарбон, Аэций, измотанный тогда немощью и горячкой, доверил Литорию командование над гуннскими отрядами, которые должны были выйти на помощь осажденному городу. Начальник конницы устремился к Нарбону с быстротой, которой мог бы позавидовать сам Аэций, а когда узнал, что осажденные уже выпускают из немеющей руки оружие, падая без сил, и до такой степени истощены от голода, что город вот-вот без сопротивления откроет ворота Теодориху, то велел каждому из своих всадников взять на коня пехотинца и два вьюка с припасами и обрушился на готов, пробился сквозь их плотные ряды, проник в город и, оставив нарбонцам свежий гарнизон и обильные припасы, повернул конницу против, осаждающих и нанес им страшное поражение! Не удовлетворившись одной этой победой, он двинулся в погоню за быстро отступающим Теодорихом и вторгся в пределы провинций, девять лет назад отданных готам. И вот теперь уже второй год, как Литорий пядь за пядью отнимает у Теодориха все новые земли Аквитании, отданные ему по миру, заключенному после битвы на Колубрарской горе, по тому миру, который король нарушил, осадив Нарбон. Поэтому никого не удивляло, что патриций говаривал: «Когда Литорий бдит, Аэций может спать». «Спать с женой…» – с улыбкой добавляли обычно сенаторы; поэтому сейчас удивлению их не было границ, когда они узнали, что сиятельный Аэций прямо с Фламинской дороги направился в курию, даже не повидавшись с женой. Поэтому с такой радостью, с таким жаром и приветствовали его… Ведь они с самого рассвета ждали его прибытия, заполнив курию так, как этого уже давно не случалось: сто сорок сиятельных, триста достопочтенных и семьсот достосветлых! Даже префект города Флавий Паул, который ежедневно проклинал бессмысленную, по его мнению, традицию, объединяющую в одном лице префектуру с председательством в сенате (потому что он не выносил речей), без сожаления сменил сегодня свой любимый зеленый далматик на освященную обычаем тогу, которую не умел носить, и приготовил приветствие.
А черноволосый юнец в пурпуре и с диадемой на голове до самой последней минуты пребывал в приятном заблуждении, что потому-то в сенате такая давка и такое праздничное настроение, что все illustres, spectabiles и clarissimi как можно скорее стремятся принести ему свои поздравления по случаю того, что Христос вторично изволил благословить священное лоно семнадцатилетней Августы Евдоксии. Поэтому совсем не удивился стоящий по правую руку от императора викарий города Рима Юний Помпоний Публиан, когда, взглянув искоса на императора, без особого труда уловил, с каким именно чувством смотрят на приближающегося Аэция выпуклые глаза – черные, как маслины, и оттененные такими же черными, изогнутыми бровями, на которых, как на архивольте, покоился высокий Констанциев лоб.
2
С лихорадочной торопливостью направляясь в спальную комнату, Пелагия все еще думала о поучениях Константинопольского патриарха Иоанна Златоуста, писаниями которого последнее время зачитывалась. Как же она была благодарна святому отцу за его смелое требование равности для мужчин и для женщин там, где дело касалось вопросов тела: поистине только глупцы и безбожные язычники и еретики могли толковать слова Иоанна так, будто он домогался для женщин права изменять мужьям, чтобы сравняться с мужчинами в их неверности своим женам. Нет, Пелагия знает, что мудрейший патриарх, большой знаток людских сердец и человеческой природы, отлично понимал, что они – женщины – отнюдь не хотят изменять своим мужьям и не жаждут свободы распоряжаться своим телом, а взыскуют только того, чтобы, так же как им, всегда достаточно законного мужа, так пусть и мужу этому на всю жизнь довольно будет одной женщины. «Вот истинная христианская супружеская равноправность!» – произнес с амвона сорок лет назад Иоанн Златоуст, и эти самые слова повторяет теперь мысленно Пелагия, переступая порог кубикула. Она и обижена и счастлива: почему это она должна четыре года сохнуть с тоски по мужу, пожираемая жестоким голодом любви, а Аэцию можно спать с готскими, франконскими, бургундскими пленницами и еще похваляться, скольких девственниц они с Либаудом лишили невинности после победы над Гунтером?! Ей всегда хочется смеяться, когда она слышит, что мужчине труднее выдержать без женщины, чем жене без мужа, но она понимала, что не может требовать от Аэция, чтобы он годами жил, как египетский пустынник или евнух. И потому говорила ему: «Возьми меня с собой в Галлию!» Он же на это только смеялся: «С женщинами на воину не хожу. Я не Бонифаций!» И ничуть не помогало тысячекратное: «Где ты, Кай, там и я, Кайя». Но почему же такая несправедливость?.. Больше обиженная, чем счастливая и голодная по любви, она старалась быть в постели равнодушной, холодной и даже делать вид, что у нее нет желания. Но тут же с каким-то беспокойством спохватывалась, не покажется ли ему ее тело увядшим, постаревшим, менее притягательным… Ведь Аэций как будто вовсе не интересовался телом, которое быстро, ловко обнажал.
– Ты должна перебраться в Равенну, – говорил он повелительным тоном, – туда перебирается двор… ты должна всегда быть подле молодой императрицы… должна быть для нее тем, чем я для Валентиниана.
Даже заключив ее в свои объятия, он не переставал ни на минуту говорить, хотя она сразу изошла негой от наслаждения и словно не понимала его и не слышала. Он вновь вернулся к молодой императрице:
– Евдоксии семнадцать лет, она второй раз забеременела, а ты, Пелагия?.. Что же это?.. Бонифацию ты сразу подарила дочь, а мне?.. Неужели ты сделалась бесплодной?.. Не хочу… Не нужна мне такая жена…
Она открыла глаза и, с трудом сдерживая гнев и слезы, воскликнула:
– А кто же это мог сделать меня матерью за эти четыре года?.. Майордом?.. Надзиратель за атрием?! Валентиниан вот уже два года подряд из ночи в ночь спит с Евдоксией… Чего же ты хочешь?..
– Я хочу сына…
– Мало твоих сыновей обременяют теперь готок и бургундок? – крикнула она обиженно. И еще хотела добавить, что бог ее покарал бесплодием за то, что она отреклась от веры отцов, по испугалась кощунства и сказала только: – У тебя есть Карпилий…
– Пойми меня, Пелагия, – голос его звучал глухо – и хотя все еще повелительный, – нежно и дружелюбно, – Карпилий по воспитанию и обычаям чистый гунн – как Аттила, да еще по крови полуварвар, гот… полукровка… А патриций империи хочет иметь сына от римлянки… от знатной римлянки… по крови не хуже Феодосиевой…
Вне себя от гордости и счастья, Пелагия без слов растворилась в сладостном, животворящем любовном объятии.
3
Над форумом Траяна быстро плывет бледный месяц. То и дело его догоняют и наваливаются на него темные клубы туч, но ненадолго: вот он уже снова вынырнул и с удвоенной скоростью убегает от яростной погони, проливая на белый мрамор тусклый, желтоватый свет. Прежде чем снова его пожрет черное клубящееся чрево осенней ночи, комес Меробауд успеет в десятый, а может, и в двадцатый раз прочесть наполняющую его гордостью и радостью, высеченную на мраморе надпись: «Inter arma litteris militabat et in Alpibus acuebat eloquiam» [72]72
Преуспевал в литературе и оттачивал красноречие в Альпах (лат.).
[Закрыть]. Надпись эта, выбитая под его собственным бюстом, на долгие века утвердит непреходящую славу солдата-поэта: когда никто уже не будет читать его стихи и прозу, когда уже имя его будут путать с именами франконских королей, когда почти все, что он написал, погибнет, а уцелевшие три-четыре панегирика и один богослужебный стих будут вгонять в тоску даже знатоков и любителей его эпохи, – этот памятник с полустершейся надписью все еще будет стоять возле колонны наилучшего из императоров, рассказывая прохожим о том, кто подвиги меча сочетал со словом, а речь свою в войне с норами оттачивал в альпийском воздухе…
Изваяние стоит уже четвертый год, но Меробауд, который, как и Аэций, не был в Италии столько же лет, разглядывает его всего лишь третий раз. А поскольку он поэт и, кроме того, совсем еще юноша, то стоящий поодаль патриции империи как будто отнюдь не пеняет ему за то, что, забыв, с кем он здесь находится, Меробауд вот уже долгое время не может оторвать глаз от надписи, а когда наконец делает это, то лишь затем, чтобы перевести взгляд – полный радостного изумления и почти недоверия – на высеченное из мрамора лицо. Неужели он и на самом деле такой красивый мужчина?.. А он и не подозревал об этом. А может быть, ваятель слишком польстил ему?.. Он сам не знает, что об этом подумать… Потому что если он на самом деле такой… если изваяние действительно знает о нем больше, чем все зеркала, то беспокоиться ему, пожалуй, не о чем: дочь Астурия, которую он давно любит, наверняка не будет противиться их браку… Как жаль, что надо еще прождать два года, пока его возлюбленной пойдет семнадцатая весна!..
Неподалеку стоит статуя Петрония Максима. А ведь префект претория, который вместе с Аэцием вышел из библиотеки Ульпиевой базилики, где почти всю ночь длилось заседание императорского совета, даже не бросил взгляда на гордую надпись: «А proavis atavisque nobilitas» [73]73
Аристократ от прадедов и дедов (лат,).
[Закрыть]– ни на высеченный из мрамора бюст, дающий особенно обильную пищу для размышлений на тему: лесть как один из основных моментов сущности искусства. Но Меробауд, который мог бы найти почти столько же материалов для размышлений на эту тему в своих панегириках, не очень задумывался даже над отношением своего мраморного подобия к действительности, которую оно должно было воссоздать. Провожая глазами Петрония Максима, пристыженный и злой на самого себя, он с раздражением подумал: «Через восемнадцать лет и я даже взгляда не кину», – и быстро отвернулся от изваяния. Аэций с Максимом уже приближались к арке Траяна. Меробауд поспешно двинулся за ними, но, не смея мешать разговору патриция с первым после него сановником Западной империи, отстал шагов на тридцать, идя рядом с Марцеллином, с которым он всю ночь прождал, пока кончится консисторий: Аэций хотел видеть их после совета, и это они сочли для себя величайшей честью и отличием, достойным упоминания в хрониках. Ожидая, пока патриций простится с Максимом, они завязали тихий дружеский разговор – дружны они были уже давно, но никто не видел у них никакого сходства или хотя какой-то общности наклонностей и интересов.
Под аркой Траяна Аэций закончил разговор с Петронием и простился с ним, дружески вскинув руку; когда же лектика префекта претория быстро исчезла в черном мраке последнего ночного часа, Меробауд и Марцеллин увидели, что патриций сделал жест рукой, который не мог означать ничего иного, как повеление приблизиться. Автор знаменитого стиха «Pro Christo» как раз в это время раскрывал перед язычником всю беспредельность чувств, которые он питал к дочери комеса Испании; он уже распалился и слова его дышали пламенем, – но тут же замолк, как только заметил знак Аэция, который, не ожидая, пока молодые друзья приблизятся, двинулся из-под арки к форуму.
Они оба не сомневались, что их ждет честь выслушать какой-то огромной важности приказ. Меробауд, которого Астурий посвятил во все подробности покушения на Феликса, был уверен, что Аэций замышляет нечто подобное. Но напрасно было ломать голову, против кого это покушение могло быть направлено. Ведь не против же императора, который с каждым днем все более сдавал позиции и был послушным орудием Аэциевой воли?
Месяц снова вынырнул из-за облаков, и оба приятеля увидели, что Аэций стоит перед каким-то памятником. Одновременно они услышали его голос:
– Я уверен, что Петроний Максим все еще видит во мне варвара или хотя бы пропитанного варварством выскочку из далекой пограничной провинции. А может быть, и Басс тоже. И Вирий. А мне кажется, что Аэция больше, чем кого-либо, любят и благословляют все эти воплощенные в камень духи…
Меробауд застыл как вкопанный. С невыразимым изумлением взглянул он сперва на Аэция, потом – многозначительно и вопросительно – на Марцеллина. Почитатель старых богов отнюдь не казался удивленным словами начальника, которые слушал с радостным восхищением. А патриций продолжал:
– …духи величия и мощи старого Рима… Право же, Меробауд, ты уже посвятил своему вождю сотни, а может быть, и тысячи стихов, а тебе и в голову не пришло, что если бы не эта твердая, дикая, ненавистная для римлян варварская мощь… именно та мощь, которую я впитал в себя, словно с молоком матери, общаясь и братаясь с готами и гуннами, та, которой гнушаются Максим… и Басс… и Вирий… и наверняка Меробауд, – давно бы уже камня на камне не осталось от всех этих самых дорогих для нас, римлян, реликвий…
И он обвел рукой вокруг себя.
Меробауд отнюдь не был уверен, не снится ли ему все это. Ведь если бы ему еще час назад сама дочь Астурия или сам епископ Гидаций сказали, что он услышит такие слова из уст Аэция, он с гневом назвал бы их лжецами или с сожалением – безумцами… Марцеллина же отнюдь не удивляло то, что говорил друг варваров и воспитанник дикого Ругилы: разве еще семь лет назад – в долгих ночных беседах в тиши далматинского убежища – не распахнулись перед ним настежь все тайники мыслен великого изгнанника?!
Быстрым шагом идет Меробауд к памятнику, под которым стоит Аэций. Он уже наверняка знает, что эта ночь, проведенная на форуме Траяна, не останется не увековеченной в стихах. Он набрасывает в уме отдельные части произведения, в котором, как Минерва из головы Юпитера, предстанет вдруг из хаоса temporis barbarici [74]74
Варварских времен (лат.).
[Закрыть]блистательная romanitas [75]75
Римская душа (лат.).
[Закрыть]мужа, о котором не только при дворе Августы Плацидии, но и в виллах галльских и испанских посессоров иначе и не говорили, как semibarbarus… [76]76
Полуварвар (лат.).
[Закрыть]Он благожелательно и чуть ли не с ироническим пониманием улыбается: вот и великий Аэций высказывает почти ту же самую слабость, что и молодой солдат-оратор, стоя подле собственного изваяния, – но ведь кто же лучше его… Меробауда… поэта… сумеет понять и оценить значение подходящей для великих слов обстановки?!
Изваяний Аэция на форуме Траяна было несколько (и ни одно из них не окажется удачливее статуи поэта: всех сметет неумолимый вихрь времени). Меробауд подумал, что, пожалуй, лучше было бы, если бы патриций встал у своего изваяния периода второго консульства: торжественное официальное облачение и поза, точно выдержанные в духе республики и первых цезарей, отлично подчеркивали бы неожиданно выявившуюся romanitas Аэциевой души. «А впрочем, хоть так, хоть этак, в панегирике все равно будет говориться, что он стоял именно перед этим изваянием», – решил поэт. Каково же было его удивление, когда при полном свете месяца он разглядел, что изваяние, перед которым они стоят, вовсе не было изваянием Аэция. Сомнений не оставалось никаких: он слишком хорошо знал эту большую голову, этот орлиный нос, несколько округлые, почти совиные глаза… Его охватила великая радость: найдется ли хоть один поэт во всей империи, который не отдал бы всех сокровищ мира за то, чтобы быть в эту минуту на его месте?! Он быстро отвернулся: Аэций не должен видеть, как Меробауд вынимает табличку и резец. У Меробауда отличная память, но сейчас слишком важный момент, чтобы он мог ей доверять: ведь тут же ни одного слова нельзя забыть!
– Взгляни, Марцеллин, – резец поэта еле успевает за голосом Аэция, – взгляни на эту вот надпись: «Reparatori rei publicae et parenti invictissimorum principum» [77]77
Восстановителю государства и отцу непобедимых владык (лат.).
[Закрыть]. Неужели должна питать ко мне гнев на том свете благородная душа мужа из Наисса за то, что я – хотя и не надел на себя, как он, диадему и пурпур, – забрал у его непобедимых детей то, что действительно является могуществом и властью? А может быть, питает не только гнев, но и зависть?.. И ему есть чему завидовать – разве же не сказал, умирая, благороднейший из римлян, Бонифаций, что я rei publicae magna salus, а не только ее reparator [78]78
Спаситель государства, а не только его восстановитель (лат.).
[Закрыть]?! Но я верю, Марцеллин, что мы равны… абсолютно равны, хотя я не император, а он не одержал столько побед… И не только равны, но и похожи…
Тщетно гадаешь, Минерва: в чем они сходны – не знаешь!
Лучше поэта спроси – здесь он тебя превзошел.
Меробауд не сомневается, что это двустишие – вступление ко второй части нового панегирика – покроет его новой славой. Он оценивает его в три памятника: один в Кордубе – там, где он впервые вкушал науки, и два в Константинополе: на форуме Аркадия и в Капитолии, в лектории латинских грамматиков. Сам он отнюдь не удивляется, что его Минерва тщетно ломает голову, не в силах понять, в чем сходны Аэций и Констанций Август. «Скорей уж я похож на короля Аттилу», – думает он и вдруг испытывает неудержимую ревность. Он видит, как Аэций дружески берет Марцеллина под руку. Но поэт быстро побеждает ревниво влюбленного в вождя солдата: некогда… ни на что другое нет времени!.. Только писать!.. Все быстрее испещрять табличку сотнями мелких, убористых букв!
– Он презирал варварские способы сражения, а я – староримский строй. – Меробауд сокращает на табличке слова Аэция. – Но я по-своему бил готов, с которыми он не мог справиться, а меня Констанциевым способом побил Бонифаций. И опять мы равны. Но я сказал, что не только равны, но и сходны. Ты знаешь, в чем сходны, Марцеллин?.. Послушай, я правнук крестьянина из Мёзии, а Констанций – дитя предместий иллирийского Наисса… оба мы но крови и по роду далеки от Рима, от Италии… А ведь не найдешь камня на Римском форуме, в котором дух старого Рима отрекся бы от кого-нибудь из нас двоих, заявив: «Вы чужаки…» Ибо мы римляне… как римлянин ты – далматинец – и Меробауд – испанец… Ибо все мы римские граждане… потому что над колыбелью своей слышали только речь римлян… потому что с детских лет нас хранило и правило нами римское право… А теперь взвесь другое, друг мой… Вот Рим – владыка мира… Рим – столица мощи и справедливости… Вот римский мир – владыка, судья, защитник и учитель всех народов… Так кто же на самом-то деле вот уже полвека хранит от гибели Рим, и римский мир, и римский народ?.. Может быть, они защищаются сами?.. Да – когда их защищает Констанций или Аэций… Вот в чем сходны мы, друг! Потому что когда нас нет, что происходит с мощью Рима? От чьей милости он зависит?.. Ты уже краснеешь, Марцеллин?.. Погоди… послушай… пусть же прозвучат над камнями старого Рима имена его защитников… этой истинной мировой империи, но не римской, а только варварской, друг… Ты посчитай. Готы – Гайнас, Сар и Сигизвульт… Вандалы – Стилихон… Франки – Арбогаст и Баутон… Аланы Ардабур, Аспар и…
– И свев Рицимер! – крикнул он, не в силах сдержать разгона предыдущей мысли и на бегу соединяя ее бессмысленно (как он полагал) с тем, что вдруг поразило его взгляд. Но тут же он обуздал разлетевшуюся во весь опор мысль и уже совсем иным голосом обратился к молодому трибуну, который оставался в Галлии:
– Что ты здесь делаешь, Рицимер?!
– Славный муж… Литорий…
Исписанная табличка выскальзывает из рук Меробауда и с треском разбивается о гранитную плиту. Не собрать разлетевшихся обломков, и не собрать поэту излияний патриция… не напишет он панегирика «De romanitate Aetii» [79]79
О римской душе Аэция (лат.).
[Закрыть]надежда на три новых памятника разбивается о твердое, безжалостное слово Рицимера.
4
В те дни, когда Аэций после четырехлетнего отсутствия решился наконец отправиться в Италию, казалось, что готская война находится накануне самого благоприятного завершения. Императорские войска не только вытеснили Теодориха за границы аквитанской Галлии, и даже из тех ее частей, которые были отведены ему по миру 430 года, но и вторглись с юга в Новомпопуланию, а с северо-востока – в земли пиктавов. Покидая Галлию, Аэций велел Литорию не тянуть с заключением мира, а сразу же, как только Теодорих захочет начать переговоры, согласиться на возобновление перемирия с тем, что готы отдадут галльской префектуре все крупные города, кроме, может быть, одной Толозы [80]80
Современная Тулуза.
[Закрыть], а что касается земель, занятых ими, то они откажутся от пограничных окраин аквитанской Галлии, Пиктавы и доступа для плаванья по Лигеру [81]81
Современная Луара.
[Закрыть]. Но Литорий, взяв на себя командование, отнюдь не стремился к быстрому окончанию войны; он не только привел с Рейна несколько тысяч новых гуннских воинов, но и потребовал от живущих между Лигером и Британским морем армориканов, чтобы они выполнили свой долг федератов, совместно с императорскими войсками обрушившись на готские владения. Потому что он загорелся безумным, ибо абсолютно невыполнимым, как говорил трибун Рицимер, намерением уничтожить не только мощь, но и вообще готское королевство. Он планировал медленное и рассчитанное на длительное время истребление вестготского народа с помощью меча и голода, безжалостное уничтожение грабежом и огнем их имущества и, наконец, полное истребление многочисленной королевской семьи и всех знаменитых и благородных родов. «Остальные превратятся в невольников, – говорил он, – либо вольются в ауксиларии и пограничные войска, сражающиеся как можно дальше от Галлии: где-нибудь на персидской или эфиопской границе». Рицимер, который был сыном сестры короля Вальи, а следовательно, находился в каком-то родстве с Теодорихом, не мог, разумеется, испытывать восторга или хотя бы быть благожелательным к намерениям Литория; и не только он, даже комесы и старые трибуны, исконные римляне, недоверчиво относились к замыслам начальника конницы, считая их невыполнимыми и вредными.
И все же Литорий приступил к осуществлению своего плана. Поскольку он нуждался в огромных людских массах для опустошения готских владений и уничтожения их жителей, он использовал гуннов, вторгшись с ними в земли армориканов, мешкавших с помощью, – а нанеся там большие опустошения, возвращался на юг Галлии через богатую и а плодородную аквитанскую Галлию, которую позволил своим гуннам грабить так, как будто это был вражеский край: кормить-то их ему было нечем. Кроме того, подозревая, что посессоры предпочли бы видеть в своих владениях готов, а не гуннов, он накладывал на аквитанских землевладельцев огромные поборы на армию, чем довел их до отчаяния, ярости и те почти что начали открытую борьбу, выступая во главе своих людей против грабящих край диких варваров; но поскольку варвары эти шли через Аквитанию под императорскими знаками, Литорий с беспощадной жестокостью, так же, как бунт и измену, карал всякие подобные выступления. Как потом Рицимер рассказывал Аэцию, посессоры Аквитанской Галлии с завистью думали о судьбе землевладельцев в Аквитании, оставшейся под властью Теодориха; вестготы, правда, отняли у римлян две трети их владений, но зато оставшаяся треть была избавлена от всяких насилий, смут и даже законодательных тягот, города же управлялись по римскому праву, а назначенный королем comes civitatis [82]82
Высшее гражданское должностное лицо (лат.).
[Закрыть]заботился только о том, чтобы царил мир, чтобы римляне не действовали во вред королю и готскому народу и не сочетались кровными узами с готами. Так что подозрения Литория были небезосновательны; жестоко подавляя всякое проявление не только сопротивления, но и недовольства поведением союзных империи гуннов, он прошел через всю Аквитанскую Галлию с севера на юг, провожаемый ненавистью и проклятьями, на которые не очень-то обращал внимание, и вновь вторгся в ту часть Нарбонской Галлии, которую Аэций девять лет назад уступил готам. Теодорих дважды пытался ему противодействовать, но не устоял и поспешно отступил к своей столице, Толозе. Литорий двинулся за ним. Хотя бы частично он мог осуществить теперь свое безумное и жестокое намерение: гунны, из которых в это время почти целиком состояли императорские войска в Галлии, так основательно уничтожали все на своем пути, что не только следа готов, малейшего следа какой-либо жизни вообще не осталось на много миль вокруг большой дороги Элузия – Толоза и в верхнем течении Гарумны [83]83
Современная Гаронна.
[Закрыть]! Вскоре римско-гуннское войско стало под столицей королей из рода Балтов. Успех начальника конницы был поистине столь ошеломляющим, что даже те комесы и трибуны, которые вначале недоверчиво относились к его дерзким замыслам, не сомневались в последней, превосходящей всякие надежды, победе. Варвары, в особенности готы, опасные и нередко страшные в открытом поле, становились абсолютно беспомощными, когда возникала необходимость запереться в крепости: даже Рицимер был уверен, что они не выдержат и трехдневной осады. А Литорий ожидал, что защищаемый вестготами город не выдержит и первого приступа. Уверенный в триумфе, который ждет его, самое позднее, к исходу следующего дня, он решил провести ночь за шумным пиршеством. О пире этом он велел уведомить осажденного в голодной Толозе Теодориха: «Пусть знает варвар, что римский полководец перед ратным трудом не нуждается ни в сне, ни в отдыхе!..» Когда он уже садился за стол в обществе женщин, комесов, трибунов и гуннских вождей, комес Вит уведомил его о прибытии посольства от короля вестготов.








