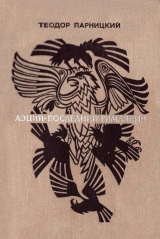
Текст книги "Аэций, последний римлянин"
Автор книги: Теодор Парницкий
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 22 страниц)
Тихим шепотом вторят громким молениям священника другие заложники, у каждого в городе есть кто-то близкий, дорогой. И вот, подняв к небу глаза – черные, карие, зеленые, серые, – все молятся Христу: пусть сделает так, чтобы эти их близкие и дорогие сумели, успели, сообразили укрыться в церкви…
С позавчерашнего дня со взгорья за Саларийскими воротами виднеется черный людской муравейник, роем облепивший белизну базилик… О святой Юстин! Какой ужас там творится!.. Сколько разорвано, задушено, затоптано, раздавлено! Сотвори же, милосердый господи Христе, пусть моя жена, моя мать, мой ребенок, старый отец мой, верный друг, брат, брат отца протиснется через обезумевшие от тревоги толпы, не даст себя растоптать, задушить, раздавить… пусть проникнет в церковь… дальше… дальше… как можно ближе к алтарю… ближе к священнику!.. Сотвори это, боже!
Вдруг громкий смех заглушает шепот молитвы. Молодой ритор в грязном, порванном сагуме, с растрепанными волосами и всклокоченной бородой вскидывает стиснутые кулаки высоко над головами молящихся и, время от времени прерывая свою речь резким взрывом смеха, кричит высоким, тонким голосом:
– Осанна! Осанна! Слава Христу! Пусть благословение божие почиет на главе набожного и человеколюбивого короля Алариха! И разве воистину не набожный?.. Не человеколюбивый?.. Посчитайте только, дорогие друзья, сколько жителей в Риме и сколько в городе христианских храмов? Посчитать не трудно. Скольким же квиритам – римским гражданам даровал набожный и человеколюбивый король жизнь и здоровье?.. Скольким? Скольким? Скольким? Я тебя спрашиваю, служитель Христа!
Молитвенный шепот замер на побледневших вдруг губах. Взгляды всех обратились к старому священнику. А он простер десницу и, грозно потрясая ею в сторону города, воскликнул будто в приступе вдохновения:
– Скольким?.. А хотя бы и ни одному!.. Давно уже пришла пора… Пробил наконец твой час, проклятый город, капище греха, разврата и гордыни… Горе тебе, Вавилон!.. Горе тебе, Содом! Слава господу! Праведен гнев господен!.. Мало еще вестготов… мало меча и огня!.. Молний… серы с небес… огненного дождя молим у тебя, господи!..
Тяжело дыша, он умолк. Громче, тревожнее ударили сердца всех. Даже ритор перестал смеяться. Голос его из тоненького, высокого, почти безумного, стал спокойным, низким, напевным, когда он заговорил медленно, мелодично и скорбно, как будто скандировал Овидиевы «Скорби».
– Пока наши прекрасные белые боги правили миром и городом с вершин Олимпа, с высоты алтарей, по рукописям поэтов, ни один недруг не осмеливался переступить священных границ Рима, ни один наглец не дерзал посягать на величие головы и сердца мира. Но вот отвергли наших богов, воздвигли на алтарь крест и назаретянина – и что творится?.. Вы говорите, что Христос – это наивысшая доброта… что он всеведущий и всемогущий… Пусть же он спасет Рим! Изгонит варваров! Пусть избавит своих приверженцев от позора, страдания и смерти… Пусть…
Его заглушил крик священника, резкий, пронзительный:
– Пусть уничтожает… пусть сжигает… пусть губит… Горе тебе, сердце и голова идолопоклонства! Горе тебе, логово волчицы, как она, свирепое, похотливое и распутное!..
И вновь отозвались трубы. Все громче, все ближе… Все пространство от древней стены Сервия и Коллинских ворот покрыло вдруг бесчисленное количество тяжело нагруженных повозок. Повозки, полные золота, серебра, красивых сосудов, искусной утвари забили выезд на Саларийскую и Номентанскую дороги.
Радостью и скорбью одновременно наполнились сердца заложников. Вестготы покидали ограбленный, обесчещенный Рим, безнаказанно унося на подошвах священный прах улиц и площадей Вечного города. А вместе с ними в дальнейшие, казалось, нескончаемые скитания должны были отправиться заложники. У многих на глазах блеснула слеза, и не узнать – слеза облегчения или скорби.
Еще громче ударили в небо трубы. От храма Фортуны сворачивал на Саларийскую дорогу королевский поезд. Аэций издали узнал белого коня и статную фигуру дерзновеннейшего из дерзких – Алариха Балта. В нескольких шагах перед королевским конем шла, еле волоча ноги, молодая женщина, смертельно бледная, но горделивая и спокойная. Губы ее были крепко сжаты, глаза устремлены на гладко тесанный камень улицы. Аэций сразу понял все. Вот так же четыре века назад входила в город Туснельда в триумфальном шествии Германика. Только у Туснельды были голубые глаза, а у этой – черные, чуть выпуклые и несколько округлые, у Галлы Плацидии, дочери императора Феодосия Августа, выходящей из города в триумфе варвара. Рядом с Аэцием раздалось громкое рыдание. Он обернулся: ритор и священник плакали, припав друг к другу головами.
Аэций не плакал.
6
Флавий Констанций, magister militum [10]10
Начальник пехоты, полководец (лат.).
[Закрыть], осадил коня и, морща черные сросшиеся брови, процедил сквозь зубы:
– Усилить правое крыло.
Вождь аквитанской Галлии бессильно развел руками.
– У меня нет больше конницы, сиятельный.
Большая голова Констанция затряслась под серебряным, украшенным фигурами святых шлемом с белым султаном; круглые глаза презрительно взглянули на собеседника и обратились влево, где в отдалении, видная как на ладони, сверкала темная гладь Средиземного моря.
– Сбросим их в залив.
Вождь аквитанской Галлии бросил взгляд на усеянное сражающимися и трупами поле, усмехнулся искривленным ртом и повторил:
– У меня нет конницы.
Констанций неторопливо перекинул левую ногу через седло, приподнялся на белых, холеных руках и медленно сплыл на землю.
– Щит.
Двадцать шесть пар глаз вопрошающе взглянули на полководца. Большая голова вновь затряслась.
– Я возвращаюсь в первую шеренгу. За мной!
Все кинулись к нему с восклицаниями, мольбами.
– Мы охотно пойдем… Но ты не можешь подвергать себя опасности, сиятельный… И что мы поделаем без конницы?.. Хоть бы еще одну турму, может быть, и хватило… А так мы не справимся.
– Будем биться строенным порядком, как Сципион.
И махнул рукой. Во весь опор помчались к сражающимся препозиты, неся приказ: конница на обоих крылах отступает за велитов и фундиторов и в тылах пехоты соединяется в один большой отряд. Велиты и фундиторы должны прикрыть ее. Пехоту сосредоточить в центре… разбить на три части… принципы, гастаты, триарии. [11]11
Велиты – вооруженные луками пехотинцы; принципы – опытные воины, вооруженные длинными копьями; гастаты – воины, вооруженные обычными копьями – гастами; триарии – воины, вооруженные тяжелыми копьями – пилумами; фундиторы – воины, вооруженные пращами.
[Закрыть]Пока конница не отдохнет, копейщики будут сдерживать весь натиск врага…
– Это самоубийство… лучше отступить, – проворчал комес Криспин.
Констанций не разражается гневом. Он только пожимает сутулыми плечами и указывает рукой на поле.
– Варвары сражаются так, как пятьсот лет назад… Почему бы и нам не сражаться, как Марий?..
Громкий крик из двадцати шести глоток заглушил его слова.
– Смотри… смотри, сиятельный… Отступают… не устояли… идут врассыпную… Хоть бы одну турму… еще одну турму… и с Атаульфом будет покончено!..
Констанций не верит своим глазам. Конница на левом крыле, выполняя его приказ, уже отходила под защиту велитов – на правом же, где, видимо, приказа еще не получили, быстро двигающееся облако пыли явно стремилось вперед, в противоположном направлении от стоящей на холме свиты командующего, издающей громкие возгласы радости и триумфа. В самом опасном месте вестготы отступали.
– Да ведь это тоже вестготы… наши вестготы… Вестготы Сара, – задыхался от радости вождь аквитанской Галлии. – Они ненавидят род Балтов. Глядите… глядите: они мчат вихрем… рассекли их надвое… окружают…
И, подбоченясь, победоносно взглянул на комесов и трибунов. Ведь не прославленная императорская гвардия, не италийские легионы, а предводительствуемые им ауксиларии [12]12
Вспомогательные войска, набираемые из варваров.
[Закрыть]… скромные, презираемые всеми ауксиларии вырывают у врага победу в последний момент!
Констанций снова садится на коня.
– Имя варвара, который ими командует? – спрашивает он, указав взглядом на исчезающее вдали облако.
– Это не варвар, сиятельный… это тот юнец… вместо раненого трибуна, центурион… сын Гауденция…
Снова трясется большая голова.
– Ударить всеми силами… Гнать… Сбросить в море… Вперед!
Рискуя сломать шею, свита бешено скатывается со взгорья.
Наголову разбитые, поредевшие войска короля Атаульфа беспорядочно бежали к Пиренеям. Победоносный Констанций с изумлением разглядывает сына Гауденция, предводителя готов Сара. На нем распахнутая на груди кожаная куртка, через левое плечо перекинута облезшая волчья шкура, в руке огромный германский меч.
– Ты бы еще шлем с рогами на макушку себе насадил, – усмехается Констанций.
Молодой центурион весело скалит здоровые белые зубы.
– А не помешал бы.
Констанций морщит сросшиеся брови.
– Ты командовал конницей.
– Ты сказал, сиятельный.
– Ты что, не получил приказа об отступлении?..
Сын Гауденция придвигается к самой голове Констанциевого коня.
– Получил.
– Посмел ослушаться?..
Снова сверкают в улыбке два ряда белых зубов.
– Я думал, что плохо понял приказ… или не расслышал…
После минутного молчания Констанций ударяет коня пятками коротких ног и, готовясь отъехать, бросает:
– В строенном порядке мы бы их легче разбили.
– Не осмелюсь не поверить тебе, сиятельный.
Констанций, удивленный, снова удерживает коня.
– Значит, не веришь?..
– С варварами надо биться их способом, – слышится ответ. – Я бы сковал наши ряды железной цепью.
Констанций презрительно выпячивает тонкие губы.;
– Римлянин гнушается варварскими способами боя, – цедит он сквозь зубы.
– Не каждый римлянин, – отвечает Аэций.
7
В кубикуле мать невесты и пронуба [13]13
Посаженная мать, символическая наставница во время свадьбы.
[Закрыть]гасят по очереди все лампы. Только маленький бронзовый светильник, искусно изваянный в виде двух неразрывно сплетенных рук, всю ночь будет бросать скупой желтый свет, чтобы новобрачные могли видеть свои лица. Чтобы свет от него падал как раз на изголовье широкого супружеского ложа, светильник надлежит повесить в определенном месте на специально для этого предназначенный крюк. Сделать это должен новобрачный. Пока что круг желтого света выхватывает из мрака две большие ступни, судорожно впившиеся пальцами в мягкую красную ткань, устилающую пол супружеской комнаты. Владелица их уже полностью готова к приему мужа, облачена она только в очень просторное ночное одеяние, перехваченное пояском, который, как велит обычай, она развяжет сама, когда услышит шаги супруга. Одеяние это, которое переходит из поколения в поколение и которое много десятков лет тому назад было на матери короля Фритигерна, надевается только раз в жизни – в брачную ночь. Оно не белое, как свадебные облачения римлянок, а ярко-красное, без всяких украшений, кроме пояска, и всего лишь до колен, спереди оно разрезано, обнажая упругие груди.
Мать в последний раз целует дочь в щеку, пронуба еще раз проверяет, удастся ли легко и быстро развязать пояс, после чего обе выходят и воцаряется минутная тишина.
Минутная… потому что новая резкая судорога больших толстых пальцев на красной ткани явно говорит, что новобрачная знает… чувствует, что он уже тут… что он стоит перед нею, сдерживая резкое, прерывистое дыхание. Стоит в кругу света, любимый, желанный и вместе с тем вызывающий волнение и тревогу. Достаточно поднять длинные черные ресницы над светлыми-светлыми голубыми зрачками, и она увидит его всего… Только не смеет и, когда дрожащими пальцами распускает пояс, ничего не видит, кроме двух пар ступней, чуть касающихся кончиками пальцев.
Но и он, кроме этого, ничего не видит. Не потому, что вся фигура жены тонет во мраке – ведь он мог бы с легкостью сильной, очень сильной рукой вытянуть ее на середину светового круга, но и он… не смеет… Ведь это первая женщина в его жизни! На двадцать четвертом году жизни!
И не столько праведное христианское воспитание, которое он получил в детстве, не стоические нормы, внушенные учителем-грамматиком, поклонником Марка Аврелия, сколько трехлетнее пребывание среди готов и усвоенные им суровые варварские нравы причина того, что вот он стоит перед своей женой такой же неопытный в любви, как и она!.. И так же, как она, жаждущий и умирающий от любопытства и вместе с тем полный какой-то тревоги.
Но он же мужчина, и вот спустя краткий миг руки его впиваются в красное просторное одеяние матери короля Фритигерна, хотя глаза не смеют еще взглянуть в лицо, по которому он мог бы прочитать все, что чувствует, что думает, что теперь испытывает жаждущая ложа и познания его таинств и одновременно полная страха и радующаяся каждой минуте промедления молодая женщина…
В триклинии тоже погасли все лампы, кроме одной, изображающей негритенка с яблоком в каждой руке. Одно яблоко надкушено, другое еще не тронуто – в обоих горит масло, желтым светом озаряя лицо magister equitum [14]14
Начальник конницы (лат.).
[Закрыть]Гауденция и гота Карпилия, начальника дворцовой гвардии. Свадебное пиршество уже кончилось, только что покинул триклиний самый знатный гость, главнокомандующий и консул Флавий Констанций; в углу дремлет седобородый грамматик, бывший учитель маленького Аэция, ныне автор эпиталамы, которая вызвала подлинное восхищение новобрачных, их отцов и гостей.
Искусно завитую бороду Гауденция уже обильно припорошила седина, заметна она, хоть и не так ясно, и в буйной льняной копне Карпилия, длинными прядями спадающей по бычьей шее на мощные плечи атлета. Грубо вытесанное, типично варварское лицо Карпилия гладко выбрито; на нем не повседневное воинское облачение, а голубой наряд из тончайшей ткани и висящее на золотой цепи большое изображение императора Гонория Августа. Большая красная ладонь крепко сжимает десницу Гауденция: с сего дня дружба и неразрывное единство навеки! Объединившиеся фамилии двух сиятельных мужей – это сила, с которой скоро начнет считаться императорский двор. Простой солдат из Мёзии и воин-варвар с наивным удивлением и восхищением думают о головокружительных высотах, на которые вознес их житейский путь: во всей Западной империи есть только один человек, превосходящий их воинским званием: Флавий Констанций. Вот они и думают сейчас, то ли связать дальнейший путь свой и объединенных родов своих с путями Констанция или же?.. Ведь они теперь сильны… очень сильны… Приближается час, когда они смогут эту свою силу проявить: Констанций рвется воевать с королями диких гуннов, правящими Паннонией, а они оба против этой войны… Посмотрим! – улыбаются друг другу отцы…
Сколько бессонных ночей проплакала жена Гауденция, не в силах примириться с мыслью, что сын ее должен жениться на женщине из варварского племени!
– Это позор для нас… для меня… для моего рода, – рыдала она, а порою ее охватывала такая ярость, что она еле сдерживалась, чтобы не бросить в лицо мужу: «Один раз я уже опозорила свой род и имя, унизившись до брака с простым мёзийским воякой… Не хватит ли одного этого унижения?!» А вслух кричала: – Будь проклят тот день, когда перестали почитать закон Валентиниана I, смертью карающий римлянина за брак с варварской женщиной!.. Будь проклят… Будь трижды проклят! – и вновь заливалась слезами.
Но Гауденция не трогали ее слезы и мольбы.
– Если уж сам император Восточной империи Аркадий пожелал разделить трон и ложе с франконкой, то не пойму, почему сын Гауденция не может жениться на дочери знатного гота, тем более что она ему не противна, да и он ей тоже… Карпилий происходит из рода варварских королей, и он куда ближе по крови к Фритигерну, чем Атаульф, за которого не постыдилась выйти сама благороднейшая Галла Плацидия, дочь императора и сестра императора…
И вот при слабом желтом свете небольшого светильника в сладостном любовном объятии мешается римская кровь: полумужицкая, мёзийская – полугосподская, патрицианская, италийская, – с чужой ей и враждебной доселе кровью варварских королей. Круг света выхватывал из тьмы два слившихся в поцелуе лица, на которых отражалось все то, что сотрясало затерявшиеся во мраке сплетенные тела… все, что ощущали груди, бедра, сдавленные от сладостных спазм гортани, стиснутые от резкой судороги сердца… В триклинии Гауденций и Карпилий, устремив друг на друга глаза, думали об одном и том же: о внуке…
В кубикуле с шипением погас вдруг светильник. Кончилось масло, и Аэций не мог видеть, что на лице жены нет ничего, кроме тихого безграничного счастья, а в голубых глазах отражается не изведанная никогда доселе глубина, порожденная познанием тайн любви… разорванного девичьего неведения… И ему было совсем невдомек, что и на его лице и в его глазах отражается почти то же самое.
– Какая красивая была эта эпиталама, правда, Аэций? – слышит он вдруг ее голос, в котором звучат незнакомые интонации.
Действительно, эпиталама была очень хороша. Изысканные, Горациевы по духу и форме строфы, изысканно подобранная ритмика великолепно передавали и серьезность момента, в который объединялись два сильных рода, и настроение новобрачных… настроение, полное радости и гордости и взаимного отдания и вместе с тем беспокойства, неведения и тоски ожидания… Апострофы к Венере-прародительнице, возглашения в честь крылатого мальчика с луком – Амура, и почти целые двустишия из Овидиева «Искусства любви» гармонично сочетались со строфами, почерпнутыми из «Песни песней», из псалмов Давида и цитатами из посланий апостола Павла – грамматик, почитатель Марка Аврелия, стал под старость христианином!..
– Грамматик так прославлял твои знания и память, Аэций! – в голосе дочери Карпилия звучит огромная нежность и растроганность, – ты, наверное, запомнил почти всю эпиталаму… Скажи мне, господин мой… прошу тебя, скажи хотя бы две строфы… одну… Я хочу от тебя… из твоих уст… услышать эти чудесные слова о твоей ко мне любви…
Она не могла видеть странной улыбки, которая после ее слов появилась на лице мужа. Вся она обратилась в слух, находит в темноте его руку, подносит к губам. И ждет.
И вот Аэций начинает декламировать. Но не успел он произнести два-три первых слова, будто громом пораженная рванулась его жена. Глубоко потрясенная, садится она на постели, и, напрасно силясь изумленным взглядом разорвать черную тьму, больно впивается сильными пальцами в плечо мужа, и замирает, вторя его словам громким, лихорадочным, прерывистым дыханием… Неужели это ей не снится?
Не язык Горация, Назона и Марка Аврелия, а необычный язык готов струится с уст молодого римлянина. Не эпиталама с апострофами к олимпийским богам и цитатами из Священного писания, а любовная песнь варварских воинов звучит над ложем, где зачат наследник патрицианской италийской крови и носитель овеянного славой римского имени. А ведь ничего не говорится в этой песне о ложе средь цветов, мягком, влекущем к бесчисленным наслаждениям… ничего нет о смертельных стрелах любви… ничего нет о славе объединившихся родов… От наивно звучащих, плохо сколоченных строф, то и дело сбивающихся с ритма, а то и вовсе теряющих смысл, пышет могучая вера в волшебство и силу девичьей добродетели, единственной утехи мужей… звучит восхищение мягкостью женщины, которая, когда любит, твердо сносит невзгоды, удары и смерть рядом с избранным супругом…
«Когда ты даешь поцеловать свою руку, то как будто я сто врагов уложил… когда светлый твой волос – то как будто я конунгом стал… Лазурь ока твоего равна светлому небу, гнев благородный твой страшен, как северная заря…»
Сильные голые руки охватывают шею Аэция, привлекают его голову к орошенному слезами лицу. Только теперь он по-настоящему ей близок… ближе всех на свете! Разве может быть большее счастье, чем это: слышать из уст мужа – римлянина! – язык, который всосан с молоком матери… песнь, которую столько раз ты слышала и певала?.. Трудно поверить, чтобы римлянин мог так знать ее язык, вникнуть в него и вчувствоваться. Как будто она за готского юношу вышла… за королевского сына, как ей наворожила когда-то старая колдунья. Она обнимает его все жарче и жарче. А когда чувствует, что его вновь пожирает пламя желания, отдается ему не только покорная и изнывающая, но и благодарная, уже все ведающая и потому сама томящаяся жаждой. На каждое его движение, на каждое прикосновение отвечает она готовностью зрелого любящего тела…
Торопливо скрываясь от рассвета, запрятались по углам кубикула черные тени. И только теперь насыщаются обиженные ночью голодные взгляды. Как же непохож этот взгляд на тот, вечерний, который ни к чему не мог коснуться, кроме ног. С радостью, с наслаждением думает Аэций, что красотой и сложением жена его не уступит ни одной статуе богини Венеры. И тут вновь затягиваются его глаза дымкой желания, через которую он видит только, что лицо дочери Карпилия вдруг залилось горячим румянцем. Верно, она что-то хочет сказать, только стыдится, и потому Аэций, прежде чем заключить ее снова в объятия, выжидает с минуту, пока она скажет. Длинные черные ресницы действительно стыдливо прикрывают лихорадочно и вместе с тем счастливо сверкающие глаза, но говорит она без всякого смущения, свободно, смело, как будто это не первая ее любовная ночь, а сто первая.
– Говорили готские женщины, что от римлянина не много радости в постели. Вижу теперь, лгали, или только ты один такой…
Она не докончила и уже не ждала ответа.
8
В высоком коническом королевском шатре, как всегда, было дымно и отвратительно пахло: особенный смрад исходил от свежесодранных и уже загнивающих воловьих шкур, которыми были обтянуты внутренние стены шатра. Но Аэций имел достаточно времени и условий, чтобы привыкнуть ко всем особенностям домашней жизни короля Ругилы, более того, ему доставляла истинное огорчение мысль, что через несколько дней он расстанется с этой жизнью навсегда, возвращаясь в свой мир, – к людям и обычаям, от которых за эти годы уже совсем отвык и с которыми, казалось, его уже ничто не связывает, кроме с каждым днем все больше стирающихся воспоминаний детства. Рим, Равенна, жена, сын, которого он видел не более трех раз; войны Констанция с готами за Галлию, наследие языческого Рима, христово учение и его власть над миром, – все это казалось ему чем-то страшно далеким и туманным, хотя не совсем еще чужим: он чувствовал, что, когда вернется туда, ему будет тяжело приспосабливаться к нормам и требованиям давней жизни. А здесь, несмотря на эту вонь, все еще вызывающую легкое головокружение, все так просто, легко и понятно… так отвечает, как он сознавал, всему его существу – взять хотя бы этот день!
Начался этот день бешеной погоней за людьми одного из взбунтовавшихся вождей, который по наущению вероломного королевского брата Оэлорса напал на самые лучшие стада Ругилы, пастухов перебил, часть овец нарочно перерезал, а остальных погнал в город Сопиану, чтобы быстрее продать римским торговцам из Норика. Только к полудню король и те из его людей, у кого были лучшие кони, увидели в каких-нибудь ста стадиях [15]15
Древнегреческая мера длины от 150 до 190 метров.
[Закрыть]огромную тучу пыли, поднятую на старой римской дороге Геркулия – Сопиана угнанным стадом. С диким воем, не считая, сколько их есть, бросились преследователи на восемьсот всадников мятежного вождя: в ожесточенной схватке наибольшую смелость, а особенно огромную мощь руки проявил римский заложник, бившийся рядом с Ругилой и не отступавший от него ни на шаг. Сначала превосходство было на стороне преследуемых, но через некоторое время начали прибывать основные королевские силы: стадо отбили, большинство кинувшихся бежать людей было перебито; но Ругиле этого было мало. Проведав, что сам мятежный вождь в ожидании угнанных у короля овец стоит со всеми своими женами и детьми в маленьком городке на берегу озера Пельсо, неутомимый и все еще пышущий местью Ругила помчался со своими людьми на запад, к озеру: городок (одно из немногих римских поселений, которое чудом еще уцелело в дотла выжженной гуннами Валерии) сровнял с землей, вождя, который закрылся в христианском храме, сжег живьем вместе с женами, детьми, христианскими жрецами и церковью…
В этом набеге на город и сожжении церкви римский заложник принимал самое деятельное участие, чем завоевал безграничную любовь короля и без того давно уже к нему расположенного. Но что особенно покорило владыку гуннов – он чуть по земле не катался от радостного дикого смеха, – так это мужская сила, верность глаза и руки римлянина: когда насиловали взятых в городке женщин, ни один гунн не мог похвалиться таким числом лишенных девственности девиц, как он; когда живьем взятых людей мятежного вождя привязали к деревьям и стреляли в них из лука, также никто не мог с ним сравняться в количестве метких попаданий. Но это еще не все: когда уже возвращались в королевский лагерь, перед самым заходом солнца представилась неожиданно великолепная возможность поохотиться: из лесу вдруг выскочил огромный кабан, и, прежде чем успел, нырнув в высокую траву, пробежать часть открытого пространства, дорогу ему уже преградили несколько воинов. Трое из них пали под ударами мощных клыков, однако четвертый ловким броском копья пробил чудовищу глаз, а потом, схватившись насмерть, повалил его метким и сильным ударом короткого меча. И снова это был римлянин! Король Ругила долго не мог прийти в себя от восхищения: уже давно он знал его, любил и отдавал должное, но такого никак не ожидал! Он пригласил заложника к себе на ужин, собственными руками разрывал тут же в шатре жаренную на огне баранину и подавал лучшие куски римлянину и наконец удостоил его высочайшего знака королевской милости: велел остаться на ночь в королевском шатре.
Маленькие раскосые глазки Ругилы превращались совсем в узенькие щелки, когда с радостным восхищением впивались поверх смешно торчащих скул в могучую плечистую фигуру Аэция. Все щуплое тельце владыки гуннов извивалось в приступах счастливого смеха, время от времени прерываемого дикими радостными воплями: о, не случайно он, могущественный король Ругила, выбрал себе этого юнца… От всех остальных римских заложников он уже давно избавился: или обменял на своих товарищей, взятых в плен римлянами, или постарался, чтобы случайная скорая смерть постигла их на безбрежных, поросших высокой травой паннонских равнинах. Только его одного он оставил при себе, не желая обменять даже на трех самых смелых гуннских вождей. Ведь кто еще из его людей так владеет мечом и копьем, как римлянин? И у кого из римлян такой глаз, ухо и нюх, как у гунна? Кто так держится на коне, как сын степей? Никто… никто… один только Аэций…
И какой римлянин может так быстро научиться языку гуннов, как он?.. Заложник даже, случается, поет у костра дикие протяжные гуннские песни…
– Спой и сейчас что-нибудь, сын мой… Нет, нет… лучше расскажи что-нибудь… что-нибудь забавное и вместе с тем поучительное… Скоро ты покинешь нас, не откажи Ругиле, который тебя единственного называет своим другом…
Одно дело говорить о еде, об охоте, битвах, о насилуемых женщинах… или петь протяжные песни, принесенные на крыльях восточного ветра на равнины Паннонии от Китайской стены, о существовании которой Аэций даже не догадывается, но рассказывать?.. рассказывать о муже, почти столь же хитроумном, как король Ругила, и столь же могущественном, побеждающем врагов своих хитростью, равного которому не было никогда и нигде, ни у одного народа?.. Трудное это дело, о коне ли деревянном говорить, или о хитрости, с которой одолели одноглазого великана Полифема, или о гребцах, залепляющих уши воском, когда поют морские прелестницы: то и дело надо переплетать гортанные короткие гуннские звуки как бы бесконечно длящимися готскими, а то и латинскими словами…
Растянувшись на теплых, кое-где еще кровоточащих бараньих шкурах, уже громко хранят королевские племянники Бледа и молоденький Аттила. Да и сам владыка кочевников сонно кивает головой, между толстых, бесформенных губ бессильно вываливается широкий язык. Но как только повествование дойдет до того места, где хитроумнейший из хитроумных собственноручно побивает стрелами из ловко добытого им лука всю толпу домогающихся его жены мужчин, весь сон слетает с королевских век. Он цокает языком, хлопает ладонями по коленям или радостно потирает их.
– А ты? Ты бы мог, Аэций? – спрашивает он.
Но вот уже и он по-настоящему засыпает, веля Аэцию, в знак особой королевской милости, взять себе в постель одну из двух принадлежащих самому Ругиле женщин, а те давно ждут в дальнем углу шатра, когда он позовет одну из них. Но Аэций сыт сегодня любовью после утренних развлечений в городке и, прикоснувшись ногой к обнаженному телу красивой германки, бежит из духоты на свежий ночной воздух.
Повсюду огни… тысяча огней… Сколько звезд на небе, столько костров на земле… Он смотрит на те и на другие и вдруг начинает думать о том, что он почти все забыл из того, чему учил его грамматик, что ни одного стиха наизусть он уже не может прочесть из той истории, которую только что рассказывал Ругиле. Многое забыл и из священных наук, которые некогда излагал ему старый диакон в Дуросторуме: раз только со смехом припомнил он эту науку дословно – тогда ему еще нравилось пасти королевских овец… Думает он также, но уже с удовольствием, о прошедшем дне: о бешеной погоне, о схватке с кабаном, о сожженной церкви и дико кричащих пленниках, в которых он так метко стрелял из лука. Воспоминание о схватке с разъяренным и безумствующим от боли зверем наполняет его каким-то диким, почти животным, безграничным счастьем. В радостной усмешке скалит он здоровые белые зубы и изо всех сил бьет себя в грудь огромным, как молот, кулаком. Он любит себя и свою огромную животную мощь!.. И одновременно сознает, что не только это, нет, что-то кроме этого является причиной его счастья… Ведь не то, что через несколько дней он вернется к своим… Нет, тут что-то другое… Он чувствует себя так, как будто ему открылась вдруг правда о смысле и сути людской жизни… Он так верит в это, знает… Он постиг эту правду, он чувствует это… Только не умеет ее назвать, выразить словами. Одно знает, что то же самое чувствуют и, пожалуй, даже знают, хотя и не могут выразить, тысячи и тысячи полуголых диких гуннов, которые, куда ни глянь, роем черных теней обленили бесчисленные, как звезды, костры.
9
Волосы матери уже совсем седые, и совсем по-старчески трясется подбородок, когда она доходит до самой мучительной части своего рассказа.
– …когда срывали с него одежды, били, кололи в лицо дротиками, даже когда повалили его на землю – молчал… Но когда один из каналий, какой-то грек, ударил его тяжелым башмаком в лицо, превратив глаза, рот и нос в кровавую кашу, не выдержал и закричал: «Больно… ох, как больно!..» Я слышала… все слышала… Боже, как это было страшно!.. И слышала голос этого грека: «Иисусе, так ведь и надо, чтобы больно было…»
Рыдая, она спрятала искаженное ужасом воспоминаний увядшее лицо в коленях сына и замерла на какое-то время, только худые плечи ее то и дело вздрагивали.
– Теперь вот плачу, но тогда не плакала, – продолжала она спустя некоторое время, – канальи, не удалось им увидеть моих слез… Зато я видела!.. Видела, как они выли от страха, визжали, как свиньи, вопили, падая к ногам центурионов, когда пришел легион из Арелата, разоружил бунтовщиков и вешал каждого пятого на деревьях… Я ходила… целый вечер ходила по этому лесу висельников… Только христова любовь сдерживала меня, чтобы не плевать в эти вылезшие на лоб глаза… на свесившиеся до подбородка языки… Но грека этого не нашла… А весь вечер ходила, искала…








