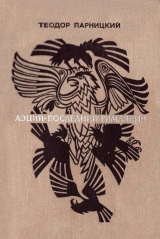
Текст книги "Аэций, последний римлянин"
Автор книги: Теодор Парницкий
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)
– Кто первым подойдет к Аримину, кто овладеет крепостью?
В ответе на эти вопросы содержался весь исход борьбы. Судя по последним полученным в Риме известиям, Бонифаций был ближе к цели.
– Ну и ноги у Аэция! – лихорадочно восклицали под портиками сторонники непобедимого и тут же добавляли с издевкой: – Знаем… знаем… а у Бонифация книги и жена..
Бонифаций действительно вез с собою всю библиотеку: Цезаря, Ливия, Салюстия, Непота и несколько кодексов, посвященных воинскому искусству. Сопровождала его и Пелагия. Она заявила, что не останется без него в Риме, а когда Бонифаций попытался упорствовать, вновь прибегла к безотказному: «Где ты, Кай, там и я, Кайя». Она не могла оставаться в городе, где из-за своей веры испытывала более многочисленные и более тягостные ущемления, чем в родной Африке. Плацидия явственно дала понять Бонифацию, что не может допустить к своему двору благороднорожденную римлянку, упрямо коснеющую в ненавистном богу учении Ария; Сигизвульт же и другие ариане-варвары, часто соприкасающиеся с двором, уведомили Пелагию, что и Плацидия, и епископ Ксист склоняют Бонифация расстаться с нею если не навсегда, то хотя бы на какое-то время. «Пусть возвращается к себе в Африку», – якобы сказала Плацидия. Кроме того, Пелагия не выносила свою падчерицу, уже взрослую дочь Бонифация от первого брака, только что выданную за молодого комеса Себастьяна, который вместе с Сигизвультом и сиятельным Петронием Максимом сопровождал патриция как его заместитель и советник. В совете при патриции Максим ведал гражданскими делами, а воинскими – Сигизвульт и Себастьян.
Пелагия едва держалась на ногах от усталости после трех дней пути и двух бессонных ночей, когда вдали на востоке завиднелись наконец мощные стены Аримина. Идущий во главе войск четвертый палатинский легион пронзительным воем тибий и рогов дал знать, что неприятель приближается. Действительно, через час словно тысячи солнц выплыли из-за левого берега Рубикона – непобедимый вождь и главнокомандующий подошел к городу одновременно с патрицием. Бонифаций немедленно собрал совет: вообще-то Аримин был почти что в его власти, так как восемнадцатый легион ауксилариев уже входил в город, но ввести все войско без битвы было невозможно.
– И потому я постановил, – говорил он с взволнованным, слегка побледневшим лицом, но совершенно спокойным голосом, – что Сигизвульт с восемнадцатым, четвертым и одиннадцатым легионами ауксилариев станет в городе, мы же с Себастьяном, прикрываясь стенами города, обратимся лицом к врагу и еще сегодня выиграем сражение.
Пелагия так устала, что, как только Бонифаций провел ее в спальную комнату в предоставленном им доме, тут же скинула с ног башмаки и бросилась на постель. Она понимала, что сейчас она не смеет спать… что вообще может уже не встать с ложа или проснется в объятиях кого-нибудь из Аэциевых комесов… Но у нее нет больше сил. Вот уже два часа она буквально теряет сознание и почти не соображает, что делает… Последнее, что она помнила, – это огромный наполовину белый, наполовину черный луг между двумя войсками… Что-то Бонифаций ей тогда говорил… что-то показывал… Она даже видела в отдалении сверкающие золотом значки, совсем такие же, как у войск Бонифация… и еще заметила какую-то подвижную красную точку…
«Вон он… Аэций… – кажется, сказал ей муж. – В расшитой тоге консула…» Она просто валилась с ног. Но, рухнув на постель, не сразу уснула. С минуту она потягивалась с наслаждением, как ребенок, радующийся свободе уже ничем не скованных ног, когда можно шевелить всеми десятью пальцами. Потом она почти не помнит, что делала: поцеловала Бонифация в лоб, в щеку и в губы и сказала: «Да хранит тебя Христос» – и, кажется, заплакала… Она уже не слышала, как Бонифаций сказал: «Двести готов охраняют дом… сам Сигизвульт сразу же тебе все сообщит…» Ей показалось, что он хотел что-то еще сказать, но только прикоснулся рукой к ее щеке, улыбнулся и вышел… Пелагия совсем не слышала своего голоса, когда произнесла: «Да ведь я же совсем не буду спать… разве я могу в такое время уснуть?! Я только полежу минуточку… ноги отдохнут – и тут же встану».
А потом появилась нагая серая пустота, испепеленная, подернутая каким-то серым туманом. Ни стебелька на земле, ни пятнышка лазури в небе. Пелагия знает… уверена, что это не ночь, даже не сумерки… Глаз ее напрасно высматривает золотисто-огненный диск солнца, ищет окрест след какого-нибудь луча… хотя бы какого-нибудь отблеска… И ни следа тени… Не отбрасывают ее ни разбросанные мелкие серые камни – неподвижные угрюмые отшельники, – сварливые, брюзгливые, острые, безжалостные, если ступить на них ногой: пусть только попробует двинуться с места! Ни такие же суровые и грозные груды скальных обломков, которые даже с самого большого отдаления никогда не будут ни белыми, ни черными… а всегда серыми… мрачными, бесконечно жестокими в своей серости из всей окружающей мир серости! Даже тела – два живых, горячих, прильнувших друг к другу человеческих тела, – и они не отбрасывают никакой тени на стелющуюся под окровавленными ногами серость. Пелагия отчетливо видит: его и ее… как будто смотрит откуда-то со стороны… А ведь это она!.. Ведь это с ее разрезанной камнем ноги скатилась капля крови… Это она чувствует жар, бьющий от его сильного, мускулистого – поистине дикого! – тела, к которому она прижимается, дрожащая, обливающаяся слезами, но уже уверенная, что ничего с ней не случится, если она, как в спасительную пещеру, всунет голову между широкой, сильной, мохнатой грудью и руками, твердыми, жесткими, но самыми дорогими… Самыми верными и созданными только для того, чтобы защищать ее…
И снова, как будто со стороны, видит она отчетливо, что мужчина сидит на большом сером камне, почти касаясь посиневшим коленом ее посиневшей груди, а ее колени покоятся: одно на мелком колючем щебне – болящее, саднящее… другое – доверчиво и блаженно – на больших, сильных, напряженных пальцах его ступни… Кто же они?.. Она видит его лицо – широкое, грубо вытесанное, варварское или мужицкое… Когда-то она видела его – да, наверняка видела!.. но как будто лишенное жизни… мертвое… каменное…
А она?.. Да, это она, но зовут ее не Пелагия… Неужели она Ева?.. А он Адам?.. Они изгнаны из страны счастья, из страны безмятежности и иллюзорности счастья; что же они могут поделать в испепеленной, голой пустыне, укутанной в угрюмую, жестокую серость?! Пелагию охватывает уже не страх, не отчаянье, а усталость, безразличие и равнодушие ко всему, к чему она стремилась… о чем плакала… Как будто ее смертельно изнурила какая-то жестокая непосильная битва… Пусть будет так… пусть… Только бы с ним… ближе к нему!.. И она прижимается все сильнее, все жарче к твердому, как из бронзы, но живому, обжигающему телу…
Но если они Адам и Ева, то почему они не стыдятся своей наготы, хотя уже познали ее? Почему, наоборот, то, что они голые, она воспринимает как облегчение, и радость, и почти счастье от того, что они одни и одиноки?! Поистине, в несчастье и отчаянье обретается единственная победа… победа!.. победа!..
– Победа! Победа!! Победа!!!
Пелагия вскакивает с постели. Из ноги, разрезанной камешком, который в дороге попал в ее башмак, действительно стекает капля крови. Сияющий Сигизвульт наклоняется над нею и не в силах найти от радости другого слова – в десятый, а может, и в двадцатый раз восклицает:
– Победа! Победа! Победа!
В комнате темно. Но вот вносят светильники. «Проспала целый день», – думает Пелагия, быстро всовывая отдохнувшие ноги в красные башмаки. В комнате появляются все новые и новые фигуры – лица потные, измученные, нередко окровавленные либо перевязанные, но все сияющие от радости, счастья и гордости, прежде всего от невыразимой гордости… За семь часов они разбили непобедимого!
Разбили… уничтожили…
– Разбили в прах! – восклицает молодой Себастьян, который входит в комнату, слегка хромая, задетый стрелой в бедро.
С жаром рассказывает он Пелагии, с какой легкостью в первый же час разбил Бонифаций оба фланга противника и с трех сторон обрушился на его центр. И это непобедимый?.. И это полководец, имени которого не произносит без страха ни один король варваров?! Воистину только для схваток с варварами он и годится! Бросать ауксилариев на счетверенную черепаху отборных палатинских легионов?! Оттягивать с флангов конницу, прежде чем неприятель окажется под градом снарядов из катапульт?! А самое последнее?! Самое худшее?! Самое позорное?! Свести все свои силы в одну массу, как будто для страшного удара, а на самом деле только затем, чтобы дать себя легко окружить?! Такое поражение! Войско абсолютно рассеяно… почти все комесы взяты в плен… сам Аэций, возможно, убит… сейчас ищут его тело… А Бонифаций еще перед полуднем думал, что придется на полгода запереться в Аримине!..
Только теперь Пелагия спрашивает о Бонифации.
– Он преследует с конницей Кассиодора, который с двумя легионами бежит в верховья Бубикона… Целый день на коне… Все время в первой шеренге…
Пелагия сама не знает, почему лицо ее заливается вдруг жарким румянцем.
– А с ним ничего?..
– С ним?.. С ним никогда ничего… – начинает Себастьян и вдруг замолкает, видя, что встревоженный взгляд Пелагии остановился на молодом трибуне-алане, который выразительным жестом указывает на плечо.
– Ранен?!
Она сама не ожидала, что так крикнет. Румянец тут же сбежал, лицо стало белым.
Испепеляющим взглядом Себастьян глянул на алана.
– Царапина, – произнес он свободным, почти веселым, голосом. – Стрела задела ключицу… Далеко от шеи… Когда ее выдернули, всего три капли крови вытекло. Пустая царапина, – и добавил: – Но какая блистательная победа!.. Куда крупнее разгрома язычников под Аквилеей… Пока стоит Римская империя, до тех пор живет слава Бонифация!
7
Когда Бонифаций открыл глаза, съежившаяся до величины пальца тень на солнечных часах в перистиле показывала ровно полдень. Три лекаря быстро перекинулись многозначительным взглядом: «В первый раз за три дня… несмотря на все средства!» А взгляд самого старшего и умудренного из них говорил: «И в последний…» Они быстро отступили, открывая близкому к кончине победителю вид на утопающий в радостных лучах солнца перистиль. Тут же у ложа, с лицом, окаменелым от боли и невероятного изумления, стояла Пелагия. Крик, который она неожиданно для себя самой испустила три дня назад при вести о ранении Бонифация, был вещим криком. Могущественнейший человек Западной империи, победитель непобедимого, умный и образованный полководец, храбрый воин, который всю битву ни разу не отступил за вторую шеренгу, умирал в муках от крови, смертельно отравленной ржавым наконечником стрелы, хоть при этом вытекло всего три капли… Губы его были уже совсем синие, щеки землистые, глубоко запавшие, пальцы одеревенели, судорожно растопырясь, но лицо его все еще выражало осмысленную озабоченность земными делами. Он был вождем, смертельно сраженным в самой гуще битвы, он даже не позволил вынуть стрелу из раны, пока не убедился, что триарии, которые должны решить победу, уже поднялись с колен… уже устремили вперед копья… Пелагия, считавшая мужа человеком слабым, почти с женской душой, не могла отрешиться от удивления, глядя на него в эти последние дни. Но Сигизвульт, часто видавший его в огне сражения, совсем не удивлялся, что патриций ведет себя в последние минуты именно так; и, полностью разделяя заботу, которая выразилась на лице Бонифация, как только тот открыл глаза, быстро приблизился к ложу и произнес:
– Аэций прибыл.
Все вздрогнули. Все взгляды, удивленные и встревоженные, вопросительно устремились к посинелым губам Бонифация, а он кивнул лекарям, чтобы его приподняли на постели, и, уже сидя, сказал свистящим, но вполне осмысленным и спокойным голосом:
– Пусть скорее войдет.
Тогда взгляды всех присутствующих оторвались от страшных Бонифациевых губ и с лихорадочным любопытством и с еще большей тревогой, чем до этого, метнулись к двери, за которой исчез Сигизвульт, чтобы через минуту явиться с ним… с Аэцием.
Пелагия, которая никогда его до сих пор не видала, чуть не вскрикнула от изумления – такой знакомой и удивительно близкой показалась ей вся его фигура… очертания плеч и ног… а прежде всего лицо! Она знает его… и знает очень хорошо… она видела его совсем недавно! Но где?.. Когда?.. Когда Бонифаций показывал ей перед сражением Аэция, она видела только движущуюся красную точку… Тогда где же?.. На минуту она успокоилась: столько раз приходилось видеть его статуи, бюсты, диптихи и медали с его изображением! Хотя нет, тут же вернулась волна тревожного изумления – она готова поклясться Христом, могущественнейшим и совершеннейшим творением божьим, что недавно… совсем недавно… совсем близко видела живой эту фигуру и это живое, раздираемое вихрями чувств лицо… С тем большим любопытством приглядывалась она к нему; поскольку она знала его по изображениям, то совсем иначе представляла себе прославленного, непобедимого полководца, гордость римского оружия и римской – среди варваров – славы. Он походил на варвара… На галльского или фракийского мужика – на кого угодно, но только не на воплощенное римское величие и мощь. Плечи широкие, колени массивные, лоб низкий – длинные, неопределенного цвета волосы падают на глаза, на брови, на обрубок шеи, широкое лицо к тому же заросло длинной колючей щетиной также неопределенного цвета – местами рыжей, а кое-где черной… На нем была синяя туника из грубой материи, а на ногах крепиды из невыделанной шкуры; в волосах и на одежде Пелагия без труда заметила несколько соломинок и следы грязи… «Не удивительно, – подумала она, – вот уже три дня, как обложенный волк, прячется по лесным чащобам… да еще зимой». Но что больше всего ее поразило, так это его взгляд… Взгляд бешено дерущегося за свою жизнь зверя… Бывший главнокомандующий, усмиритель и ужас королей и народов, смотрел исподлобья на Бонифация и на всех присутствующих с такой дикой, нечеловеческой ненавистью, что Пелагия вздрогнула, увидев, что он открывает рот, чтобы заговорить: какой же нечеловеческий, хриплый вой или рев вырвется из этого искривленного бессильным бешенством рта! И не могла поверить, что это действительно он говорит, когда над перистилем взлетел его звучный, властный голос:
– Дочь твоя не только останется вдовой, Бонифаций, но и узнает о всех ужасающих муках, которые изведает ее муж, если ко мне хоть пальцем прикоснется кто-нибудь из этих твоих…
Он осекся и повел глазами по всему перистилю. С особой ненавистью смотрел он дольше, чем на остальных, в злорадное лицо Петрония Максима; Пелагию он вообще как будто не заметил; и весь вспыхнул огнем, когда поодаль от ложа увидел стройную фигуру Кассиодора, схваченного Бонифацием уже в пяти милях к югу от Аримина.
– Я уверен, что с Себастьяном ничего дурного не случится, Аэций, так же как здесь никто не осмелится посягнуть ни на тебя лично, ни на честь прославленного военачальника…
Все, не исключая самого Аэция, с безграничным удивлением слушали с трудом выговариваемые слова умирающего, а он огромным усилием воли протянул к Аэцию обе руки и продолжал:
– Ты приехал в закрытой лектике, да?.. Я нарочно послал ее за тобой, чтобы никто в городе, кроме присутствующих здесь, не знал, что это ты едешь.
– А я послал бы за тобой только клетку и возил бы тебя в ней по всему городу. Говори скорее, чего ты хочешь… Каждая напрасно потерянная минута приближает час вдовства твоей дочери… Да и ты сам недолго протянешь… Немного дала тебе эта победа над Аэцием…
Он разразился громким, искренне веселым смехом. Бонифаций молча смотрел в безобразно заросшее, широкое смеющееся лицо и, когда смех наконец утих, сказал:
– Ошибаешься, Аэций. Мне много дала эта победа. Я говорю не о славе, не о панегириках, не о хрониках – через час я скончаюсь, и ничего из этого не прочту, и никогда не узнаю, читал ли это кто-нибудь… Я имею в мыслях другое. Сначала знай, что я всегда испытывал к тебе восхищение и почтение…
Аэций судорожно стиснул большие кулаки.
– Если ты не потешаешься сейчас надо мной, – воскликнул он глухо, – если хоть немного уважаешь меня, то прикажи на время, пока я здесь, пусть выйдет отсюда гнусный предатель и неблагодарный перебежчик! – И он указал стиснутым кулаком на Кассиодора.
– Это не предатель, Аэций, – начал было Бонифаций, но тот не дал ему закончить.
– Не предатель?! – крикнул он. – Не перебежчик?.. В таком случае что же он здесь делает – свободный и надменный, когда его товарищи кусают снег или корчатся в муках…
– Никто из них не мучается и никто даже не заточен, Аэций… Своей властью патриция я сразу же после битвы помиловал всех, кто сражался на твоей стороне, причем каждый, кто только захочет – комес это или простой солдат, – может вернуться в ряды императорского войска на прежнее место…
Пелагия с удивлением заметила, что взгляд Аэция, озадаченный и неожиданно угасший, уставился в пол, а большие кулаки разжались и распрямились.
– Благодарю тебя, – услышала она его глухой голос, – благодарю за всех их…
А через минуту, все еще не поднимая глаз, спросил почти робко и как будто стыдясь своего любопытства:
– А много… много их вступило под твои значки?.. Я говорю… о комесах…
– Только трое… Нет, нет, Аэций, ты ошибаешься… Кассиодор не принадлежит к ним… Верь мне, это действительно твой преданный друг… Он тут потому только, что я позвал его…
И снова Бонифаций кивнул лекарям. Через минуту он уже сидел совсем прямо. На него взирали с удивлением: лицо его выглядело не таким мертвым… глаза горели… даже пальцами одной руки он двигал уже свободнее…
– Сиятельный Петроний, – обратился он к Максиму, – можешь ли ты здесь, в присутствии епископа Иоанна, перед лицом сиятельного Флавия Аэция поклясться муками Христовыми и своим законным происхождением от того, кого ты именуешь своим отцом, что сенат города Рима облек меня властью и правом распорядиться судьбой побежденного Аэция, как я сочту нужным, а великая Плацидия это решение сената благоволила утвердить?..
– Клянусь, – сказал Максим и беспокойно нахмурился, но, прежде чем он успел что-нибудь сказать, Аэций уже подскочил к ложу и с перекошенным от бешенства лицом процедил сквозь стиснутые зубы:
– Ничего ты мне не можешь сделать… ничего… ничего!.. Мужа твоей дочери мои гунны посадят на острый кол или привяжут за ноги к двум коням и…
– Изволь выслушать меня спокойно, Аэций, – прервал его патриций ослабевшим вдруг голосом. – Ты видишь… моя минута уже близка… Я должен поторопиться… Слушай меня внимательно… Мне все тяжелее говорить… И вы слушайте все… всех призываю в свидетели… тебя, муж апостольский… тебя, сиятельный Максим… тебя, Пелагия, а особливо вас, храбрые солдаты – Сигизвульт и Кассиодор…
Он замолк, чтобы глотнуть воздуха, дыхание его становилось все более хриплым, то и дело прерывалось; тогда видно было, как он задыхается и все лицо становится синим, как и губы.
– Слушайте внимательно, – продолжал он минуту спустя, – слушайте, и пусть вас бог покарает, если вы угадаете мысль, но не расслышите на мертвеющих губах слова и потом скажете, будто ничего не слыхали… Я знаю, что согрешил против бога, господа нашего… знаю, что ошибался, но… я никогда не грешил со злым умыслом и предерзостно… а только, – с минуту он задыхался, и лекари решили, что это уже конец, – только по слабости и жару сердца… в гордыне, в гневе, одержимости и неразумии. И теперь… теперь я хочу свою вину загладить, а ошибки исправить… Первая из главных вин моих: то, что принял патрициат, одному лишь человеку в Западной империи прилежащий – сиятельному Аэцию… Ну где мне с ним равняться?! С полководцем храбрым, умелым… удачливым… И другая моя вина: что, увлекаемый гордыней, а не разумением, лишил империю и римский мир могущественнейшего человека… единственного защитника, разбив его под Аримином… Простишь ли ты мне эту обиду, Аэций? Простят ли мне эту вторую вину историографы?..
– Но послушай, славный муж! – воскликнул Петроний Максим.
– Не прерывай меня… Сейчас я умру… Эта вторая вина была вместе с тем и милостью божьей… Почему, думаете вы, даровал мне бог победу над Аэцием? Мне, который недостоин быть его комесом?! Чтобы испытать Бонифация в смертный час… испытать, будет ли он упиваться гордыней и умрет, обрушив вместе с собою в пропасть римский мир, или образумится и последует голосу совести?.. Яко червь есмь перед господом, но – горжусь – устоял перед искушением, как Иов… Слушайте! Желая исправить обиду, причиненную великому Аэцию, и радея спасти империю и римский мир властью своей, каковую получил из рук великой Августы Плацидии и сената, нарекаю присутствующего здесь Аэция своим преемником… наследником всего, что я имею, и именую его главнокомандующим… вождем и главнокомандующим и патрицием империи… Не говори ничего, Максим! Взгляни в лицо Сигизвульта… на его глаза… на его улыбку… Солдат этот, пусть и верный слуга Плацидии, знает, какой ему нужен вождь… Так будет… Такова моя воля… А теперь, простишь ли ты мне, Аэций?!
– Это подвох… это какая-то хитрость… – невольный крик Аэция заполнил весь перистиль. – Вы хотите меня усыпить и выманить из укрытия какими-то хитростями, а потом… О нет… я не дамся… я вам не Стилихон!..
– И правда, ты не Стилихон, – почти шепотом сказал Бонифаций. – Стилихон был варвар с душой римлянина… а ты, Аэций, ты римлянин с душой варвара, но только такой и может спасти гибнущую империю…
Аэций повел вокруг беспредельно удивленным взглядом. Петроний Максим потерял всякое самообладание: он топал ногами и кусал край тоги. Кассиодор устремил на Бонифация почтительный и восхищенный взор. Сигизвульт опустился на колени перед ложем и поднес к губам деревенеющую руку, по лицу его, будто выбитому из бронзы, текли слезы. Иоанн тихо молился. Пелагия встала на колени по другую сторону ложа. К ней устремился потухающий взгляд Бонифация.
– Пелагия, – прошептал он, – я любил тебя больше всего на свете и всегда – не так, как пристало мужу, – делал все по твоей воле, часто рискуя спасением души… А ты, памятуя об этом, сделаешь, когда я умру, то, чего я сейчас от тебя потребую?..
– Все…. все… – рыдала она.
– Так вот, слушай… и ты тоже, Аэций… Чтобы править, повелевать, бороться, мало меча, даже твоего… мало даже головы, равной великим умам прошлого… Нужно еще кое-что… И это есть как раз у нее, Аэций… Пелагия – самая богатая наследница в Африке… Возьми ее, Аэций, ты видишь: она красивая, умная, не как другие женщины… правда, упрямая и строптивая, тяжелая, – но для меня, а не для тебя, Аэций… И ты уж выйди за него, Пелагия: он один сумеет отобрать у вандалов твое приданое… он один сделает твое имя долговечнее бронзы… И вспоминайте меня. Благослови вас Христос.
Только теперь взглянул Аэций на Пелагию, но, прежде чем у них успело вырваться слово, Бонифаций, опадая на постель, хрипло выдавил из себя:
– Тебе пора, Аэций… Боюсь, что, когда я скончаюсь, найдутся тут такие, для кого все равно, что я в неутоленной скорби оставляю трех вдов: Пелагию, мою дочь и римский мир… Поспеши же к своим… Тебя ждет тяжелая борьба за мое наследие, но я знаю – ты выиграешь ее…
– Выиграю, Бонифаций.
– Vale. Дай мне свою руку, славный патриций. А когда выйдешь отсюда, оберни еще раз свой лик и скажи: «Salve aeternum…» [57]57
Прощай… Здравствуй, бессмертный… (лат.).
[Закрыть]
– Прощай, благороднейший из римлян…
– Прощай, спаситель Западной империи… Vale… vale… magna… rei publicae… Occidentalis… sains… [58]58
Прощай… прощай… Пусть здравствует великая Западная империя (лат.).
[Закрыть]
Когда исчезла в двери коренастая фигура Аэция и Петроний Максим, заламывая руки и до крови кусая губы, припал к ложу, Бонифаций последним усилием дружески улыбнулся ему и повернулся к епископу, глухой к тому, что лихорадочно излагал ему сенатор.
– Святой отец… – послышался через минуту его шепот. – Ты веруешь в учение о помиловании?..
– Да, сын мой, – твердо ответил Иоанн. – Не было вечера, чтобы я, отправляясь спать, не укрепил перед тем дух свой благостным учением Августина…
– Отче… А я отхожу помилованным?
Епископ ничего не ответил. Рыдания лишили его голоса, слезы белым туманом заволокли старческие глаза, жадно взирающие на смерть солдата. Он только кивнул головой.
Тогда Бонифаций поднял глаза к сияющей над перистилем солнечной лазури и, сложив руки на груди, прошептал:
– Какие же святые и правдивые были твои слова, мудрейший Августин… Воистину, до тех пор не познает сердце наше покоя, пока не упокоится в тебе, господи!








