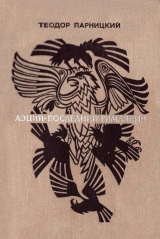
Текст книги "Аэций, последний римлянин"
Автор книги: Теодор Парницкий
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц)
– Очень хочу, сиятельный.
– Что тебя туда влечет?
– Мой родственник Теодор заложник у короля Теодориха. Мать его исплакалась от отчаянья, рыдает дни и ночи. Я поеду: может быть, благородный и отважный владыка варваров захочет вернуть его матери по моей просьбе…
Все комесы и трибуны разразились громким смехом.
– Уверяю тебя, мой Мецилий, что не отдаст, – заглушил смех мощный голос Аэция.
– А если не отдаст, то я предложу себя в заложники вместо него. Ты позволишь мне, господин?
Смех оборвался: Аэций, комесы и трибуны смотрели на Авита, как на безумца или святого, взглядом, полным удивления, недоверия, но и уважения.
– Ну конечно же, позволяю… Только удивляюсь, Мецилий Авит…
– Ты удивляешься, сиятельный?.. Но ведь ты сам был некогда у готов, и даже у самого Алариха…
– Да, был. Ты верно сказал, Мецилий. Но я – не ты. А впрочем…
Он широко, весело и вместе с тем язвительно улыбнулся.
– Я дам тебе ручного голубя… Думаю, что через два-три дня ты решишь его отослать – только привяжи к ноге записку. Я тут же выкуплю тебя за подходящую цену – шесть голов готских вождей, которых морю здесь у себя в подземелье голодом… Еще с неделю выдержат. А там должен быть мир.
И как будто только сейчас что-то припомнив, поспешно добавил:
– Если уж ты действительно хочешь туда ехать, то просим тебя, сообщи королю Теодориху, что мы милостиво соглашаемся на его условия мира…
Громкий шепот удивления пробежал по набитой комесами и трибунами комнате. Аэций, не обращая на это внимания, продолжал:
– Мы даем народу готов для поселения, кроме Новемпопулонии, еще Аквитанию, но, однако, без битуригов, арверов и габалов. Из нарбонской же провинции только Толозу [40]40
Современная Тулуза.
[Закрыть], а Нарбон – нет… С посессорами [41]41
Владельцы арендных участков.
[Закрыть]пусть король договаривается сам, города же должны управляться по римскому праву. И все. Но король Теодорих должен принести присягу, и притом торжественную – в своей арианской церкви, – на феод…
На феод, или на верность императору, должно было присягать каждое варварское племя, которое желало поселиться в пределах империи. Присяга эта налагала на него обязанность быть вечным союзником, это понималось таким образом: если главнокомандующий императорских войск того потребует, то народ-федерат должен выступить во всеоружии, и притом незамедлительно, против любого врага Рима, причем король этого народа на время войны безоговорочно подчиняется приказам имперского начальника. Мелкие варварские племена, как правило, честно выполняли союзнические обязательства, но более сильные из федератов, а в первую очередь самые могущественные из них – вестготы, то и дело бунтовали против юридической зависимости от империи, вызывая длительные и опустошительные войны, истинной целью которых, однако – во всяком случае, в начале правления Теодориха, – была не независимость от Рима, а только стремление урвать от империи все новые и новые владения взамен за возобновление феода. Констанций вначале хотел было поселить готов в Испании, рассчитывая на их помощь в борьбе с беззаконно осевшими там вандалами, аланами и свевами, но, однако, от Испании, своей колыбели, Феодосиев дом не хотел отказываться добровольно и отвел для вестготов небольшой юго-западный кусок Галлии. И вот спустя пятнадцать лет мощь вестготов возросла настолько, что победоносный полководец добровольно соглашается отдать варварам столь обширные владения, никакое иное племя не может похвалиться обладанием – пусть даже беззаконно – хотя бы половиной отводимой Теодориху после его поражения на Колубрарской горе территории!
Почему Аэций так делает? – поражались комесы и трибуны. Ведь он после победы так силен, а неприятель так ослаблен, что если затянуть войну, если перейти от обороны к нападению, то вестготов можно так прижать, что те с радостью согласятся на условия пятнадцатилетней давности! Но Аэций не намеревался объяснять подчиненным своих намерений, и они перестали ломать голову, удивленные и ошарашенные тем, что произошло после отправки Авита к вестготам. Почти каждый из них получил повышение в воинском чине и более знатный титул; кроме того, главнокомандующий собственноручно повесил на шею каждому цепь чистого золота со своим изображением, которое все тут же с искренним почтением поцеловали. Но и это еще было не все: двадцать слуг под началом гунна Траустилы внесли в комнату тяжелые мешки с солидами и серебряными силиквами, серебряные чаши и блюда, искусно выкованные шлемы, панцири и поножи. Каждый из комесов и трибунов, побуждаемый Аэцием, мог брать из всего этого то, что хотел. Кроме того, те, кто в последней битве был ранен или находился подле вождя, могли отправиться в его конюшни и выбрать там по два коня – и все без исключения были званы на пир, который в тот вечер префект претория Галлии давал в честь победоносного полководца. Пригласив на это пиршество каждого в отдельности, Аэций попрощался с соратниками и только одного Андевота попросил остаться. Все ушли удовлетворенные, славя непобедимого, которому они клялись верно служить до последнего дыхания, до последней капли крови в сильных, крепких телах! Весть о неслыханной щедрости вождя быстро облетела лагерь, но это не вызвало у солдат удивления: деканы еще с раннего утра ходили между рядами с мешками и в каждую протянутую ладонь клали блестящий желтый кружок, с которого одинаково суровым взором смотрели на гунна, на гота, на свева, на франка несколько округлые и выпуклые глаза Августы Плацидии.
– Ты помнишь, кем ты был шесть лет назад, Андевот? – спросил Аэций.
Увешанный золотыми и серебряными отличиями варвар устремил на своего предводителя влюбленный взгляд.
– Никогда этого не забуду, господин мой, – ответил он грубым, несколько хриплым, но почти растроганным голосом. – Я был жалким пленником…
– А потом?
– Деканом в ауксилариях…
– А потом?
– Потом был год консульства императора Валентиниана… В том году до мая Андевот был все еще в ауксилариях, всего лишь центурионом, а после мая… – Он преклонил колено. – …после мая трибуном дворцовой гвардии… и даже трибуном личного отряда комеса! – воскликнул он со взрывом радостной благодарности.
– Хорошая у тебя память, Андевот. А кто ты ныне?
Больше уже не мог сдерживаться Андевот. Изо всех сил грохнул мощными кулаками в панцирь на груди, распираемой счастьем и гордостью.
– Нынче я комес!.. Соратник непобедимого…
– Солгал ты, Андевот. Ныне ты уже не соратник, а друг Аэция…
И положив ему ладонь на плечо, добавил:
– Отберешь триста человек…
– Ты сказал, господин…
– Но ни одного гунна…
Большие голубые глаза Андевота чуть не вылезли на лоб от удивления.
– Лучше одних готов… из дворцовой гвардии… тех, у кого жены и дети живут в Равенне…
– Твоя воля, господин…
– Но таких… знаешь?.. Самых надежных… Каждому дашь по три золотых… И по кувшину вина. И ныне же…
– Ныне же, господин…
– Отправишься с ними в Равенну. Найдешь там Астурия. Ты знаешь, где его искать. И скажешь ему: «Пора».
– Я скажу: «Пора».
Вторая ладонь Аэция легла на второе плечо Андевота.
– Я знаю, что вы с Астурием любите друг друга, но все равно поклянись мне, друг, что во всем, что он тебе скажет, ты будешь слушаться его так, как будто это приказал я… Клянись мне в этом самым дорогим и святым для тебя…
Андевот поднял к небу огненноволосую голову, красное лицо и большие голубые глаза.
– Клянусь, – сказал он, – клянусь тем, что в кровавом бою я паду, защищая твою жизнь, о непобедимый, клянусь тем…
8
Диакона Грунита разбудила острая боль выше левого колена. Удивленный, он сел на постели. И вдруг ощутил такую же боль в лодыжке, но уже на правой ноге. Он прикоснулся к больному месту, почесал его и почувствовал невыразимое облегчение. Снова лег. И снова боль – как будто что-то укололо его повыше крестца. А лодыжка ужасно зудела, там, где он почесал. И снова укол в живот. Он вскочил. Быстро снял со стены тускло светившую лампаду и поднес ее к самой постели. Все понятно! По полосатой ткани, которой он укрывался, огромными прыжками мечется черная точка. Резким движением ухватил он покрывало: черная точка исчезла. Но только Грунит успел поставить светильник рядом с постелью и вытянуться под покрывалом, как снова почувствовал боль, на этот раз в локте. Он начал чесаться – все быстрее, все сильнее: локоть, повыше крестца, живот… Страшный зуд и тут же новый укус в плечо. Ему казалось, что он задохнется от неожиданно подкатившей к горлу ярости. Он схватил левой рукой светильник, а трясущуюся правую, точно боевой топор, обрушил на постель. Из-под пальцев взвилось в воздух черное пятнышко и миг спустя упало на изголовье. И тут-то одеревеневшие, сильные, хищные пальцы кинулись к изголовью: черная точка издевательски и торжествующе отлетела к ноге. Пальцы к ноге – черная точка перескочила на живот. Но Грунит не прекратил охоты: скрипя зубами, обострив все мысли и чувства, он преследует ненавистного врага… шлепает всей ладонью по впалому животу, больно щиплет за бедро, ломает об себя в преждевременной радости ногти, пока не настигает врага в ногах постели; точно обрушивающейся скалой, накрывает он его распростертой ладонью, ошеломляет, ранит, сковывает движения… и только потом с радостным блеском глаз берет хищными пальцами… самозабвенно, медленно сдавливает ногти и убивает… расплющивает… уничтожает… А через минуту плачет.
Ведь он всегда был такой гордый и счастливый от того, что никогда даже самую ничтожную божью тварь не убил… не поранил… не обидел! И почитал это такой великой заслугой своей перед милосердным Христом! И что же оказалось?… Вот почему он был такой добрый, такой милосердный, вот почему так заботился, чтобы никому и ничему не причинить обиды: потому что сам ни от кого обиды не испытал, ибо никто никогда его не обижал, никто не был его врагом…
«Воистину, легко быть тогда добрым и милосердным, – шепчет он про себя, сотрясаясь от рыданий, – но пусть только явится враг – бедная, маленькая, беззащитная тварь… пусть только укусит доброго, милосердного Грунита, и что? – яко хищник, яко язычник, яко сатана кидается он с яростью на врага… пышет весь ненавистью, преследует, загоняет, борется, а потом терзает… терзает… терзает…»
Он вскакивает с постели, падает на колени, бьет себя в обнаженную грудь.
– Прости, господи… Смилуйся… – трясется он всем телом. А ведь как же?.. Не трудно догадаться: причини какой-нибудь человек ему обиду – и вот уже срывается милосердный слуга Христов, хватает меч или копье и убивает… убивает человека!
Разве не медлил он предостеречь об опасности патриция Феликса, поелику тот убил его друга Тита?.. А если это так, то кто знает, не пожелал ли бы он прямо смерти Феликсу, если бы не друга, а его самого тяжело поранил патриций! Слезы потоком льются из глаз диакона: как же далеко человеку до совершенства Христова!..
Неожиданно он перестает плакать и начинает размышлять о Феликсе и о всех этих странных делах. Погоди… когда же это было? Да, да, уже целая октава прошла с того вечера, когда, запыхавшийся, обливающийся потом, вбежал он в инсулу патриция, велел провести себя пред обличив патриция и, не глядя в глаза человеку, который убил Тита, залпом выдохнул из себя: «Сиятельный, тебя хотят убить… Аэций посягает на твою жизнь». А Феликс рассмеялся тогда и сказал: «Благодарю тебя, юноша… меня хотели убить, но уж не хотят…» И дал ему полный кошель серебра. Грунит взял его и на другой день перед церковью святой Агаты раздал силиквы нищим.
Да, уже октава. Пятый день пошел с того вечера, когда он неожиданно встретил юношу, который приходил от Аэция с недобрыми словами к епископу. Он и сам не знает, что его тогда толкнуло подойти к нему и сказать: «Истинным Христовым словом благодарю тебя, господине, за то, что отказался от злых мыслей против патриция Феликса». А тот мгновенно как-то переменился в лице и сказал: «Не понимаю твоих слов… и вовсе тебя не знаю…» Тогда улыбнулся лучисто Грунит и сказал: «Я все знаю. Это меня святой епископ посылал предостеречь патриция». А тот больше ничего не сказал, только как-то странно посмотрел на него и пошел…
К концу подходит чудесная майская ночь. Но Грунит не чувствует ее волшебства и даже не подозревает о нем – прежде, чем одеться, он хочет закончить молитву, свою собственную, самим сложенную:
– Сделай так, милосердный господи, чтобы недостойный из слуг твоих воистину мог сотворить что-то во имя твоей любви к человеку… Аминь. Аминь. Аминь.
9
– Едет, едет! – прервал наконец тишину ожидания чей-то далекий голос.
– Едет, едет! – загудело в колышущейся у подножия храма толпе.
Центурионы дали знак: вся prima schola scutariorum [42]42
Первое отделение щитоносцев (лат.).
[Закрыть]– пять сотен рослых юношей – одновременно застучала остриями коротких мечей о гулкую бронзу крепких щитов. И тут же отозвалась secunda schola spathariorum [43]43
Второе отделение меченосцев (лат.).
[Закрыть], длинные копья с резким звоном ударились в сердцевины маленьких круглых щитов. Выстроенные же на ступенях церкви когорты дворцовой гвардии выдохнули из закованных в мрачную тайну грудей оглушительный «баритус», который прозвучал совсем невинно и мягко, как невинным и мягким был этот купающийся в солнечных лучах господний день, последний перед июньскими календами.
Приближался патриций империи.
Сначала над толпой выросли длинные копья букцилляриев [44]44
Личная охрана сановников.
[Закрыть], сверкающие настоящим золотом в лучах предполуденного солнца. Потом прошел белый клин скороходов, надвое рассекая черную колышущуюся массу, открыв глазам выстроенных у церкви солдат кортеж патриция, сверкающий золотом, серебром, пурпуром и белизной. В первой квадриге ехал знатный и прославленный сенатор Петроний Максим, в другой – приятель Феликса молодой Квадрациан, в третьей колеснице, запряженной четверкой молочно-белых коней, следовал сам патриций с женой своей Падузией.
Невыразимое волшебство упоительной майской ночи – волшебство, которого диакон Грунит даже не заметил и которого не сознавал, – так околдовало скромную, тихую жену Феликса, что она сама вдруг стала подобна этой ночи, столь же упоительной, полной невыразимого очарования, пышущая желанием и наслаждением… словно ночь, смелая в наготе своей и щедрая в расточении всех своих прелестей… словно ночь настойчивая, неутомимая, все заполняющая собой. Пятый год пошел с той поры, как впервые познали они друг друга на брачном ложе, и вот обоим, Феликсу и Падузии, показалось вдруг, что до этой ночи они совсем не знали, что такое любовь. Когда же последние серые тени стыдливо рассеялись перед первым натиском дня, изумленным глазам патриция показалось, что не живое, так хорошо знакомое ему и так недооцениваемое столько лет тело жены покоится на широком супружеском ложе, а чудесное изваяние из розового мрамора, изумительное, хотя и грешное творение языческого художника, неожиданно поднесенное в дар ему и теперь вобравшее в себя все лучи столь же, как и Феликс, восхищенного неожиданным зрелищем солнца. Никогда он не предполагал, что жена его так прекрасна! И когда она выразила желание сопровождать его в церковь, он тут же согласился, хотя вообще-то был против того, чтобы высоких сановников сопровождали при торжественных выездах женщины, пусть даже в законе господнем состоящие с ними!
Но в этот день он сам того захотел: пусть все сиятельные… все войско… вся Равенна убедятся, как прекрасна его Падузия!.. Да, пусть увидят и пусть почтут жену патриция! Но он тут же заинтересовался, почему, собственно, она хочет отправиться вместе с ним в церковь, и вдруг почувствовал искреннее волнение, когда она самым серьезным голосом ответила:
– Я хочу чувствовать, что ты рядом со мной, в ту минуту, когда я буду горячо благодарить господа нашего Христа за то, что он в Кане благословил и чудом освятил связь мужчины с женщиной…
И вот тогда, пожалуй, впервые в жизни Констанций Феликс растроганно и благоговейно поцеловал руку своей жены.
Отправляясь в базилику, оба нарядились как можно роскошнее, в самые торжественные облачения: омытое, умащенное и обрызганное благовониями тело Феликса сначала покрыла богатая, вышитая пальмовыми ветвями туника, на которую ловкие руки слуг накинули златотканное шелковое платье без рукавов далматинского покроя, в то время как раз начинающее свою победную борьбу со всеми разновидностями староримской тоги. Единственным украшением такого одеяния были клави – длинные полосы, обычно темных тонов, идущие от плеч до самого низа, где сливались с оторочкой того же самого цвета. Клави на далматике Феликса были пурпурные, такого же цвета были и высоко зашнурованные башмаки, плотно охватывающие всю ступню и половину щиколоток.
Падузия надела пеплум цвета неочищенного миндаля и чудесное сапфировое верхнее облачение, отороченное двумя рядами серебряных колечек, в каждом из которых помещались три сердца, обращенные друг к другу острыми концами. Вблизи каждое сердце напоминало готового вспорхнуть голубка, а острые концы – целующиеся клювики. На ноги жена патриция надела скромные темные сандалии.
– Ты будешь выглядеть, как умбрийская крестьянка! – с удивлением и гневом воскликнул Феликс.
– Вот увидишь, – рассмеялась Падузия.
Действительно, через минуту он вновь с удивлением смотрел на ноги жены: скромные ремешки сандалий и уродливо прошитые подошвы совершенно скрывались в складках длинного пеплума; виднелись только пальцы, но и они тут же утонули в сверкании золота и драгоценных разноцветных камней – так как на каждый палец Падузия надела по меньшей мере по два кольца. Да и ногти как будто никак не подчеркивали непристойной благородным женщинам наготы ног, каждый из них был искусно выхолен и выкрашен под цвет камня на кольце.
В базилику Феликс отправился в наилучшем настроении: Астурия он так больше и не видал, но испанец все еще сносился с ним через доверенного варвара и не только неоднократно уверял его, что патрицию ничего не грозит от людей Аэция до возвращения самого командующего из Галлии, но даже назначил день – июньские ноны, когда Аэций, буде удачно закончит войну с готами, хотел бы встретиться с патрицием, но не в Равенне, а в Медиолане [45]45
Современный Милан.
[Закрыть]с тем чтобы обдумать пути и средства совместной защиты от гнева Плацидии, который рано или поздно обрушится на Феликса, хотя бы известные письма и не были преданы огласке… Дело с письмами больше всего тревожило патриция, поэтому он почувствовал себя полностью успокоенным и счастливым, когда доверенный Астурия разрешил ему на расстоянии пяти шагов вглядеться в черные таблички, на которых он с невыразимой радостью прочитал собственное письмо, и прежде всего жирно подчеркнутые слова о деле Бонифация, могущие в любой момент бесповоротно погубить его. С минуту он раздумывал, не броситься ли на посланца с мизерикордией, но тот, читая его мысли, с приятной улыбкой заявил, что стоит ему сделать шаг или повысить голос, что может привлечь слуг, – и патриций тут же поплатится жизнью, а кроме того, славный Астурий будет ждать своего посланца только до захода солнца, а если тот к назначенному времени не вернется, то немедля отправится в священный дворец еще с одним письмом, о котором сиятельный муж, кажется, забыл. Как бы то ни было, Феликс изведал чувство невыразимого облегчения, убедившись, что Астурий сдержал свою клятву; но, чтобы окончательно обезопасить себя от Аэциевых людей, он как раз в канун последнего в мае господнего дня переслал Астурию известие, что, согласно со своим торжественным обязательством, он взял голос на императорском совете, выразив желание отказаться от сана патриция и назвав в качестве своего преемника Аэция. Он говорил правду, но не сказал всей правды: он не счел нужным уведомить Астурия, что, как только он начал свое слово, Плацидия строгим голосом велела ему замолчать, заявив, что никогда не согласится на его отставку, наоборот, она считает его единственным достойным носить этот сан именно за великие заслуги, которые он принес империи, а в качестве первой и самой важной назвала отторжение от гуннов Валерии. «Во всяком случае, – закончила она, – не Аэцию быть твоим преемником, светлейший».
Последняя октава принесла еще одно событие огромного значения: сближение патриция Феликса с епископом Эгзуперанцием, коих даже сама Плацидия не могла доселе примирить. Обрадованный и тронутый предостережением, которое прислал ему с молодым диаконом епископ-враг, патриций на следующий же день отправился к Эгзуперанцию, чтобы лично поблагодарить его, а одновременно и рассеять его опасения и, если удастся, выведать, откуда епископ знает о намерениях Аэция. Эгзуперанций ни единым словом не обмолвился, от кого и как узнал о грозящей Феликсу опасности, но Христом богом заклинал своего недавнего врага, чтобы тот остерегался, так как не склонен был верить полным веселости заверениям патриция, что опасность уже миновала. Феликс во всеуслышание выразил раскаяние в том, что по служил причиной смерти диакона Тита, и торжественно пообещал поставить ему богатое мраморное надгробие, выложенное золотыми плитами, епископ же согласился отслужить в ближайший господний день молебен – с благодарением и с молением, дабы торжественно отметить великое примирение: благодарение именно за примирение, а моление о том, чтобы Христос отвратил всякую опасность, каковая еще могла грозить патрицию империи. Желая отблагодарить епископа, Феликс выразил пожелание, чтобы молебен был двукратно благодарственный и моление тоже было двукратное, ибо Христа надлежало благодарить еще и за то, что здоровье святого епископа Эгзуперанция вдруг улучшилось; молить же его следовало о даровании победы над еретическим королем готов, о войне с которым вот уже длительное время в Равенну не поступало никаких сведений.
Услышав приветственный лязг оружия и все нарастающие крики: «Едет! Едет!», епископ Эгзуперанций медленным, величественным шагом в окружении священников и диаконов двинулся к пропилею базилики, где уже толпились многочисленные сановники и сенаторы. Возгласы: «Едет! Едет!» – сменились радостными выкриками:
– Ave, vir gloriosissime! Ave, Felix! Ave!.. Ave!.. Ave!..
В пропилей Урсианской базилики вело около пятнадцати ступеней, застланных по случаю примирительного торжества пурпурной тканью. Еще во время первого визита Феликса к епископу было решено, что Эгзуперанций приветствует патриция на половине лестницы, но не сразу спустится на эту восьмую или седьмую ступень, чтобы там ждать, пока приблизится патриций империи, а будет находиться у пропилея до той минуты, когда патриций сойдет с колесницы и поставит ногу на первую ступень: тогда они пойдут навстречу друг другу, и каждой ступени, пройденной Феликсом, должна соответствовать ступень, пройденная епископом.
В этом приветственном сошествии до половины лестницы епископа должны были сопровождать священники Иоанн и Петр, прославленный оратор. Феликс же один должен был взойти по ступеням и поцеловать крест, который ему поднесет к губам Эгзуперанций. И только после того, когда в сопровождении ожидающего его перед пропилеем префекта претория патриций войдет в перистиль базилики, на лестницу смогут подняться знатные мужи из его свиты. Поэтому удивление и недовольство епископа не имело границ, когда он увидел рядом с Феликсом стройную фигуру молодой красивой женщины. Он сразу сообразил, что это законная жена патриция, но это отнюдь не уменьшило его недовольства. Что же теперь делать? Как поступить? Дать и ей крест для целования?.. Но приличествует ли вообще, чтобы епископ сходил навстречу женщине, которая не является императрицей и вообще не принадлежит к императорской фамилии? Он кинул беспомощный взгляд на священников Петра и Иоанна и прочитал в их глазах немую тревогу и чуть ли не возмущение: весь столь обстоятельно продуманный до последних мелочей церемониал был бесповоротно нарушен!
Пока епископ раздумывал, как поступить, Феликс уже поднялся на третью ступень лестницы, Эгзуперанций же неподвижно стоял под пропилеем. Но растущее с каждой минутой беспокойство перешло в настоящее замешательство, когда сиятельный патриций неожиданно сделал прыжок сразу через четыре ступени и, забыв обо всем, даже о жене, вбежал между шеренгами доместиков и схватил за плечи высокого, стройного комеса, лицо которого до половины было прикрыто широкими крыльями шлема.
– Смотрите… это Андевот! Комес Андевот! – воскликнул он с величайшим изумлением. – Как же так? Ведь ты же в Галлии… С Аэцием… На войне с готами…
И вдруг что-то вспомнил, от чего его красивое лицо сразу покрылось землистой сетью уродливых мелких морщин.
– Ты жив? Жив? – закричал он в ужасной тревоге. – А говорили, что погиб… еще зимой… Астурий говорил… Астурий…
Он не закончил. Андевот резким движением вырвал плечо из его руки и, прежде чем Феликс успел закрыться, сильным ударом в живот отбросил его прямо на неожиданно обнажившиеся мечи солдат. На пурпурную ткань брызнула пурпурная кровь. Падузия испустила пронзительный крик, но крик этот тут же утонул в мощном, звонком, бронзовом голосе, который издали пять сотен мечей, ударившись о большие щиты. И тут резким звоном ответили скутариям спатарии. Отчаянно продирающаяся сквозь шеренгу доместиков Падузия не услышала стонов убиваемого мужа.
Последним увидел Феликс смуглое лицо комеса Астурия. Испанец стоял на верху лестницы и, размахивая обнаженным мечом, что-то угрожающе кричал мечущимся с перепугу священнослужителям и сановникам. Остатком сил Феликс попытался подтянуться: только бы доползти до Астурия… Он спасет… Он знает… Он один только знает!
Новый сильный удар по голове – и струя горячей крови заливает все лицо, один глаз, другой… Ничего уже не видит патриций Феликс…
Но зато все видит диакон Грунит. И как спатарии обрушились на напирающую с воплями толпу… и как тщетно пытается закрыть своим телом лежащего патриция прибывшая с ним женщина… и как священники и знать в тревоге прячутся в перистиль базилики, где тут же за порогом без сознания падает на каменный пол епископ Эгзуперанций… Солдаты с обнаженными мечами бегут по лестнице, чтобы ворваться в церковь, но юноша, который приходил от Аэция к епископу, удерживает их одним коротким:
– Стой!
Сильные руки священника Иоанна заботливо пытаются втащить Грунита в базилику. Но тщедушный диакон с огромной силой, какой он от себя никогда не ожидал, резко отталкивает почтенного священнослужителя и кидается между солдатами. Не успев даже понять, чего хочет, он уже заслоняет своим телом Ахава, Навуходоносора, преследователя слуг божьих, убийцу Тита… Он не знает, жив ли еще Феликс, но отсюда он не уйдет…
– Ведь правда, Иисусе, ты не дашь мне отсюда уйти?!
Первый удар… Как сквозь туман, видит Грунит рядом чье-то окровавленное, искаженное звериным страхом и болью лицо… видит широко раскрытый рот, высунутый язык… но ничего не слышит: приветственным звоном оружия все еще перекликаются скутарии и спатарии. Окровавленная фигура опускается на недвижно лежащее рядом тело – судорожно растопыренные пальцы накрывают руку диакона. Впервые в жизни прикоснулся Грунит к руке женщины. Самозабвенно закрывая гибнущего, столкнулись неожиданно любовь женщины и Христова любовь к ближнему, да так и замерли в коснеющем объятии. Огромный гот занес над головой Грунита франконский топор, но тут его привел в замешательство вид священнической одежды… Обезумевший, но ничего не понимающий, преданный взгляд – взгляд пса – устремлен к стоящему неподалеку Астурию. Испанец смотрит на распростертую над трупом Феликса пару и припоминает вдруг слова: «Я все знаю. Ведь это меня посылал с предостережением святой епископ» – и радостно кричит готу:
– Добей!
Последнее, что на этом свете видит и слышит диакон Грунит, – это Астурий, вскинутый десятками рук над бурным морем голов, кричащий оглушительным, поистине нечеловеческим голосом:
– Солдаты! Друзья! Изменник и трус Феликс хотел убить Аэция! Вы спасли непобедимого!..
И хотя раскрытые глаза диакона уже никогда не отвратятся от западной стороны форума, откуда доносится наибольший шум, они не увидят, как Астурий плывет в воздухе над тысячами голов к восточной стороне. Доместики передают его спатариям, спатарии – скутариям, до того места, где сверкающая граница щитов и копей отделяет солдат от черной воющей массы. К этой черной массе обращены его слова.
– Граждане Равенны!.. Гнусный патриций Феликс хотел убить единственного защитника империи… гордость Италии… преданнейшего слугу Плацидии – Аэция!
Рядом с Астурием вырастает внезапно огненная голова Андевота.
– Благородные равеннцы! – кричит он. – Я вернулся из Галлии, страшная сила готов угрожала империи… Они мчались, как буря…
– Как лавина в Альпах!.. – кричит Астурий.
– Как лавина! – повторяет Андевот. – Они уничтожали все на своем пути… поля, виноградники, села, города… Они приближались к границам Италии! Были близки от Равенны!
Молниеносно беспорядочный шум сменяется приглушенным ропотом беспокойства. На толпу спадает тревога совсем иного рода, чем та, которую вызвала весть об убийстве Феликса.
Царящие над толпой Астурий и Андевот выжидают минуту, пока беспокойный ропот не растечется с форума по узким уличкам, и только тогда, радостно вскидывая к небу руки, Астурий снова до боли напрягает голос:
– Равеннцы! Италийцы!.. Возблагодарите Христа!.. Аэций вас спас… он разгромил готов… вырвал у врагов бедную Галлию… и еще раз спас Италию…
– Слава Аэцию! – взлетает чей-то одинокий голос.
– Слава ему! – ревут спатарии, скутарии и доместики, они повторяют этот возглас, пока его не подхватывают десятки, сотни, тысячи голосов.
– Аэций благодарит вас, жители Равенны! – остатками сил исторгает из себя эти слова Астурий. – Он стоит под Равенной… вот уже три дня! И не входил в город, потому что знал: здесь ему грозит убийство из-за угла! Граждане, неужели мы не выйдем все как один вознести благодарность Аэцию за победу… за спасение?!.. Уверить его, что ему теперь нечего опасаться?!.
Плацидия не плачет. Горестно стиснув губы, она вглядывается в лежащие у ее ног тела. Красивое лицо Феликса теперь превращено в сплошную ужасную липкую кашу. У Падузии разорван рот до самого уха – на руках и на ногах ни одного пальца: все двадцать отрублены вместе с кольцами. Отрублена ровно и умело левая грудь – нет сомнений, над нею глумились уже после смерти. И только диакон Грунит, кажется, беззаботно и спокойно спит. Плацидия с трудом отрывает взгляд от полунагих останков и с бешенством и презрением смотрит на лица сановников, бледные, белые, как их тоги.
– Трусы! – бросает она им в лицо. – Трусы и предатели!
Сановники молчат.
О церемониале забыли, будто он никогда и не существовал. Старый Леонтей с громким топотом вбегает в комнату. Сразу же за ним входят Астурий и Андевот.








