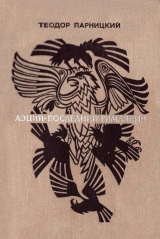
Текст книги "Аэций, последний римлянин"
Автор книги: Теодор Парницкий
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц)
Аэций не отвечает. Только гладит широкой шершавой рукой седые материны волосы. Он думает об ужасной смерти отца. Жаль его, но разве он не привык у гуннов к вещам куда страшнее?.. К зрелищу насильственной смерти еще более жестокой?.. Так что мысль быстро отрывается от смерти отца и начинает кружить вокруг государственных дел. Столько перемен произошло в Западной империи за время его пребывания у гуннов: Флавии Констанций женился на вернувшейся от готов императорской сестре Плацидии и сам стал императором, соправителем Гонория – чтобы умереть после неполных восьми месяцев правления. При дворе в Равенне шептались еще недавно о неких преступных отношениях между императорской родней, но теперь любой иудей на Альта Семита знает, что враждуют Гонорий и Плацидия и борьба обещает быть серьезной. Что делать?.. Чем заняться?.. На чью сторону встать?.. Вот что главным образом занимает мысли прибывшего от гуннов Аэция. Вернуться в армию?.. Командующий Криспин не был приятелем отца – ну и не надо пока в армию! Подождать, поглядеть – наверняка наступят какие-нибудь важные перемены… Император пухнет от водянки… Лучше всего войти в соглашение с примикирием Иоанном, секретарем императора Гонория, он ведь был всегда в хороших отношениях с отцом и вроде бы любил молодого Аэция… Итак, вечером он прикажет доставить себя к Иоанну… а теперь он хочет есть и спать… Хотел еще женщину, но ее он уже имел…
Вжавшись в угол атрия, дочь Карпилия с удивлением, страхом и глухой ненавистью смотрит на наконец-то возвращенного ей, спустя столько лет, супруга, по которому она так тосковала. Иисусе Христе, как страшно изменился ее Аэций! В светло-голубых глазах еще не высохли слезы. Судорожно сжимаются кулаки. Как он смел?! Как он смел?! Не успел войти в гинекей, как тут же, не ожидая, пока она с радостным возгласом повиснет у него на шее, пока покроет поцелуями его губы, лицо, глаза, стал грубо срывать с нее столу… Она гибко выскальзывает из его рук, умоляюще складывает ладони и просит: у нее недомогание, она не может… пусть Аэций потерпит… подождет день, два… ведь она ждала столько лет… столько лет!.. Он ничего не говорит, только сводит брови, стискивает зубы и начинает рвать белую тонкую ткань… Она снова молит его, плачет… пусть он выслушает ее… ведь она сама тоже жаждет… столько наждалась… Но он не слушает, обнажает ее грудь, живот, бедра… Нет, нет, Аэций! Она вырывается, задыхаясь от обиды и гнева, но все еще пытается сохранить спокойствие… улыбается сквозь слезы… подставляет под его губы свою руку… И вот тут-то он ее ударил. Неужели это не во сне?.. Она чувствует ужасную боль в руке, но неужели это возможно?.. В голове мелькнуло: «Поцелую руку твою – как будто сто мужей убил…» А удары сыплются на руки, на плечи, на обнаженную грудь… Дочь Карпилия ничего не знает о том, как усмиряют женщин гунны! Она плачет. А он уже несет ее на ложе и через минуту утоляет свое желание ее телом, все еще таким молодым, упругим и прекрасным.
Посреди атрия у водоема тихо сидит голубоглазый светловолосый мальчик с тонким патрицианским профилем, но с широко расставленными, уродливо торчащими гауденциевыми скулами. Ему грустно, и он еле сдерживается, чтобы не разразиться громким плачем. Он не только чувствует, что между матерью и отцом произошло что-то нехорошее, да еще как-то иначе представлял себе этого любимого, невиденного отца!.. Он не сопротивляется, когда Аэций протягивает к нему руки, но и не отвечает улыбкой на широкую, искренне радостную улыбку отца.
Личико его хмурится даже тогда, когда сильные руки вскидывают его, как перышко, высоко над отцовской головой и приятно покачивают в ритм плеска фонтана.
– Что ты собираешься делать? – слышится голос матери Аэция.
– Есть и спать…
– Я не об этом… Что вообще думаешь делать?..
Аэций пожимает плечами. Не следует поверять женщине своих мыслей. Но мать смотрит на него вопросительно и с каким-то беспокойством, поэтому он бросает:
– Может быть, стану чиновником у префекта! – И снова покачивает мальчика, теперь уже ниже, у самой груди.
Голос матери снова вызывает картину смерти отца, а потом зрелище висельников, среди которых, как всегда бывает при подавлении военных бунтов, по крайней мере половина – совершенно невиновные люди… А грека не повесили… понятное дело… Так всегда бывает…
И неожиданно его как будто осеняет. Теперь он знает, что его так радовало в ту ночь у шатра Ругилы. Сейчас он осознал, что тогда постиг – но не смог выразить – ту правду о жизни… правду, которую чувствовали и, так же как он, не могли облечь в слова тысячи и тысячи гуннов у бесчисленных, как звезды, костров. Аэций рывком прижимает мальчика к своей груди и шепотом, чтобы женщины не подслушали, говорит ему на ухо, хотя и знает, что мальчик почти ничего из этого не поймет:
– Вся жизнь – это охота, Карпилий, сынок мой… неустанная, безжалостная охота… Не будешь сам охотником, тут же станут на тебя охотиться другие, затравят, загрызут… Так что лучше самому охотиться и самому травить, грызть, душить… Будь же всегда готов к охоте… всегда будь сильный… всегда настороже, хищный, безжалостный… Никому не позволь вырвать у себя победу, иначе – смерть… А победа – это радость, упоение, счастье… Всегда побеждай!..
Борьба с женщиной

1
Целых пятнадцать веков потребуется истории для того, чтобы вновь сложилась (только сейчас… именно сейчас… на твой и мой, читатель, взгляд!) эпоха, столь же великая, столь же переходная и чреватая столь же блистательными последствиями, как та, когда с треском и грохотом рушились, обращаясь в развалины, римское государство и pax romana [16]16
Римский мир (лат.).
[Закрыть], погребая под собой весь античный мир и его душу, которых не могло уже спасти мощное впрыскивание нового «чудотворного» средства – христианства. Пятнадцать веков – это тысяча пятьсот лет по триста шестьдесят пять двадцатичетырехчасовых дней каждый! А каждый час – это три тысячи шестьсот секунд, и столько же ударов человеческого сердца, и столько же тихих ударов часов истории! Воплощения могучего духа, величайшие сердца и пытливейшие умы этого столь отдаленного от нас и столь сходного с нашим времени отлично понимали величие и громадную историческую роль своей эпохи: и не раз, ничего не ожидая для себя и мира либо, наоборот, ожидая очень многого, и притом такого, чего минувшие времена не в состоянии были дать, – без сожаления посвящали долгие десятки лет жизни постижению сути, смысла и цели свершающихся перемен и переломов.
Но красивая, хотя не очень молодая женщина, которая упоительной майской ночью 425 года (или – как она сама привыкла считать – 5933 года от сотворения мира) сидела в библиотеке епископского дома в Аквилее, склонившись над толстыми фолиантами, казалось, совершенно не интересовалась сутью, смыслом и целью великих, переломных, навсегда возвышеннейших деяний, хотя и сама rerum gestarum magna pars fuit [17]17
…играла важную роль в этих исторических деяниях (лат.).
[Закрыть]. Оглушительным голосом взывали к ней со страниц глубочайшие, блистательнейшие, оригинальнейшие мысли эпохи, на листах этих щитоносцы и меченосцы божьего царства вели титанический бой с когортами слуг царства тьмы, и – как гордую римлянку и набожную христианку – должны были бы занимать размышления, почему бог, которого она чтит, хочет, чтобы творилось именно так… чтобы на позор и поругание был отдан Рим, великое, могущественное, долгие века неприкосновенное, единое отечество ее и всех этих писателей, но сейчас ее ничуть не трогали ни солидные историографические и литературные конструкции, ни религиозные толкования духа истории. Зато с жадностью поглощала она те страницы «Истории против язычников», написанной в 417 году испанским священником Орозием, где находила свое собственное, изящно выписанное имя или два мужских имени: одно римское, громкое, окруженное ореолом величия… другое трудное, почти смешное, варварское, но куда более дорогое. Когда после долгого перелистывания страниц она находила наконец какое-нибудь из этих трех имен, сердце ее билось быстрее и резче, а несколько выпуклые глаза заволакивались дымкой.
Иногда что-то сердило ее в книге, тогда она откидывала назад хорошо вылепленную темную голову и, постукивая длинными, сужающимися к ногтям пальцами по цветным завитушкам букв, цедила сквозь зубы:
– Лжет… лжет… не так это было.
Потом вдруг умолкала и, не думая уже о книге, жадным ухом ловила доносящееся из-за пурпурной завесы глубокое, ровное, здоровое дыхание двух спящих в соседнем кубикуле детей. С легкостью она различала более тихое и медленное дыхание старшей девочки и быстрое, более громкое, время от времени переходящее в умиляющее ее посапывание, дыхание шестилетнего Плацида Валентиниана, благороднейшего кесаря объединенной Римской империи, который, ничуть не заботясь о своем величии, с удовольствием видел во сне, как он гоняется за чудесными белыми котятами по забитой простолюдьем константинопольской Месе.
Через верхний свет в библиотеку начала пробиваться утренняя серость. Кончалась благоуханная майская ночь – первая ночь отдыха и победного покоя, проведенная, однако, Галлой Плацидией так же бессонно, как и предыдущие ночи, полные трудов, тревог, борьбы и лихорадочной деятельности. Быстро протекли часы, наполненные материнской любовью и пестрым миром воспоминаний, которые нежданно, незванно ярким хороводом потянулись со страниц толстых книг Орозия и до самого рассвета наполняли библиотеку, навязчиво толклись в голове и сердце, спазмами сдавливали горло и выжимали слезы из черных, слегка выпуклых глаз. И все они жили буйной жизнью времен и людей, которых уже нет… от которых ничего не осталось, кроме двух стыдливо укрываемых белых волосков на висках и цветных знаков в книге испанского священника.
Некоторые из этих воспоминаний дерзко мрачны и безжалостно мучительны, горячей волной румянца заливают смуглые, увядающие уже щеки: вот шествует она – сестра императора, дочь великого Феодосия – пленницей в шествии дерзновенного Алариха Балта… Единственно горячая любовь к Христу, которого она боялась оскорбить, удержала ее тогда от того, чтобы не броситься на меч. Правда, позор этот был недолгим: сразу же за Саларийскими воротами ее с почестями усадили в плотно укрытую повозку и сам Атаульф, муж королевской сестры, следил, чтобы ни в чем не преступали церемониала, соответствующего ее достоинству и девичеству.
Атаульф…
Как прекраснейшая музыка, звучит это необычное, дикое, варварское имя… Уже не одни щеки, а все лицо, уши и шею заливает огненный румянец… румянец стыдливый, девичий, как будто она не была дважды вдовой и матерью двоих детей…
Как же это сталось, что гордая римлянка, дочь и сестра римских императоров, внучка Валентиниана согласилась выйти замуж за готского короля, полудикого варвара?.. Воистину чудо из чудес. Перед глазами, как будто это всего лишь позавчера было, встает картина свадебного пиршества в доме Ингена в Нарбоне: вся в белом, сидит она рядом с облаченным в королевский наряд Атаульфом… Вокруг гости – готы и римляне… Аттал, бывший узурпатор, некогда шут в пурпуре и диадеме, жалкое орудие в руках дерзновенного Алариха – поет эпиталаму… Чудо! Чудо!
Но большее чудо то, что, когда на ложе протянул к ней царственный супруг-варвар сильные, сладостные руки, совсем забыла она, что он арианин, еретик, обреченный на адский огонь, и с наслаждением пылала с ним в грешной, пусть супружеской, но из-за различия вер заклейменной любви.
Вот и разгневался на нее Христос: мало ему, видимо, показалось, что ходила босиком по острым каменьям… что стояла на коленях ночи напролет на холодном полу… молилась часами… постилась неделями… отнял у нее Атаульфа.
– Да святится воля твоя, господи, – шепчет увядающий рот. – Ты хотел меня уберечь… душу спасти… вызволить из пут грешной любви, разрешить от преступных уз с арианином… Справедливо поступил, господи, и справедливым наказанием было все, что потом ниспослал на меня, но… очень уж это было тяжко!..
Ни воля, ни набожность не могут удержать слез скорби, боли и стыда, которые потоком брызжут при воспоминании о жестокости, учиненной десять лет назад.
Чудесным сентябрьским ранним вечером пошел король Атаульф сам-третей с двумя слугами в свои конюшни взглянуть на новых коней, полученных в дар от муниципии города Барциноны. И вот тут-то подкупленный ненавистным родом Сара тайный убийца – лукавый слуга Доббий ударил сзади короля ножом в бок. Потом второй раз и третий. Сколько раз предостерегала Плацидия своего супруга: берегись змеиного племени Сара, – но не слушал, не верил, смеялся… И вот теперь брата Сарова Сигериха поднимают воины на щитах: слава новому королю готов!.. слава тому, кто не хочет мира с римлянами… кто поведет нас, как Аларих, на Италию… на Рим!.. Сигерих врывается в королевский дом, с диким радостным воплем выдирает из объятий епископа Зигесара пасынков Плацидии и жестоко убивает их на ее глазах… а потом и ее выгоняет на улицу… бьет… срывает одежды… одетую в мешковину, привязывает к своему коню и подгоняет бичом… Как же тяжко, хоть и справедливо, казнил ее за грешную любовь к еретику божественный Христос!!
Под тяжестью скорбных воспоминаний камнем опадает на увядшую грудь красивая Феодосиева голова, почти касаясь разгоряченным лицом холодных, бесстрастных страниц, украшенных разноцветными завитушками букв. Золотые, красные, синие, черные знаки пляшут и скачут перед бессмысленно уставившимися на них глазами – и вдруг замирают, торопливо сбегаются толпами в одно место и послушно выстраиваются в вереницу, приветствующую императрицу, но не громким возгласом, как сделал бы это строй солдат – а спокойным, безмолвным увековечением событий, воспоминание о которых вызывает на ее губах улыбку триумфа, гордости и полного удовлетворения. Случилось так, как и должно было быть! Горе владыкам, на которых отец небесный поднимет карающую длань свою, но стократ горе тем, кто безрассудно отважится на роль орудия божьего отмщения сильным мира сего! Нет таких, кто смог бы безнаказанно поднять святотатственную руку на величие императорской крови, освященной самим Христом: сам Христос сокрушит его, повергнет, уничтожит, только лишь тот перестанет быть ему нужным как орудие кары и воздаяния. Разве не уничтожил он Сигериха?.. Спустя семь дней кончился позор и мучение Плацидии – место Сигериха занял родич Атаульфа, который окружил вдову короля и сестру римского императора всеми положенными ей знаками почета, а вскоре отослал в Италию. Смуглое лицо отстраняется от книги с выражением недовольства: теперь можно бесконечно переворачивать страницы книги и в тысячный раз пробегать жадным взором по бесчисленным вереницам букв, уже не обнаружит она дальше ни разу искусно выписанного имени: Атаульф. Но зато чаще будет повторяться: Констанций – каждый раз с каким-нибудь новым прилагательным: illustris, gloriosissimus fortissimus, Defensor Imperii, Victor, invictus, pius, Dux Ducum, Consul… [18]18
Сиятельный, всеславный, сильнейший защитник империи, победитель, непобедимый, благочестивый, вождь вождей, консул… (лат.).
[Закрыть]
Констанций!
Несмотря на все свое почтение к жреческому сословию, Галла Плацидия не может сдержать навертывающейся на уста ироничной, но вместе с тем снисходительной усмешки: до чего же все-таки не сведущи в делах любви святые мужи, слуги христовы! Но усмешка эта быстро уступает место гневному и презрительному движению бровей: вспомнились вдруг предыдущие страницы… Неправда, неправда! Лжет Орозий, когда пишет, что Атаульф взял ее замуж, чтобы родить сына от дочери императора Феодосия… сына, которого потом возвел бы на римский трон, дабы самовластно править за него всеми земными пределами… Неправда, это не Атаульф, это она мечтала о пурпуре для их сына, а он только уступил ее просьбе. Дороже всякой власти было для него сидеть у ее ног и говорить о своей к ней любви… И разве не говорил он ей в минуты упоения, что стоит только Плацидии пожелать, и он покинет Галлию… выведет свой народ за границы империи и отправится добывать для нее новую империю в диких землях гипербореев – империю трижды обширнее и прекраснее Римской империи! Пусть только пожелает…
Или та война… Вот что вызвало улыбку на ее губах: полное неведение Орозия относительно того, что свирепые воины, которые вели между собой Атаульф и Констанций четыре долгих года, огнем и мечом опустошая Галлию, – это были войны из-за нее! Но этот испанский священник Орозий ничего об этом не знает, ничего не заметил, ничего не понял…
Как-то, еще задолго до нашествия на Рим Алариха, случилось так, что, возвращаясь из церкви со свитой прислуживающих девиц, молоденькая Плацидия, истомленная постом и всенощной молитвой, опустилась вдруг в бессознании на каменный пол. Прислужницы в страхе потеряли голову, и неизвестно, как долго бы лежала она в обмороке, если бы на помощь ей не поспешил молодой солдат, несущий стражу неподалеку от места происшествия. Вернувшись в сознание, Плацидия сочла уместным и не унизительным для ее сана поблагодарить солдата, по различиям которого она поняла, что он недавно окончил школу дворцовой гвардии и должен вскоре получить звание трибуна. Она присмотрелась к нему: большая голова, слишком большая для человека его роста и сложения; лоб очень высокий, крепкий, выпуклый; несколько округлые, точно совиные, глаза и большой ястребиный нос.
– Как твое имя? – спросила она милостиво.
– Констанций, о благороднейшая.
Она удивилась.
– Звучное у тебя имя… слишком звучное…
Он улыбнулся, не разжимая крепко стиснутых губ.
– Из какого ты народа?..
Вопрос этот она задала нехотя: сразу бросилось в глаза, что солдат не принадлежит ни к какому варварскому племени. А он, видимо, почувствовал себя задетым, так как слегка нахмурил черные брови и холодно ответил:
– Я римлянин, как и ты, о благороднейшая.
– Откуда ты?
– Из города Наисса, из Иллирии.
– Чем же я могу тебя вознаградить, Констанций из Наисса? – спросила она уже холодным и высокомерным голосом.
И тогда-то с уст этого солдатишки из Наисса сорвалось святотатство: тихо, тихо, чтобы ни одна из прислужниц не могла услышать, шепнул он с улыбкой:
– Я давно люблю тебя, о благороднейшая… Я хотел бы когда-нибудь жениться на тебе.
Она посинела вся. Она даже не знала, то ли ударить изо всей силы по этому такому дерзкому… такому гордому, такому римскому лицу… то ли кивнуть подошедшим евнухам или пожаловаться брату императору?.. С минуту она стояла неподвижно, задыхаясь от ярости и жажды мести, потом вдруг повернулась на каблуках и пошла, даже не взглянув на наглеца.
И вот тогда единственный раз в жизни принесла Галла Плацидия жертву Христу, поступившись уязвленной гордостью и оскорбленным величием, и хотя задыхалась от ярости и гнева, но пересилила себя, чтобы увенчать проведенную в молитвах ночь величайшим смирением.
Прошли годы, и Констанций из Наисса вырос в первого воина Западной империи. О нем-то – о святотатце и безумце, каким считала его Плацидия, – и писал священник Орозий: Сиятельный. Всеславный. Сильнейший. Защитник империи. Победитель. Непобедимый. Благочестивый. Вождь вождей. Консул…
Помнит Галла Плацидия… Как только исчезли в отдалении последние вестготские воины, она приказала служанке Спадузе поднять завесы, закрывающие повозку, в которой она возвращалась в Италию. Был чудесный раннеапрельский день. На небе ни облачка. Полной грудью вдыхала она упоительный, воздух. И вдруг увидела на востоке сияние тысяч звезд.
– Что это? – воскликнула она, удивленная и испуганная.
– Это копья, шлемы и панцири сверкают на солнце, – объяснил agens in rebus [19]19
Чиновник дворцовой службы (лат.).
[Закрыть]Евплуций, – войско первым хочет встретить благороднейшую Галлу Плацидию.
Длинные сверкающие ряды… Тысячи неподвижных, устремленных на нее, как на алтарь, черных, серых и голубых глаз… Приветственный звон оружия, склоненные значки – золотые орлы и черные драконы… Все это для нее. Нет, для него… Она узнала его сразу – эту большую… слишком большую голову… совиные глаза… стиснутые тонкие губы… ястребиный нос… Стоя впереди первой колонны, окруженный пышной свитой, как будто глядя куда-то далеко вперед себя и не замечая ее присутствия, сидит он на белом коне, в длинном белом плаще, в серебряном панцире – солдатишка из Наисса – Констанций – защитник империи, победитель готов, освободитель Галлии, правая рука императора, а по сути – сам император без пурпура, наивысший правитель… И хотя пока притворяется, что не видит ее, не видит, как она с бьющимся сердцем идет вдоль шеренги, сейчас спрыгнет с коня и, усмехаясь точно так же, как несколько лет назад, скажет:
– Похоже, что я дождался…
И неужели это тоже должно было быть карой твоей, Христос, что в самые январские календы [20]20
Первый день месяца по древнеримскому календарю.
[Закрыть], ровно через три года после нарбонского обручения и нарбонской брачной ночи, стала дочь Феодосия, вдова короля Атаульфа, женой солдата из Наисса?..
Когда они остались одни и Флавий Констанций начал спокойно снимать с себя одежды, Плацидия, которая стояла уже посреди кубикула босая и в одном просторном белом пеплуме, разразилась вдруг плачем и, задыхаясь от бессильной злости, воскликнула:
– Я не люблю тебя… не выношу… напрасны вся твоя смелость и долголетнее упорство… я любила только одного и не забуду его… В твоих объятиях я буду думать о нем… тосковать по нему! Ты говоришь, что любишь меня, а я знаю: ты любишь казарменные попойки с друзьями… Ступай пей пиво и играй в кости… со своими комесами и их подружками… Я не хочу тебя!
Он стоял перед нею почти совсем голый, скрестив руки на груди. Спокойно выждав, когда она, зайдясь от рыданий, не могла уже слова выдавить, он тихо, но отчетливо начал:
– Я знаю, что ты меня не любишь, но я люблю тебя и жажду тебя всегда, и ничуть мне в этом не мешали пирушки с друзьями, игра в кости и вино – что ж делать, я солдат… У меня свои привычки, как у тебя свои воспоминания… И оставайся с ними… Но еще сегодня, вот сейчас, ты станешь моей, потому что я жажду твоего тела и хочу иметь от тебя детей… Так будет, и не оградят тебя от желания моего и моего супружеского права – права, которое я добыл себе мечом и кровью, – тени тысяч даже самых прекрасных варварских королей! Но прежде чем это наступит, прошу тебя, подумай здраво: ты можешь меня не любить, но не лучше ли для нас обоих, чтобы мы жили в согласии?.. Ты дочь величайшего христианского императора, а я подлинный владыка Западной империи: разве есть сила, превосходящая нашу? Не будем же разбивать эту силу, благороднейшая, но совместными усилиями употребим ее разумно к нашей общей, каждого из нас порознь и будущих детей наших славе. Так что будь мне покорна, жена, этой ночью и всегда впредь, и, я клянусь, ты никогда не раскаешься в своей покорности…
И протянул к ней руку, которую Плацидия после минутного колебания пожала ледяными длинными, сужающимися к ногтям пальцами.
И отдавалась ему всю ночь, не получая никакого наслаждения. Тем не менее ночь эта сделала ее матерью.
То, о чем дальше писал Орозий, не интересовало Плацидию: ни то, что поражения и унижения Рима вполне согласны со справедливостью милосердного бога христиан, ни горячая вера писателя-священнослужителя, что бог знает, чего хочет, а хочет он всегда самого благого: так что недалеко уже лучшее и счастливейшее время, которое – как день после ночи – неотвратимо принесет облегчение и радость и мир после ужасных лет завоевания Рима и распада империи. Плацидия вся погрузилась в воспоминания об этих холодных, как мрамор, гордых и величественных, лишенных любви годах своего второго брака, который был вместе с тем началом ее возвышения. Констанций еще дважды получил звание консула, а спустя неполных пять лет после женитьбы достиг полной вершины: стал императором, полноправным соправителем Гонория. Не разочаровалась в муже Плацидия: ей также пожаловали императорский титул, и она стала называться Августой, а детям – титулы благороднейших. Правда, царствующий в Константинополе Феодосий, сын ее покойного брата Аркадия, не хотел признать ни Констанция, ни их детей, но супруги не дали вырвать у себя пурпур. Констанций пугал Феодосия войной.
– Что, этот сын франконки, этот полуварвар смеет отказывать мне в диадеме? – кипел он от гнева, и тогда нос его выгибался еще больше, а выпуклый лоб от сведенных бровей казался еще выше.
Братоубийственная война казалась неотвратимой, но тут неожиданно после неполных восьми месяцев царствования, после краткой, но страшной и непонятной для лекарей болезни умирает Nobilissimus Caesar Imperator Flavius Constantius Tertius, semper Augustus… [21]21
Благороднейший кесарь император Флавий Константин III, бессмертный Август.
[Закрыть]
Умирал он спокойно. Смертельная бледность уже покрывала высокий лоб, большая голова тряслась в предсмертном ознобе, а он еще улыбался и говорил окружающим:
– Рановато немного, но что ж… Я же поднялся так высоко, что выше нельзя… чего же мне еще нужно?.. В хрониках обо мне будут писать: в жилах у меня не было ни капли варварской крови, никаких ересей я не признавал… Отхожу спокойно. Прощай, Плацидия… помни о наших детях.
Она думает о нем с уважением: о солдате, о вожде, о владыке, – но без любви, без тоски и даже без сожаления…
Но зато о том…
Все громче посапывает шестилетний мальчик в соседнем кубикуле. Плацидия какое-то время прислушивается в молчании, потом говорит вполголоса, про себя, но так, будто на самом деле с кем-то разговаривала:
– Вот там твои дети. Констанций из Наисса… Спят, здоровые, счастливые и сами даже не знают, какие сильные… А мой первенец… сын Атаульфа и моей единственной одержимой любви… младенец Феодосий, наследник великой империи и великих чаяний, тлеет в серебряном гробике в церковке под Барциноной…
Большая слеза медленно катится по увядающей щеке.
– Больше я ничем не обязана твоей памяти, Констанций Август… Разве я не отстояла пурпур и диадему для твоего сына?.. Разве я не билась с упорством, яростью и мужеством, равным твоему мужеству и твоей ярости, наиссец?.. А ведь я была одна, почти одинока, когда не стало у нас тебя…
Когда не стало Констанция, для Плацидии и ее детей наступили тяжелые времена. Она поссорилась с братом Гонорием, начала против него борьбу, проиграла ее и вынуждена была бежать из Италии, спасая свободу, а может быть, и жизнь – свою и детей: дочери Гонории и четырехлетнего Валентиниана. Но и тогда еще мера ее несчастий не наполнилась до краев: ждало ее новое унижение. Единственным местом, где она могла укрыться, был императорский двор в Константинополе: тот двор, который отказывался признать императорский титул ее мужа, а детям ее отказывал в правах на пурпур! Сколько раз, мечась в гневе и отчаянье на палубе корабля, которым она бежала из Италии и который наняла на взятые в долг деньги, хотела она уже отверзнуть уста и попросить бога, чтобы тот положил предел ее бедствиям… чтобы наслал бурю и утопил в морской пучине корабль вместе с нею и детьми ее… Но всегда до боли стискивала зубы, убежденная, что еще не время для милостиво дарованного покоя на лоне господнем… что у нее еще долг перед детьми и памятью мужа и что она должна его выполнить, не жалея ничего, не отступая ни перед чем… Последнее, впрочем, далось бы ей без особого труда; одержимость, суровость и жестокость были у нее в крови, а несчастья, через которые она прошла, и кровь, которую вокруг себя так часто видела, сделали ее сердце нечувствительным не только ко всяким проявлениям женской мягкости, но и к голосу милосердия и великодушия, которые не чужды были императору Констанцию. С гневными, до боли стиснутыми губами она готова была снести все, что должно было встретить ее при дворе в Константинополе, – но неожиданно была приятно разочарована. В ее споре с братом император Восточной империи решительно занял сторону Плацидии, а когда Гонорий преждевременно умер от водянки, никем не оплаканный и многими проклинаемый как император, в правление которого Рим познал величайшее унижение, ее племянник Феодосий Второй, император Восточной империи, противопоставил узурпатору западного трона, Иоанну, своего малолетнего двоюродного брата Валентиниана как полноправного наследника великого Феодосия и Гонория; Констанцию же был пожалован титул Августа. Поскольку Иоанн не имел ни малейшего желания отдавать императорскую диадему без борьбы, Константинополь отправил против него войско под водительством алана Ардабура, победителя персов, и сына его Аспара. Плацидия с детьми следовала за войском, готовая даже рискнуть жизнью в этой последней битве за пурпур для сына и за подлинную власть для себя.
В салонском порту на Адриатическом побережье войско было разделено на две части: пехота под началом Ардабура должна была плыть морем к Равенне, где заперся Иоанн; Аспар же во главе конницы, имея под своей опекой Плацидию, императора Валентиниана и Гонорию, отправился сушей через Иллирию и Юлийские Альпы. Хотя Адриатика в это время года была неспокойной, но, поскольку поступило известие, что Иоанн послал гонцов с просьбой о помощи к королю поселившихся над Данубом диких гуннов, следовало спешить: вскоре обе половины войска потеряли друг друга из виду. Плацидия и Аспар благополучно достигли Юлийских Альп и собирались как раз обойти горы с юга, когда пришла страшная весть: буря разметала корабли, Ардабур с горстью солдат сумел высадиться и после краткой неравной схватки без труда был взят в плен. Значит, отступать?.. Вожди были склонны считать, что да, но Плацидия с упорством требовала обрушиться на Италию. Наконец воля ее взяла верх: конница Аспара вторглась в италийскую землю и, оставив Плацидию с детьми в укрепленной Аквилее, изо всех сил устремилась к Равенне. Несколько дней Плацидия не имела никаких известий: это ужасное время, полное неопределенности, она проводила в лихорадочном ожидании, не спала, почти не ела, вызывая смятение в своем окружении неслыхано усилившейся гордой строгостью и болезненным блеском больше обычного выпуклых глаз, что делало ее почти уродливой. Но вот перед домом епископа Августина, где она поселилась, застучали копыта: задыхающийся гонец, хорошо известный Плацидии по нарбонским временам гот Сигизвульт, вбежал в атриум с радостной вестью:
– Иоанна схватили… Аспар и Ардабур ведут его сюда, завтра явятся…
Неописуемая радость воцарилась в Аквилее: из Равенны и даже из далекого Рима, запыхавшиеся, насмерть загнав лучших коней, начали прибывать высшие сановники, чтобы заверить Плацидию в своей преданности и верности, напомнить, что они никогда не хотели признавать Иоанна либо молить о прощении и публично покаяться в бездумном грехе отступничества от законного императорского рода. Закишел людьми обычно сонный город. Приведенного на веревке Иоанна толпа осыпала оскорблениями и каменьями – во всем городе, даже в самых дальних и бедных кварталах с жаром передавали друг другу подробности победы: как Иоанн почему-то не казнил схваченного Ардабура, а даровал ему жизнь, что умно использовал пронырливый варвар, войдя в сговор с комесами и трибунами войск узурпатора, он склонил их перейти на сторону Плацидии. Так что когда конница Аспара неожиданно появилась перед Равенной, приведенная к городу единственной дорогой, которая не была перекрыта войсками Иоанна и которую показал Аспару какой-то пастух («Не пастух это был… ангел господний!» – в восторге восклицали аквилейцы), – после краткого сражения войско покинуло Иоанна, громко приветствуя Плацидию и Валентиниана. Узурпатора, правление которого длилось восемнадцать месяцев, Плацидия приговорила к обычному в таких случаях обезглавливанию, но казни должно было предшествовать публичное посрамление и пытки. Италийские сановники, между ними и верный Плацидии с самого начала префект Рима Глабрион Фауст и comes rerum privatarum [22]22
Секретарь кабинета императора.
[Закрыть]Басе, были возмущены этим приговором. Они восклицали, что римское право не позволяет измывательств над приговоренным к смерти, и называли решение Плацидии прискорбным подражанием варварским обычаям, коими истинный римлянин должен гнушаться. Но Плацидия была неумолима: в Нарбоне и Барциноне первый ее муж не единожды выносил такой приговор; она считала его справедливым в случае величайшего оскорбления трона узурпацией и более устрашающим, нежели безболезненное обезглавливание, – и настояла на своем. После страшных мучений Иоанн был обезглавлен на арене переполненного амфитеатра огромным готом, который, отбросив окровавленный меч, показал воющей от восторга толпе истекающую кровью голову и воскликнул:








