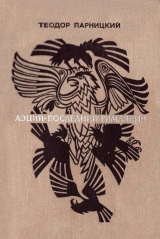
Текст книги "Аэций, последний римлянин"
Автор книги: Теодор Парницкий
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 22 страниц)
Необычное чувство счастья распирает Аэция: трикратное консульство… Торжественное оглашение Гауденция женихом благородной Плацидии… И вот последний римлянин!.. Красиво сказал и, может быть, даже неглупо вывел этот Каризий, но сможет ли это название пережить того, кто его придумал… удаленного за тысячи миль от италийских столиц отшельника?.. Под влиянием панегириков Меробауда у Аэция развилась необычайно сильная забота о бессмертии своей славы… Поэтому он спрашивает Каризия, намерен ли тот огласить свое определение: «последний римлянин»?..
– Ты, может быть, только мне одному хотел это сказать и так, чтобы никто об этом не узнал? – добавляет он, дабы смазать впечатление слишком большого радения о славе.
– Разумеется, оглашу, но только тогда, когда ты совершишь свое величайшее деяние…
– Когда уничтожу вестготов?..
– Когда проживешь долго и долго будешь щитом империи, и я спокойно окончу перевод последней песни… И тогда я в посвящении подробно напишу, чем наследие прошлых веков обязано последнему римлянину…
В атрий быстро входит молодой Майориан.
– Сиятельный, – восклицает он, – король Клодион с тысячами невольников и бесчисленными сокровищами, которые он награбил в городах и виллах над Аксоном, поспешно отступает к Токсандрии… Если мы не догоним его до Камарака, то он будет почти в безопасности на своей земле…
Мгновенно забывает Аэций о Гомере, о том, что он «последний римлянин», обо всем, что говорил Каризий.
– Едем! Ударить в буцины!..
– А ужин? – удивленно спрашивает Каризий.
Аэций улыбается.
– Сегодня мы не будем ужинать… разве что в седле… Майориан, вели забрать всех коней из здешних конюшен! – Молодой посессор смотрит на патриция непонимающим взглядом, как будто ослышался. – Я заплачу тебе, Каризий – поступлю иначе, нежели с другими, – а на обратном пути заеду к тебе с подарком… Но теперь не оставлю ни одного коня… Зато оставлю всех пехотинцев. Да, да, Майориан… Мы берем одну конницу, завтра нам надо догнать Клодиона!.. Будь здоров, Гомер!
– Да хранит тебя Христос, последний римлянин!.. Побеждай!
Аэций с минуту задумчиво смотрит на статную, красивую фигуру Каризия и неожиданно приглушенным голосом (чтобы не услышал стоящий в противоположном углу атрия Майориан) бросает вопрос, которого не задавал себе уже много-много лет:
– А если погибну?..
На губах Каризия появляется улыбка снисходительного превосходства.
– Не погибнешь… Не можешь погибнуть… Ведь я еще не окончил даже четырнадцатой песни…
6
Уже второй день бешено мчат они по просторам бельгийской Галлии – к северу от Виромандов, почти начисто опустошенных огнем, мечом и алчностью варваров. Со времени отъезда от Каризия Аэций ни на минуту не сомкнул глаз и почти не сходил с седла, и вот уже почти десять часов не брал в рот ни пищи, ни вина. В разоренном краю было очень трудно добыть продовольствие, войско начинало испытывать голод и усталость, но это только удваивало скорость и энергию патриция. Прежде чем люди и кони начнут действительно изнемогать, он должен любой ценой настичь франков, и непременно на земле империи, застать врасплох, обрушиться и учинить такой разгром, чтобы они уже были неспособны к дальнейшей борьбе и тут же начали молить о возобновлении мира. Все нужно разрешить в одном сражении: о том, чтобы вести войну хотя бы две недели, не могло быть и речи… Нечем кормить войско, а кроме того, слишком малы при нем силы, чтобы сражаться с целым народом, да еще на его собственной земле… Поэтому он собирался после победы и присяги Клодиона на феод тут же вернуться в плодородные окрестности Лютеции [95]95
Город в лугдунской Галлии (современный Париж).
[Закрыть]правда, в случае разгрома франков войско вместе с пленными и награбленными богатствами захватило бы и продовольствие, но очень мало – ровно столько, чтобы поддержать силы, необходимые для быстрого возвращения… Варвары и сами голодали, Аэций знал об этом и только этим объяснял вылазку Клодиона на Аксону; он не скрывал всей серьезности положения и от своего войска, но вместе с тем дразнил солдат надеждой на сражение, добычу («половину захваченных богатств возьмете себе… только половину я должен вернуть законным владельцам!..»), женщин и однодневное, но зато обильное пиршество. Римских пленных он намеревался отбить, а франков брать в плен запретил: нечем будет кормить!..
На рассвете третьего дня солдатам раздали последние запасы продовольствия.
– Ужин мы должны добыть у франков! – восклицал Аэций, объезжая ряды. – Ужин, а после него приятную ночь с красивыми франконками!
Слегка отдохнув и подкрепившись, начали продираться через чащу Угольного леса. Аэций, с трудом сдерживая волнение, узнал место одной из своих первых побед. Вот тут восемнадцать лет назад начальник дворцовой гвардии разбил юного короля Клодиона!.. И теперь снова обрушится на него… почти в том же самом месте… «Оба мы постарели с тех времен», – подумал патриций.
Сколько же это весен уплыло… Какие перемены произошли… Сколько великих деяний свершено!.. А король франков все тот же, что и тогда… Почему же это так?.. Неужели все дело в Клодионовой малости или, скорей уж, в его, Аэциевом величии, на фоне которого – как говорит в одном панегирике Меробауд, – точно звезды на фоне ночного неба, двигаются маленькие люди и маленькие их делишки… А ведь даже большие, величественные планеты в этой небесной беспредельности кажутся не больше малых звездочек…
Действительно, были и великие планеты… иногда могущественные… Всходили вдруг на небосводе его жизни и потом исчезали навсегда, а он оставался… Отец, Констанций, Ругила, Иоанн, Кастин, Плацидия, Феликс, Бонифаций, Литорий, Сигизвульт, Меробауд… Появляются, исчезают, а он остается… Похоже, что правду говорят бедный, обиженный Меробауд, епископ Леон и тот чудак из Каризиума: он, Аэций, самый великий! И вдруг неизвестно откуда появилась незваная, непрошеная дерзкая мысль, а следом за нею неприятное, почти болезненное чувство: ведь и король Клодион сам себе кажется недвижным, неизменным небосводом, а Аэций на фоне его всходит, будто крошечная звезда… Так всегда и везде: разве не написал какой-то африканский священник историю славного и чистого жития истинно христианского военачальника Бонифация, на фоне жизни которого Аэций, так же как Плацидия и Феликс, – всего лишь звезды на неизменном небосводе?!
Разгоряченная мысль возвращается опять к Клодиону… А может быть, нынче же вечером закатится навсегда планета-Аэций с неизменного небосвода жизни короля франков?..
Он гневно морщит брови. Уже второй раз за последние три дня возникает мысль о смерти. Не сдерживая коня, он поворачивает голову: в каких-нибудь пятидесяти шагах едут за ним Рицимер, Марцеллин и молодой Майориан, сын старого друга Валерия, всего лишь два года служивший трибуном, а потом комесом ауксилариев (перед этим он был в школе телохранителей), а уже покрыт заметной славой. Аэций его очень ценит, но не очень любит. «Лжет ведь Максим, – думает он, глядя на красивого юношу, – будто я завидую его еще быстрейшему продвижению, чем мое, и боюсь, что он затмит мою славу… Пусть только попробует затмить! Хотел бы я посмотреть, как он это сделает… И надо будет спросить Марцеллина, что значат те слова Петрония: «Майориан при Аэции – это молодой Сулла при Марии»… Марий?.. Сулла?.. Это что-то еще до Цезаря…»
Цезарь… Он любит сравнивать себя с ним… И снова неожиданная мысль, а не погибнет ли он, как Цезарь?.. Может, иначе? Резко рванув поводья, он задержал бег коня… Кивнул Марцеллину.
– Послушай, друг, – сказал он тихо, когда тот поровнялся с ним. – Если я сегодня погибну…
В красивых умных глазах Марцеллина отразилось беспредельное изумление.
– Такие, как Аэций, не погибают в сражениях! – ответил он только после долгого молчания тоном глубокой убежденности. – А что случилось, сиятельный?.. Никогда не слышал я таких слов из твоих уст. Ты чувствуешь себя несчастливым, господин?..
– Ничуть… Наоборот… Впервые я подумал, что могу погибнуть, как раз и ту минуту, когда чувствовал себя счастливым, полным радости и гордости…
Какое-то время они ехали молча, глубоко задумавшись.
– Слушай, Марцеллин, – продолжил наконец Аэций. – Знаешь ли ты о том, что после смерти Литория ты мой самый большой, самый дорогой и близкий друг?..
Молодой комес низко склонил голову, почти коснувшись лбом выкрашенной в красный цвет конской гривы.
– Вдвойне счастлив и горд, господин, – сказал он растроганно, – и как Марцеллин и как почитатель старых богов. Чем же мы заслужили такую милость, что патриций христианской империи выбирает себе друзей не из единоверцев?.. Мы уже, право, отвыкли от такой чести…
– Сам не знаю, почему, Марцеллин… Наверное, просто совпадение… А может быть?.. Может быть, вы мне ближе, потому что в вас меньше мягкодушия, чем в христианах… Ты понимаешь меня, друг? Я говорю о мягкости духа, а не сердца. А может, еще и потому, что как-то больше чувствую живущее в вас величие и мощь старого Рима. Разве это не странно, Марцеллин?.. Помнишь памятник Констанция на форуме Траяна?.. Кто его поставил, кто лучше всех осознал и оценил заслуги самого ревностного из христиан? Язычник Симмах! Почему?.. Потому что мысли и заслуги Констанция были обращены на спасение наследия старого Рима… И кто же самые близкие приятели христианского, как бы там ни было, – он улыбнулся, – патриция Аэция?.. Язычники… Почему?.. Может быть, потому, что я – как сказал тут один чудак – последний римлянин…
– Я трижды счастлив, славный муж…
– Гордое и полное хвалы это название: ultimus Romanorum, но ведь я же не последний, – продолжал свою мысль Аэций и вдруг устремил на язычника быстрый проницательный взгляд. – Ты любишь Феодосиев дом, Марцеллин? – спросил он, отчетливо выговаривая каждое слово.
– Я люблю величие Рима и Аэция, – на лету поняв все, так же отчетливо ответил Марцеллин.
Аэций наклонился в седле и положил руку на плечо комеса.
– Поклянись мне, – сказал он тихо, почти шепотом, но ясно и отчетливо, – что, если я нынче погибну, ты проследишь, чтобы Феодосиева кровь сочеталась с Аэциевой, и что после долгой и спокойной жизни Валентиниана Третьего на трон взойдут Плацидия-младшая и государь император Гауденций, бессмертный Август?..
Марцеллин побледнел.
– Да, клянусь, – ответил он несколько дрожащим голосом.
– Гауденций Август… единый император Востока и Запада… Dominus Coniuctissimi Imperi, как говаривала старая Плацидия, – прошептал Аэций. – Ты же, Марцеллин, станешь патрицием объединенной империи… Можешь быть при Гауденции тем, чем я при Валентиниане… и женишь своего племянника на его дочери… Но помни, я никогда не был другом Констанция так, как ты моим…
Марцеллин улыбнулся.
– Аэциева кровь не нуждается в приставленном к трону таком, как ты, патриции… Да если бы мы и хотели, нам не удастся повторить то, что было… В истории – хоть есть в ней и много вещей сходных – в действительности никогда ничто не повторяется… Бег времени нельзя ни удержать, ни обратить вспять…
А через минуту добавил, больше, чем Аэций, понизив голос:
– А при императоре Гауденции Августе вернутся в храмы и сердца старые боги?..
Патриций вздернул коня и быстро рванулся вперед.
– Ты же сам сказал, что бег времени ни удержать, ни обратить вспять, Марцеллин! – воскликнул он, уже не глядя на оставшегося позади друга.
И только когда уже удалился от него на каких-нибудь полстадии, вдруг припомнил что-то, снова придержал коня и, повернувшись в седле, воскликнул:
– Ты знаешь что-нибудь о поэте Гомере, Марцеллин?..
– Это величайший поэт всех времен!..
На вспененном коне подлетел к Аэцию его любимец, трибун ауксилариев Оптила.
– Ave, vir gloriosissime! – воскликнул он срывающимся голосом. – Франки стоят лагерем между рекой Самарой и Деревней Елены… Они не ожидают нас сегодня… Думают, что мы только еще под Бибраксом… Король Клодион справляет свадьбу не то своей племянницы, не то падчерицы… Все пируют, над Самарой никакой стражи…
Аэций выпустил поводья и хлопнул в ладони.
– Так поспешим же на свадьбу! – радостно воскликнул он. – С пожеланиями!.. С подарками!.. С приятными неожиданностями для подружек невесты!.. Быстрей!.. Быстрей!.. Опоздаем на пир и, чего доброго, придется голодными спать с сытыми франконками… Вперед! Вперед!
– Вперед! – повторили комесы, трибуны, препозиты.
– Вперед! – мощно загремел старый Угольный лес.
Аэций оглядывает ряды. Немного войска ведет он за собой, но зато это самые отборные отряды его конницы. Победители готов, норов, бургундов, арморикан, аланов. И никто сейчас не сможет в случае победы сказать, что это Аттила победил, а не Аэций. Даже сотни гуннов нет в этих турмах лучшей Аэциевой конницы. Вперед! Вперед!..
Они мчатся как вихрь. Вот уже сверкает сквозь лесную чащу серебристая лента Самары. Возвращается высланный на разведку вексиларий: действительно, на берегу никакой стражи!
Аэций первым бросается в быстрый поток Самары. Сразу же за ним Майориан. Потом Рицимер, Марцеллин, Оптила.
Ни на минуту не задерживаясь на том берегу, они мчатся дальше…
Вперед выдвигаются отряды букцеллариев, собственных, содержимых на собственные деньги патриция воинов. У всех на панцирях золотые, серебряные или бронзовые кружки с его изображением. Аэциево же лицо смотрит со всех значков, развевающихся перед их рядами. Вот уже слышен нарастающий шум стойбища… появляется франконская стража… Сильно, больно бьют пятками о бока своих коней Аэциевы воины и с обнаженным оружием, с наклоненными копьями, как буря, налетают на стражу, громким тройным возгласом разнося по пирующему стойбищу страшную весть:
– Аэций! Аэций! Аэций!
Сам патриций империи мчится в первой шеренге. Каждый с легкостью различит его… Кто же в Галлии не слышал о высоком шлеме без всяких украшений и коротком аметистовом плаще?.. Вот уже просвистели возле уха первые стрелы… Франки в ста шагах… в пятидесяти… в тридцати… Отчетливо видит он дикие, жестокие, гневные лица… Заплетенные в косички волосы… длинные, свисающие усы… насупленные брови… В него уже швыряют страшными францисками – короткими двойными топорами… ощерились тройной щетиной длинных, тяжелых копий – фрамей… уже сверкают огромные обоюдоострые скрамасаксы… Круглый щит Майориана с торжествующим звоном отбивает метко брошенную франциску… другую – предназначенную Аэцию – принимает в свою грудь высокий старый гот, отдавая за вождя, за империю и римский мир – что?.. всего лишь собственную жизнь!.. Умирающему кричит патриций:
– Аэций благодарит тебя, друг. – И бросает своего коня в самый центр сверкающей расселины.
– Что, не ожидали, наверное, что вместе с невестой и вы познаете радости супружеского ложа?! – со смехом спрашивает Аэций, разглядывая восемь подружек невесты – все дочери графов, – ожидающих с застывшим на лице страхом, когда их поделят между собой победители-военачальники.
Судьба двух наименее красивых, хотя и отнюдь не уродливых, уже решена: одну получает трибун ауксилариев Оптила, вторую – сын гота, который пал в начале битвы, заслонив своим телом Аэция.
– Это ему за отца, – объясняет патриций.
Молодой гот, простой солдат, даже не декан, долго не может поверить своему счастью. Неужели это на самом деле?.. Он получит в собственное владение молодую красивую девицу, да еще из знатного, чуть ли не королевского рода?! Гордость и радость без границ распирают его. Как же ему будут завидовать товарищи из его друнгуса! Чудо! Истое чудо!.. Как комес или как женатый воин, он не должен никому отдавать свою добычу…
С недоверием и беспокойством смотрит он на врученную ему женщину.
– А может, она не девица? – дрожащим голосом осмеливается обратиться он с этим самым важным для себя делом к самому патрицию.
– Ты еще никогда не спала с мужчиной? – довольно гладко спрашивает Аэций на наречии салических франков.
– Никогда…
Патриций снова переходит на язык римлян.
– Если она солгала, можешь ее убить, – говорит он готу.
«Вероятно, он все равно ее убьет, – думает Аэций, когда солдат, упав к его ногам, встает и уходит со своей пленницей. – Столько женщин захватили… Кормить нечем… Каждый кусок хлеба сейчас стоит больше, чем захваченное золотое кольцо… Половину женщин придется перебить…»
И он отдает приказания комесам. Победа действительно блистательная, пожалуй, третья часть франков полегла. Клодион, дважды раненный, еле спасся бегством… Добычи уйма, но продовольствия мало… Завтра надо возвращаться…
Что делать с женщинами?.. На конский круп их не возьмешь, да и зачем они нам нужны, когда мы вернемся в Лютецию?..
Марцеллин советует отдать всех женщин франкам. Этой милостью легко будет покорить их сердца. Аэций и Рицимер разражаются хохотом. Милость?! Уже двенадцать лет сражается подле Аэция Марцеллин, а все еще не знает, как надо поступать с варварами. Милость их только подстрекает!.. А вот изнасиловать и перебить с полтысячи женщин – это их смягчит… Пусть только воины узнают через неделю, что их жен и дочерей убили, а те, что уцелели, прошли самое малое через тридцать-сорок рук и вернутся в свои селения с римским плодом, – и они тут же заставят Клодиона заключить мир и присягнуть на феод, чтобы спасти от подобной же судьбы остальных женщин…
– Я даже не знаю, – заключает Аэций, – стоит ли щадить этих знатных дочерей графов… Мы забрали у франков все… выкупа они никакого не дадут… и они так суровы, когда дело касается девичьей добродетели, что часто своей рукой убивают обесчещенных женщин…
Решено было, что те, кому достанутся знатные подружки невесты, сами будут решать судьбу каждой из них, после того как проведут с ними ночь… Остальных же захваченных женщин, которые вот уже час переходят из рук в руки победителей, – почти в ста шагах от трупов своих мужей и отцов, – завтра разделят на две части: сто или двести из них направят в Камерак, остальных же – около четырехсот – придется убить…
Военачальники принимаются делить женщин. Один за другим покидают они шатер патриция, каждый ведя свою добычу… Только Майориан не приблизился ни к одной.
– Ты дал обет целомудрия, Юлий? – спрашивает его с улыбкой Аэций, когда они одни остаются в шатре.
Но Майориан вместо этого отвечает вопросом на вопрос.
– Кто в сегодняшней битве отличился больше всех, сиятельный?
Аэций не хочет быть несправедливым.
– Ты, молодой друг, – говорит он, кладя руку на плечо.
– Значит, я заслужил награду?
– Заслужил, Юлий.
– Высшую награду?.. Награду для храбрейшего?..
Аэций с трудом сдерживает нарастающее раздражение.
– Да, наивысшую… Говори же, чего ты хочешь…
Майориан скрещивает руки на груди. На губах его играет гордая спокойная улыбка.
– Я хочу франконскую королевну.
Аэций вскакивает. Широкие скулы напряженно двигаются под густой бородой.
– Ты еще молодой воин, Юлий, – начинает он свистящим голосом, – так что можешь и не знать, что высшую награду после победного сражения берет обычно не самый храбрый солдат, а высший военачальник.
– А разве ты ее хочешь, сиятельный?..
Майориан уже не улыбается, но удивление, которое отражается в его взгляде и голосе, так выразительно и вызывающе, что Аэций вынужден сделать нечеловеческое усилие, чтобы не размозжить наглецу голову или не вышвырнуть его из шатра… Но сделать это нельзя: в Риме и Равенне будут говорить, что он ревнует к щенку… Боится, что тот затмит Аэциеву славу, угрожает его власти… Майориан же, чувствуя, что именно удерживает Аэция, становится все более дерзким.
– Я молод и, кажется, красив, сиятельный, и кровь во мне играет… Ты же, непобедимый, уже достиг счастливого равновесия и поры охлаждения крови… Ты ведь можешь быть отцом королевны…
Аэций, хотя в нем бушует страшная буря чувств, внешне уже совершенно владеет собой. Неужели дать повод для насмешек?.. Пойти на то, чтобы в Риме и в Равенне кружили злые шутки о том, как пятидесятипятилетний диктатор, охваченный неожиданным вожделением, схватился из-за пленницы с красивым двадцатилетним воином?.. Никогда! Но как найти выход, чтобы не оказаться в смешном положении?
– Понимаю, Майориан, – говорит он через минуту, – ты молод и можешь заболеть, если не получишь женщину… Но это королевна – давай уж посчитаемся с ее достоинством… и без того ее постигло большое несчастье!.. Должна была пойти на ложе с любимым супругом, а супруг вот лежит с рассеченной головой в двух стадиях отсюда, королевна должна отдать свое девичество победителю, так пусть она сама выберет, кого из нас двоих предпочитает…
Майориан даже не улыбнулся. До чего же легко сдался твердый, непобедимый Аэций… Юношу распирает все большая гордость, а кроме того, он чувствует, что вот уже горячей волной приливает к голове бурлящая кровь… Он видел королевну… Поистине прекрасна… Он видел только ее светловолосую головку, а теперь увидит всю… и такую красавицу заключит в объятия… первый!.. первую самую знатную деву храброго народа!..
«Только бы вызвать улыбку на этом застывшем от гордого страдания лице… Она, должно быть, в сто раз прекраснее, когда улыбается… Верно, все еще убивается по своему жениху, но не должен же я нравиться ей меньше, чем самый красивый франк…»
Когда через минуту они оба стали перед знатной пленницей, Аэций на салическом наречии объяснил ей, чего они от нее добиваются. Говоря, он с трудом сдерживал тоску, горечь и ревность: до чего же она красива и молода… И до чего красив и молод Майориан… Несомненно, самый красивый молодой человек, которого он когда-либо видал… Великолепная пара…
Повторив еще раз с грозным нажимом, что она обязана сделать выбор, Аэций цеплялся за надежду, что суровая франконская добродетель окажется сильнее страха, и она скорее бросится на меч, чем согласится отдаться победителю… Ах, как бы торжествовал тогда Аэций над щенком!
Но королевна, как будто и не была франконкой, а тем более девицей, с любопытством долгое время вглядывается в одного, потом в другого и, не опуская глаз, уверенно прикасается к плечу Аэция.
– Я пойду с тобой…
– Сколько тебе лет? – спрашивает Аэций, уверившись, что все это не сон.
– Зимой начну семнадцатую весну…
– Ты могла бы быть моей внучкой…
Королевна не отвечает. Она стоит подле ложа и – как ей велели – снимает с себя одежды. Она уже сняла с ног башмаки, скинула с плеч пурпурное, златотканое, захваченное в какой-то римской вилле платье. Но когда коснулась ладонями длинного, касающегося самых кончиков ног пеплума («Тоже похищенный, – думает Аэций. – Может, снятый с изнасилованной и убитой римлянки?»), вся задрожала и закрыла лицо руками.
– Не могу, – прошептала она, опустившись к подножию ложа.
Патриций смотрит на нее с удивлением.
– Почему ты выбрала меня, а не другого? – спрашивает он.
Франконка не отвечает.
Аэций пресыщен, горд и счастлив. С восхищением, благодарностью и почти растроганно смотрит он в прелестные глаза франконской королевны, то и дело меняющие цвет. Вот они голубые, прозрачные, глубокие… вот уже зеленые, затуманенные, с золотистыми огоньками… а потом серые, стальные, холодные… «Таким должно быть Северное море, родной saal ее отважного народа…» – думает патриций Римской империи и говорит тихим голосом, в котором звучат мягкие, ласковые, заботливые тона:
– Ты дала мне много радости и наслаждения… Я благодарен тебе и не хочу, чтобы ты пострадала, оказалась несчастливой и опозоренной. Я бы с радостью взял тебя с собой в имперские земли, но не могу… Отослал бы тебя в твой край с богатыми дарами, окруженную сотнями пленниц, которые были бы только тебе обязаны жизнью и свободой… Но я знаю суровые обычаи вашего народа и боюсь, как бы ты еще больше не пострадала от своих: чтобы не прокляла тебя твоя мать, а отец не поднял бы на тебя беспощадную руку и чтобы молодые подруги, чистые девственницы, не поворачивались спиной к той, с кем я был минуту назад счастлив…
– Поистине, не только у франков, – отвечает королевна, – но и у саксов, тюрингов, бургундов и ютунгов не найдется такой чистой, самой непорочной девственницы, которая с завтрашнего дня будет смотреть на меня, думать обо мне, говорить со мной не иначе, нежели с завистью, восхищением и почитанием. Разве может быть большая слава и большее счастье для дочери народа воинов, чем сочетаться с мощью и кровью величайшего из мужей, какого когда-либо создали боги – сына Тора и Валкирии, Аэция?!








