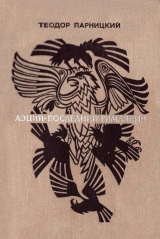
Текст книги "Аэций, последний римлянин"
Автор книги: Теодор Парницкий
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 22 страниц)

Теодор Парницкий
Аэций, последний римлянин
Аэций… великое спасение Западной империи и устрашение короля Аттилы – с ним пала эта держава, будучи не в силах возродиться.
Хроника Марцеллина
А судить предоставим векам.
Словацкий
Человек трех миров

1
Старый диакон уже не сомневался: да, сам лукавый ополчился против него в союзе с солнцем, водом и песком! Святотатственный, стократ анафемский ум его уже учуял, что у изнуренного всенощной молитвой слуги божия невыносимо тяжелеет голова и немилосердно слипаются покрасневшие веки, – вот он уже и орудует! Пусть, пусть через все поры проникает в тело вместе с теплым и солнечным спетом неодолимая слабость… Пусть мягкий, сыпучий, теплый, а кое-где еще приятно влажный прибрежный песок, пусть он плотно облепит истомленные члены ленивой негой… пусть упоительной колыбельной зазвучит мерный, напевный шум реки…
Одолел лукавый – диакон заснул, так и не докончив притчи о заблудшей овце и добром пастыре. И Аэций не узнает, почему нельзя бросать из пращи камнями в птиц и зверушек, как это делает бельмастый племянник старшего декуриона.
Но Аэций отнюдь не выглядит огорченным: не успел наставник уснуть, а голый малыш уже возится в нагретом песке с двумя черными котятами, радостным звонким смехом вторя их радостному мурлыканью. И уже не различишь, где мальчик, где котята: мяуканье и смех сливаются в один мощный, стихийный клич счастья, летящий в небо над крепко спящим, сухим, как мумия, диаконом и живым клубком на песке.
Но песок и котята недолго занимают Аэция: вертикальная морщина вдруг резко прорезает мальчишеский лоб. Он что-то вспомнил и вот, полный решимости, сосредоточенный, весь во власти самого сильного из всех чувств – любопытства, уже взбирается смело и упрямо на белую спину каменного льва, откуда, если приложишь ладонь ко лбу, можно увидеть северный берег Дануба [1]1
Современный Дунай. – Здесь и далее примечания переводчика.
[Закрыть]где, говорят, живут огненноволосые великаны, питающиеся красной кровью и белым мозгом таких вот, как он, пятилетков… Бельмастый племянник декуриона клялся решеткой святого Лаврентия, что именно оттуда, с высоты львиной спины, он видел, и не раз, великанов и их костры. Значит, и Аэций сможет их увидеть!
Трижды он уже падал, не найдя точки опоры на гладкой, скользкой шарообразной поверхности львиного зада. И вновь карабкается: нагое маленькое тело, такое не по годам пружинистое и сильное, а еще сильнее – упрямство.
И вот он уже сидит, гордо свесив голые окровавленные ноги с каменных боков, судорожно впиваясь в изломы каменной гривы маленькими, в синяках, ручонками.
Сердце под выступающими ребрами колотится резко и громко. Высота, на которой он очутился, кажется такой головокружительной, что глаз не решается глянуть вниз. Он смотрит перед собой. Смотрит пристально, жадно… Но за беспредельностью вод виден только туман… ничего, кроме тумана, белого, плотного, непроницаемого, как стена. Миг горького разочарования, но тут же неожиданно, радостно, упоительно сжимается сердце: огненноволосые гиганты догадались, что вот-вот – и каменный лев оживет, дружелюбно рыкнет отважному юному всаднику и одним прыжком одолеет Дануб, неся на своей спине нового Героса – укротителя великанов… мстителя за пожранные мозги и выпитую кровь его однолетков!
Догадались и, дрожа от страха перед Аэцием и львом, попрятались за стеной из тумана.
Но если они так трусливы, несмотря на свой рост и огненные волосы, как же получилось, что один из них переплыл широкий Дануб, незамеченным выбрался на берег и неожиданно напал на врага сзади, подло, трусливо… Длинные, темные, костлявые руки его уже обхватили ребячье тело, стиснули и стаскивают с высоты… отрывают от спины верного друга, боевого соратника – льва… Аэций отбивается, колотит наугад пятками, кусает сухие, коричневые, как пергамент, удивительно знакомые руки и не хочет верить, что это наставник-диакон, разбуженный громким зовом Аэциевой матери, пытается снять его с каменной спины.
А мать действительно зовет, и в голосе ее, так хорошо знакомом, слышатся какие-то странные тона, какие-то новые, незнакомые и никогда не замечаемые раньше, и Аэций в мгновение ока забывает про великанов: резвые ноги с невероятной быстротой несут его через большой сад, кровавым следом отмечая дорожки, грядки и траву, через минуту они уже топают по мраморным ступеням перистиля и вдруг взлетают в воздух: красивая молодая женщина прижимает маленькое, совершенно голое тельце к полной, теплой материнской груди.
Прежде чем глаза его спрячутся в складках приятно шуршащего сребротканого одеяния, он с удивлением заметит, что перистиль забит чужими людьми, как никогда еще не бывало.
– Радуйся, солнышко мое… вести от отца… радостные вести… Наш император Феодосий Август, и славный Стилихон, и твой отец разбили язычников… наголову!.. Как раз за восемь дней перед идами [2]2
13-е или 15-е число месяца по древнеримскому календарю, дни чествования Юпитера.
[Закрыть]помнишь? – в тот день, когда ты подбил себе глаз!.. Сначала побеждали идолопоклонники и нашим было тяжело, но ночью император молился, беседовал с Христом и спросил: «Как же это, господи? Ведь ты же всемогущий… всемогущий ты… мы за тебя бьемся, а ты вместо того, чтобы нам – врагам нашим и споим врагам победу даруешь?!» И внял Христос и наслал на язычников вихри, леса и горы… Разбил их нещадно… Евгений убит… Арбогаст погиб… Слышишь, сынок?.. Двадцать тысяч язычников полегли там и уже не встанут!..
И, то покачивая сына в крепких объятиях, то снова прижимая его к груди, в десятый раз принималась рассказывать взволнованным голосом о победе христиан под Аквилеей. Собравшиеся жители Дуросторума в десятый раз вынуждены были, кроме вестей с поля сражения, выслушивать, как после битвы Стилихон подвел пред лик Феодосия Августа скромного центуриона, всего перемазанного кровью, и, упав вместе с ним ниц пред императором, воскликнул: «Вот отважнейший из отважных, господин наш… Вот тот, кто больше всех отличился сегодня…» И священная рука Феодосия Августа милостиво возлегла на плечо скромного центуриона Гауденция.
– Твоего отца, солнышко мое… твоего отца…
Гордость распирала ее сердце: она знала, что весь Дуросторум завидует ей сейчас… да что там, вся Мёзия… весь Восток! Красивое лицо ее сияло счастьем и торжеством при одной мысли, что скажет сейчас ее гордая семья, которая позором для рода считала брак знатной италийки с простым воякой из Мёзии. «Теперь по-другому заговорите об этом «вояке», – шептала она про себя, еще больше упиваясь счастьем и гордостью, вспоминая мрачные предсказания ее родных об исходе этой безрассудной любви и этого оскорбительного для них брака. «Теперь для вас честью будет, что одна из вашего рода вышла за Гауденция, героя Аквилеи», – думала она.
– Мама, а сколько это двадцать тысяч?
Она задумалась на мгновение.
– Столько, сколько ты в день господен видишь перед базиликой, и еще раз столько же, и еще, и еще…
Аэций снова утыкается лицом в сребротканые складки.
Насколько же Христос сильнее его, Аэция!
Он вспомнил вдруг: бельмастый племянник декуриона весь день охотился с пращой на ловкого зверька с большим пушистым хвостом, бегающего по деревьям с невероятной быстротой. С заходом солнца он сердито отшвырнул пращу. Аэций подобрал ее, спрятал на груди, не расставался с нею всю ночь, до рассвета не сомкнул глаз, а когда в кубикул пробился первый проблеск дня, убежал в сад. Весь день не ел, не пил, не позволил умыть себя, не слушал диакона с его божьим словом – все выслеживал шустрого зверька. Восемнадцать раз целил в него и попал… наконец. После девятнадцатого броска увидал он у своих ног окровавленное, неподвижное тельце: зверек лежал навзничь, скрючив лапки, с подвернутым пушистым хвостом, вздутым брюшком и остекленелыми глазами. Аэций чувствовал себя триумфатором… Чем же был в сравнении с ним девятилетии», большой, вызывавший всегда восхищение бельмастый племянник декуриона?!
Но что он сам по сравнению с Христом, который лесами, горами и вихрями поразил двадцать тысяч?! Аэций представил себе большое поле и множество лежащих воинов: все навзничь, со скрюченными ногами, вздутыми животами и остекленелыми глазами…
– Да, да, высоко теперь пойдет центурион Гауденций, – говорил старший декурион города Дуросторум, покидая забитый перистиль в сопровождении начальника городской стражи и старого диакона.
«Видимо, шум, доносящийся из перистиля, заглушил ответ… ведь слух у меня неплохой», – подумал он немного погодя, не допуская мысли, чтобы то, что он, старший декурион, сказал, могло остаться без ответа.
Но спутники его действительно ничего не ответили: начальнику стражи не было дела до центуриона Гауденция, а кроме того, хотя он уже шесть лет как сбросил с себя одеяние катехумена, в глубине души по-прежнему оставался приверженцем старых богов. Так что, когда желающий поболтать декурион, не смущаясь отсутствием ответа, продолжал: «Да, должны мы Христу воздать постами и благодарениями и новую базилику на форуме воздвигнуть… базилику Победы… ведь побили мы наконец язычников, как говорится», – начальник стражи только выдавил кривую улыбку и довольно невразумительно поддакнул. Но что, однако, страшно удивило почтенного отца города Дуросторума, так это молчание божьего слуги, который должен был бы оглашать улицы и форум громкими «Осанна!» и «Аллилуйя!» Но старый диакон, хотя действительно искренне и горячо радовался победе, поскольку несокрушимо верил в триумф креста над язычеством, шел молча, опустив голову на грудь: сердце его горестно сжималось при воспоминании о том, каким радостным, диким огнем горели глаза его любимца Аэция, когда мать рассказывала ему, что целых двадцать тысяч безжалостно предал смерти Христос… Тот самый Христос, о котором диакон говорил мальчику, что его божественное сердце доброго пастыря кровоточит не только от смерти, но и от малейшего страдания, причиняемого даже самым ничтожным творениям…
2
Жадным, ненасытным взглядом пожирал он людей, дома, дороги, реку. Он в Риме… в настоящем Риме… в древнем Риме! Сердце под голубой туникой громко и почти до боли выбивало ритм любимых стихов:
Издали уже виден Капитолий. Белый мрамор – это, наверное, храм Юпитера Капитолийского, или дворец, или храм Юноны Монеты… Разгоряченная мысль опережала взгляд: Аэцию кажется, что он видит Тарпейскую скалу… То и дело он натягивает вожжи, придерживает коней и обращается к следующему в другой колеснице любимому учителю-грамматику:
– А это что? А это? А это случайно не театр Марцелла? А скоро мы въедем на форум Траяна?
Грамматик улыбается: он доволен и горд своим учеником. Он научил его скандировать гекзаметры и модулировать все оттенки богатейшего по диапазону Горациева стиха. Он приобщил его, не прибегая к ненавистному учебнику Доната, ко всем сокровищам самого благородного из семи свободных искусств и не сомневается, что Аэций, даже если его разбудить, без запинки прочитает любой заданный ему кусок из «Энеиды» или «Метаморфоз». Потому что таково было желание его отца, комеса Гауденция, воина, еле умеющего отличать поэзию от прозы.
Но вряд ли комес Гауденций, отличившийся в разгроме язычников, врагов креста, под Аквилеей, желал, чтобы первородный сын его вместе со всеми секретами грамматики и философии перенял от своего учителя тягу к тому давнему, проклинаемому христианами древнему миру, который создал все эти чудесные стихи и полные мудрости творения прозаиков, который породил могущество Рима и владычество волчьего племени квиритов над всем orbis terrarum [4]4
Вселенной (лат.).
[Закрыть]. Тринадцатилетний сын ревностного воина христова и искренне набожной матери благодаря своему учителю не считал богов Олимпа и мифических геросов мерзостными демонами, наоборот, покидая два месяца назад пирейский порт, он долго не оставлял палубу, несмотря на холодную и ветреную погоду, словно зачарованный неземным, как ему казалось, сиянием, исходящим от видимого издали копья героической Паллады Промахос [5]5
Афина Воительница.
[Закрыть]. Грамматик помнил, что в черных глазах мальчика было такое же волнение, как теперь, когда он спрашивает, близко ли уже форум Траяна…
– Еще не скоро… Ведь мы даже еще не в городе… Только проехали Навмахию [6]6
Водоем для сражений, подобных гладиаторским.
[Закрыть]Августа, – улыбается он.
Аэций захлебывается от лихорадочного восторга: если такой красоты окраины, то как же должен выглядеть город?!
Едущая вместе с ним мать пожимает плечами: по ней в тысячу раз лучше Константинополь – Новый Рим. Как там хорош Августеум с видом на дворец!.. А украшенное, словно драгоценными камнями, виллами сенаторов взгорье над пристанью Гормисдаса?.. А церковь пророка Самуила?.. Да, там, в Новом Риме, над Босфором, действительно чувствуешь себя в столице христианской империи. А тут на каждом шагу следы языческого разврата. Вот хоть бы здесь. Иисусе, смилуйся… прости мои грешные глаза…
Она быстро, с отвращением отворачивается, осенив себя крестом. Колесница как раз въезжала на мост Грациана. Глубоко внизу, под их ногами, лениво катились мутные, желтые воды Тибра, омывающие островок с красивым храмом Эскулапа. Вокруг храма было людно и шумно, как будто не ушли в бытность времена Диоклетиана и Юлиана.
– Я тут не поеду.
– Но, мама…
– Нет, не поеду… Поворачивай, Аэций. Я еще не забыла, что невестка моей тетки погибла на арене за Христа…
Пришлось снова повернуть на Портуенскую дорогу и только через Сублицийский мост попасть в город. Аэций передал вожжи старому слуге-фракийцу, а сам перебрался в колесницу грамматика.
– Ты должен мне все-все объяснять… все показать… ничего не пропуская!.. – воскликнул он, и глаза у него горели, как в лихорадке.
Теперь уже каждый поворот, каждый дом, почти каждый камень отзывается в мыслях и сердце бронзовым эхом Вергилиева гекзаметра, Овидиевой элегии, Ливиевой прозы.
Форум Боариум… Велабрум… Юлийская базилика… Храм Кастора… а вон тот маленький, круглый, с колоннами – это храм Весты… Там, направо, темные стены храма Великой Матери и Муганийские ворота… А там, напротив, Золотой дом Нерона!.. Рим… настоящий Рим… древний Рим!..
Крепкие руки высоко поднимают мальчика над землей, прижимают его лицо к широкой груди, охлаждают разгоряченную голову холодной сталью панциря…
– Наконец-то… наконец…
Аэций испытующе, чуть исподлобья оглядывает всю фигуру вот уже долгие годы не виденного им отца. Красная короткая туника, голые колени, панцирь весь в золотых кружках, с изображением Гонория Августа, чудесно украшенный шлем с высоким красным султаном… Все так, как должно быть… Только вот лицо, совсем непохожее ни на одно из этих прославленных, древних, увековеченных в бронзе или гипсе… бородатое лицо мёзийского мужика.
– Идем, Аэций, – торжественностью и почтением наполняется столь давно не слышанный голос, – сиятельный Флавий Стилихон желает тебя видеть.
Он берет мальчика за руку. Взглядом испытующим, сосредоточенным, хотя и бессильным изобразить строгость, оглядывает он его от темных волос до голубых башмаков. И расплывается в широкой улыбке бородатое мужицкое лицо: комес Гауденций доволен видом своего сына.
Что прежде всего приковывает взгляд, так это меняющийся, многоцветный мозаичный пол, в каждой комнате на нем другая картина: вот поэтическое состязание Марсия и Феба… вот собаки Дианы, преследующие Актеона… вот Октавиан Август, закрывающий двустворчатые врата храма Януса… Идти надо осторожно… чтобы не наступить вдруг на изображение императора… А вот битва Горациев с Курациями, дочери Даная, Дедал и Икар, собирающиеся взлететь… На левом крыле Икара покоится большая, обутая в красный, зашнурованный золотом башмак нога. Над стопой возвышается толстая, но высокая и стройная голень, до половины голая, обросшая густым рыжим волосом, коротким, видимо, недавно бритым.
– Приветствую тебя, Аэций, – раздается голос, приятный, почти любезный и дружелюбный, но какой-то необычно протяжный.
Мальчик переводит взгляд с тонкого профиля Икара на широкое (шире, чем у отца!), красное, грубо вытесанное лицо огромного, коренастого человека, одетого в тунику шафранового цвета и скрепленный золотой пряжкой темно-зеленый плащ, доходящий до колен. Нижнюю часть лица покрывает густая светло-рыжая борода, короткие светло-рыжие волосы над выпуклым, но высоким лбом, опирающимся, как на архивольте, на остро выгнутые своды кустистых бровей, из-под которых смотрят на Аэция дружелюбные, улыбающиеся голубые глаза. Унизанная кольцами рука осторожно берет маленькую ладонь подростка в светло-голубой одежде.
– Смотри, Аэций, – раздается голос отца, еще более серьезный, еще более торжественный, – смотри, вглядись и никогда не забывай. Ты стоишь перед сиятельным Флавием Стилихоном, величайшим полководцем, мудрейшим человеком, моим и твоим благодетелем…
Улыбаясь еще дружелюбнее, Стилихон выпускает руку щуплого подростка.
– Подойди к Аэцию, сын мой, – говорит он, еще необычнее растягивая звуки, – подойди и пожми ему руку. Ты мне кажешься славным мальчиком, Аэций… я хотел бы, чтобы ты был верным и преданным товарищем Эвхерию, как твой отец – мне…
Аэцию доставляет настоящее удовольствие крепко (наверняка до боли!) пожать руку плюгавому мальцу. Снова исподлобья смотрит он в улыбающееся бородатое лицо и, припомнив вдруг уроки грамматики, с неприязнью думает: «Варвар».
3
В атриуме монотонно журчит фонтан. Аэций, закинув руки на плечи, большими шагами взрослого мужчины уже в сотый раз меряет пространство между бюстом Гонория Августа и высокой черной урной с красными фигурками остробородых состязающихся бегунов. Из-за красной завесы доносится приглушенный голос отца и еще чей-то незнакомый.
– … и до захода солнца все будет кончено…
– Безумец… безумец…
– Вот так, как я стою тут перед тобою, Гауденций, я стоял в шесть часов перед Саром… Гот рвал на себе волосы, раздирал одежды… «Две тысячи человек, – твердил он, – стоят наготове… только ждут знака… Я ходил, упрашивал, умолял… Напрасно…» Понимаешь, Гауденций, это ли не чудо из чудес?.. Варвар, которого через три-четыре часа ждет меч, не хочет спасать свою жизнь… не хочет помощи от своих соплеменников и соратников, ибо считает, что для блага империи… для блага Рима нельзя идти на междоусобицу… Непонятно…
– Действительно непонятно…
Молчание.
Большие ступни семнадцатилетнего Аэция все быстрее перебирают белые, черные и красные плиты пола.
– А ты что предпримешь, Гауденций?..
Голос отца, то тихий, низкий, то снова высокий, даже до смешного тонкий, то и дело сбивается и срывается.
– Я проклинаю этот день… лучше бы мне пасть со славой под Аквилеей… я не спал всю ночь… Все это так непонятно… так тяжело… слишком тяжело для моих солдатских мозгов… Но уж если такова воля нашего императора…
В атриуме Аэций почти до крови кусает свои толстые, мясистые губы. Широкая ладонь отодвигает пурпурную завесу.
– Отец…
Медленные, неуверенные шаги. Большое, бесформенное мужицкое ухо подвигается к самым губам юнца.
– Отец… что будет со Стилихоном?
Пожатие плеч, беспомощное и такое горестное.
Быстро-быстро катится ручеек шепота:
– Почти до полудня он скрывался в храме… думал, что его спасет священное это место. Приходили к нему друзья, товарищи, подчиненные… Говорили, что не выдадут его… что приговор императора для них ничего не значит, говорили, что если он захочет…
– Дальше я знаю… Ну и что будет?..
Уклончивый взгляд в сторону красной завесы, растянутой сверху над атриумом.
– Понимаю… Стилихон предпочитает лишиться головы, только бы не поднимать междоусобицы… Не хочет такой ценой спасти свою жизнь… Ты бы так же поступил, отец?
Гауденций молчит. Его широкое бородатое лицо расплывается в усмешке.
– Так ведь?.. Я бы тоже так не поступил, отец…
И неожиданный взрыв:
– Но почему же ты, дорогой отец, комес Гауденций, не спасаешь своего друга и покровителя?.. Почему сидишь сложа руки, ожидая рокового мига?.. Прости, отец, можешь меня наказать, но ты должен выслушать, что я тебе скажу… должен: Флавий Стилихон – это последний щит римлян… это единственный наш защитник от готов… и, когда скатится его голова, что будет с нами? С Римом?.. Неужели ты этого не понимаешь, отец?.. И разве ты не обещал под Полленцией умереть вместе с ним?..
Гауденций слушает спокойно. У него нет желания наказывать сына. Наоборот, он треплет его широкой ладонью по плечу. И усмехается этак понимающе.
– Да, да, Аэций… ты говоришь справедливо… Стилихон – мой покровитель, друг… это последний щит Рима… Вот ты говоришь, чтобы я спасал его… А разве его не спасают?.. Спасают, только он сам не хочет… Послушай, сын: кто же те, кто хочет его спасти?.. Соплеменники-варвары, которые хотели бы видеть его сына-варвара на троне римских императоров… А кто мы?.. Римляне, которые не хотят видеть пурпур на плечах варвара… И еще кто?.. Христиане, правоверные, которые не хотят, чтобы возле трона и в армии заправляли язычники и еретики… И поэтому… только поэтому я говорю, да будет священна воля нашего императора… Разве я плачу черной неблагодарностью?.. Нет, я хотел бы, чтобы Стилихон был спасен – не для того, чтобы спасти Рим, – мы сами его отстоим! – но так… из благодарности и дружбы… Но он же не хочет…
Монотонно журчит фонтан.
4
Аэций с трудом удерживается, чтобы не разразиться плачем. Он до боли стискивает зубы, сжимает кулаки и глубоко вонзает ногти в нежную кожу ладоней. Нет, он не смеет плакать – ведь он уже мужчина, а не дитя… Другое дело этот, рядом… сенаторский сынок, у которого слезы так и текут по щекам. Мальчишка еще – шестнадцать лет. Или вон его ровесник справа, весь кулак всадил себе в глаз… Да ведь и есть от чего заплакать, чего бояться, перед чем дрожать… Что с ними будет?.. Что с ними будет?..
И Аэций вот-вот готов поддаться волне рыданий, сдавливающих горло, но неожиданно трезвеет. Ведь он же римлянин, сын прославленного военачальника и находится здесь потому, что род его признан достойным, чтобы таким вот образом послужить Риму. Нет, не увидит король варваров слез сына Гауденция.
А король варваров как будто нарочно старается выжать слезы из глаз широкоплечего юнца с низким лбом и мрачным взглядом исподлобья. Он оглядывает его с головы до ног, как коня, которого собирается купить… сверлит холодным, проницательным, слегка издевательским взглядом удивительно светлых голубых глаз. И ближайший королевский наперсник, муж его сестры, красавец Атаульф, проницательно и с нескрываемым любопытством – любопытством дикаря! – разглядывает молодых римских юнцов, отпрысков лучших родов столицы. Впрочем, и остальное тоже – вожди и воины, все голубоглазые, одетые в шкуры, ужасно пахнущие, усатые, белесые или рыжие…
Рыжие – огненноволосые! Назойливо подкатывает под череп, под пересохший язык, под горло и без того уже перехваченное рыданием, неожиданно воскресшее воспоминание детства: северный берег Дануба… на севере огненноволосые великаны, питающиеся мозгом и красной кровью римских детей!..
Но сам король варваров скорее белесый, чем огненноволосый, а по стоящим на деревянном столе блюдам и кувшинам можно понять, что красное вино и жирную свинину он предпочитает детским мозгам и крови.
Слава Христу! Леденящий взгляд голубых глаз соскальзывает с лица Аэция и обращается, уже стократ холоднее, стократ язвительнее и безжалостнее, на белые, как их тоги, лица сиятельных сановников и сенаторов.
– Я пришел, чтобы отомстить за подлое и коварное убийство Стилихона, единственного, кто был достоин быть моим врагом… – говорит король, уже не смешно, пожалуй, даже необычно, безжалостно коверкая язык римлян. – Пока что я отсылаю вас, просто из расположения к вашему племени… Заложники, – тут он опять метнул взгляд на Аэция и других юнцов, – этих мне достаточно. Но дайте мне еще…
Он задумывается на минуту, подняв к небу холодный взгляд светлых глаз. Аэций слышит, как под белыми тогами колотятся тревожно сердца сенаторов.
– Дайте мне… немного… золота – пятьдесят сотен фунтов…
Он загибает мизинец.
– Серебра – триста сотен фунтов… Одежд, вот таких, – он кладет палец на грудь префекта Иоанна, друга Гауденция, – сорок сотен… и красного сукна, такого, что сам император носит, – тридцать сотен…
Он смотрит на свои пальцы: четыре загнуты, только толстый, короткий большой палец еще покачивается возле груди Иоанна.
– И дайте еще перцу тридцать сотен фунтов, и тогда будет довольно, – заключает он, взмахнув уже стиснутым кулаком.
Молодой Геркулан Басс, у которого не только щеки, но и губы побелели, как тога, умоляюще смотрит на Иоанна. Префект трясущейся ладонью осеняет себя крестом и сдавленным, чуть слышным голосом произносит:
– А нам? Что ты нам оставляешь, благородный король?..
Над холодными светлыми глазами высоко поднимаются мохнатые брови. Мощные руки застыли, скрестившись на груди. Толстая нижняя губа презрительно оттопырилась, выражая удивление.
– Вам?.. – цедит сквозь ослепительно-белые зубы король вестготов Аларих. – Вам остается ваша жизнь… Мне она ни к чему…
5
Приятная тень, которую отбрасывают массивные колонны храма Венеры Эринийской, угрожающе с каждым мигом сокращается, жадно высасываемая безжалостным зноем италийского полудня. Аэций снимает с головы полотняный пилеол и великодушно отдает его златоволосому стражнику, для которого южное солнце – невыносимая мука. Уже четвертый день пошел с той минуты, как под напором мускулистых варварских плеч с грохотом рухнули Саларийские ворота, а прямая, как стрела, Саларийская дорога скорбно застонала, вторя гулу тысяч мускулистых варварских ног… Уже четвертый день мощный огненный столб, знак разрушений, вздымается над великолепными садами Салюстия, гоня клубы дыма далеко за Альта Семита; а теперь вот пламя вдруг взвилось над садами Валериев, из-под фронтона Венеры Эринийской его отлично видно.
Четвертый день царят вестготы в Вечном городе – и ничего не произошло. Ни один гений – покровитель Рима не сошел с небес с огненным мечом отмщения, ни одна молния божия не поразила дерзкой головы Алариха Балта. Море не захлестнуло в ярости тинистой гавани Рима Остии, не обрушилось потопом на оскверненный город, даже Тибр не потек вспять и не вышел из берегов, чтобы в чудотворно разлившихся вспененных водах своих утопить пришельцев-святотатцев. Так же, как прежде, беззаботно качались на ветру устремленные в небо вершины стройных кипарисов, так же весело журчала вода в фонтанах – одни только люди четвертый день смотрели на все это полными ужаса и страха, безумными глазами, не в силах уверовать, что все это творится на самом деле, а не в кошмарном сне.
Да и может ли такое статься?.. Можно ли в такое поверить?.. Рим… непобедимый, несокрушимый, бессмертный Рим – urbs aeterna [7]7
Вечный город (лат.).
[Закрыть]гнездо волчьего племени, столица и владычица orbis terrarum – стал беззащитной добычей варваров?!. Верно, и впрямь близится час страшного суда… остается ждать последнего знамения… ждать призыва! Слышите?.. Уж не глас ли это архангельских труб?.. Замирают сердца, холодный пот струится по лбу, и не в одну душу вливается покой и облегчение: воистину лучше уж свету вовсе перестать существовать после позора Рима…
Аэций, однако, знает, что трубы, голос которых доносится от Милиарийских ворот, – это королевские вестготские трубы, а не архангельские. Двухлетнее пребывание в лагере Алариха раскрыло ему все особенности жизни варваров, тайники их души и нравов, способы правления и борьбы, но прежде всего заставило его так выучить готский язык, что златоволосый стражник, которому молодой заложник отдал свой пилеол, не может поверить, что это настоящий римлянин, а не гот на имперской службе. И его одного из всех вверенных его попечению заложников и пленников он дарит почти дружеским доверием, делясь с ним своими тревогами. Ведь это же счастливейшие дни его жизни, а радость и гордость просто распирают его сердце при мысли, что это его народ… его король первым вошел в стены столицы мира. Ну, а вдруг это все-таки святотатство?.. А вдруг разгневанный бог, владыка мира, отвратит свой лик от набожного племени готов и нашлет на них беды и мор?.. Ведь каждый самый ничтожный прислужник в войске короля Алариха знает, что Рим – это город, особенно угодный небу… Это правда, хоть и странным кажется, но сущая правда: ведь никогда, никогда нога завоевателя не переступала границ города, никогда ни один неприятель не дерзнул вторгнуться в Рим – разве это не явное, хотя и странное и непонятное покровительство божие?.. Пожалуй, наоборот, даже не бог, а злые духи опекают этот город, – а ведь это еще хуже!.. Златоволосый воин бледнеет и дрожащей ладонью крестится – и как он раньше об этом не подумал?.. Ведь теперь все разъяренные демоны, или, как их там называют, эоны, будут нещадно мстить всему готскому народу за то, что тот первым осмелился вторгнуться в охраняемый ими город?..
Аэций не отвечает. Он думает о том, чего никогда в голову не придет готскому воину… чему он никогда не поверит, если даже ему и скажут. О том, что не в первый раз нога завоевателя переступает границы города… не первый это неприятель, что дерзко и безнаказанно осмелился вторгнуться в Рим. Ровно восемьсот лет назад другой варвар, также с севера, столь же победно вошел в волчье логово. Глубокая, почти трагическая складка прорезает вдруг лоб юноши: да, все вроде бы так же, а на самом деле совсем иначе. Аэций знает об этом. Он знает, что на Римском форуме не уселись спокойно в курульных креслах седобородые сенаторы, кутаясь в белоснежные тоги, с белыми тростями в руках. Он знает, что ни один Манлий не бдит на Капитолии и ни один Камилл не подоспеет в последний момент отрезать врага, не перетянет чашу весов и не противопоставит бессмертному возгласу Бренна [8]8
Бренн – вождь галлов, занявший Рим в 390 г. до н. э.
[Закрыть]: «Vae victis!» [9]9
Горе побежденным! (лат.).
[Закрыть], столь же бессмертное: «Золото у нас для друзей, для врагов – железо!» Ничего, ничего из всего этого не повторится чудесным образом сегодня, спустя восемь веков… ничего, кроме: «Vae victis!»
Два года назад лишил король готов Рим золота, серебра, пурпура и сынов лучших родов. Год назад пурпурной мантией и диадемой украсил первого с краю сенатора, на котором остановился его взгляд, и сказал: «Римляне, вот ваш император! Я так хочу!» А сегодня лишает остатков того, что осталось от имущества, чести и величия, и, кроме того, лишает жизни… той самой жизни, о которой сказал некогда, что она ему ни к чему…
Правда, лишает не всех. Аэций слышит, как один из его товарищей по неволе и долгим скитаниям с готами, заложник, старый священник в опрятной коричневой пенуле, устремив к небу влажные, как на египетских изображениях, глубоко разрезанные глаза, громко призывает благословение господне на главу набожного и человеколюбивого короля Алариха. Хоть и еретик, но разве не истинно набожен и человеколюбив?.. Разве не даровал жизнь и здоровье всем, кто укрылся в христианских храмах?.. Осанна!








