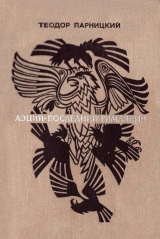
Текст книги "Аэций, последний римлянин"
Автор книги: Теодор Парницкий
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 22 страниц)
С издевательской улыбкой на гладко выбритом красивом лице Литорий прошел в погруженную в полумрак комнату, где его ожидали с сильно бьющимися сердцами четыре престарелых длиннобородых епископа. Один из них, у которого борода была сильнее припорошена сединой, стоял несколько в стороне. Когда Литорий стал на пороге, все четверо благословили его, осенив крестом, но он даже головы не преклонил. Какое-то время он пытливо и иронически разглядывал их и наконец разразился громким смехом.
– Неужели у короля готов не хватает отважных воинов и знатных людей, – воскликнул он, – и некому даже поручить посольство?.. Нет никого, кто разбирался бы в воинских делах, а не только умел произносить проповеди да бубнить молитвы?!
– Король готов, – с достоинством ответил один из епископов, – намеренно посылает к тебе, сиятельный, не воинов и не знатных людей, а только слуг Христовых, чтобы там, где окажется бессильной речь мудреца, подействовало бы слово божье…
Еще громче рассмеялся Литорий…
– Это значит, что храбрый король Теодорих прячется за алтарь и молит о милости и пощаде, заклиная меня – вашими устами – словом своего бога… Бога слабых людей – женщин, евнухов и рабов… Теперь я понимаю: ни один отважный воин или знатный человек не захотел взяться за такое посольство… все предпочитают полечь завтра в последней битве готского народа, за что я велю воздать честь их телам!.. Поистине этот Христос превращает в воск сынов мужественного народа! Вместо четырех почтенных, покрытых шрамами полководцев я вижу четырех плаксивых арианских епископов, которые…
– Не четырех – троих, сиятельный, – резко прервал Литория тот епископ, который стоял сбоку. – Я не гот и не арианин… Я Ориенций из Августы Аускорум, правоверный епископ и римлянин…
– Неужели?! – в голосе Литория прозвучала нота неподдельного, хотя и еще более иронического удивления. – И вы стоите рядом?.. Еще не загрызли друг друга насмерть?.. А как же единосущность… и подобосущность?.. Как же ты можешь, святой муж Ориенций, спокойно смотреть на мерзких богохульников, которые отказывают распятому на кресте в единстве с божеством?.. Я бы на твоем месте не потерпел…
Неожиданно все его лицо, искривленное гримасой гнева, преобразилось, с красивых тонких губ исчезла ироническая улыбка.
– Римлянин?! Ты римлянин?! – крикнул он с бешенством. – И приходишь ко мне, к римскому полководцу, с посольством от варвара?.. Вместо того чтобы радоваться близкому избавлению от народа, который вторгся и осквернил владения священного, вечного Рима, ты смеешь…
– Я смею стать перед твоим лицом, жестковыйный солдат, и сказать: я люблю Рим, но, как велел Христос, люблю и ближнего своего. Кто же мой ближний?.. Перс, брит, вандал, гот, так же, как и римлянин. Хватит крови, сиятельный… Хватит убийств, насилий, пожаров… у тебя столько славы и триумфов, ты столького достиг, храбрый Литорий… не бросай вызов богу… послушай его слугу, который приносит тебе мир… И какой мир!..
Условия мира были действительно так выгодны для империи и так унизительны для Теодориха, что Литорий какое-то время даже раздумывал над тем, как ему поступить. Однако когда Ориенций неосторожно упомянул, что не только готы, но и римское население чает мира, так как больше страдает от союзных Риму гуннов, чем от народа Теодориха, Литорий взорвался, подхваченный новой волной яростного гнева.
– Я не безумец, и не женщина, и не священник, – воскликнул он, – чтобы выпускать зверя, когда он попал в сети! Мне некогда вести праздные разговоры… Возвращайтесь к себе… Вы умышленно отнимаете у меня время, когда Теодорих готовится к сражению…
– Ошибаешься, сиятельный, – сказал один из арианских епископов. – Король Теодорих не чинит никаких приготовлений… Не питает никакой надежды на спасение, не уповает ни на кого и ни на что, кроме бога нашего… В рубище, босой, с главой, посыпанной прахом и пеплом, ходит он по улицам города, громко призывая милосердие божье.
– Не бросай вызов богу, храбрый Литорий, – подхватил Ориенций. – Ты силен и близок к победе, но не известно, кому господь дарует завтра день триумфа…
– Не известно? Действительно не известно… Но погодите минутку: сейчас мы узнаем… И я тоже обращусь к богу, как и Теодорих…
Он хлопнул в ладони и не успел еще выпить кубок массикского вина, как погруженная в полумрак комната наполнилась женщинами, римскими комесами, германскими и гуннскими вождями и какими-то странными фигурами в белых, закрывающих все тело и голову покровах, с ножами в руках. Литорий велел подать большую чашу с вином. Мгновенно осушил ее и велел наполнить снова. Лицо его разгорелось, волосы растрепались, глаза сверкали дико и радостно. Странные люди в покровах наклонились на полу над чем-то живым, трепещущим, хрипло кудахчущим… Брызнула кровь… И тут же отхлынула кровь от лица даже самых храбрых солдат. Литорий взглянул на смертельно бледных Рицимера, Вита и других комесов, на искаженные страхом лица женщин, на склоненных, полных опасения и одновременно лихорадочного любопытства гуннских вождей, наконец на епископов… Все четверо стояли, прижавшись друг к другу, закрыв лицо руками, с трясущимися коленями…
– Гляньте, – сказал Литорий, – их уже не разделяют единосущность и подобосущность! По-братски жмутся друг к другу, соединившись в варварской ненависти ко всему римскому.
Люди в белых покрывалах, обильно запятнанных кровью, высоко подняли дымящиеся птичьи внутренности.
– Что скажут гаруспиции? – снова нарушил смертельную тишину голос Литория. – Каково божье вещание прочитали по внутренностям священных жертв?..
– Ты победишь, вождь!
Литорий радостно схватил вновь наполненную чашу. Быстрым движением наклонил ее, вылив на землю почти половину вина.
– Тебе, могущественный бог… тебе, Марс, Квирин, отец и друг храбрых, приношу эту жертву, прежде чем завтра принесу другую, стократ больше и приятнее твоему благородному, не женскому, не назаретянскому сердцу!.. Видели, святые мужи?.. Зачем мне мир с Теодорихом, если боги обещали завтра победу?.. Возвращайтесь и скажите, что за все, что при Аларихе перенес от готов Рим, завтра стократно расплатится Толоза – только церкви не будут ни для кого убежищем… А ты, Ориенций, скажи толозским римлянам: пусть с рассветом ударят на готов или покидают город… Кого я застану в городе бездеятельным и безоружным – всех отдам своим, храбрым гуннам!
А назавтра…
– Назавтра, – усталым голосом продолжает после краткого перерыва свой рассказ свев Рицимер, – в полдень закатилась римская слава… Гунны навалом легли под стенами Толозы, лишь небольшой группе удалось спастись… Раненый Вит и я – истекающий кровью – еле удержали строй… вывели войско на дорогу к Элузии… Треть осталась там…
И через минуту добавил:
– Ессе Deus Victor… [84]84
Се победитель – бог (лат.).
[Закрыть]
Марцеллин и Меробауд молчали. Аэций, не отрывая глаз от надписи на памятнике Констанция, глухим голосом спросил:
– А Литорий?..
Рицимер пожал плечами…
5
Молоденький нарбонец Леон долго колебался, прение чем взять в руки большой тяжелый камень. Ведь он же римлянин! Правда, он уже давно убедился, что галльским римлянам гораздо лучше живется под властью короля Теодориха, чем во Второй Аквитании, где все стоном стонут, не в силах больше выдерживать гнет союзных гуннов; да и сам он во время осады Нарбона имел возможность во владениях своего отца сравнить поведение готов с действиями союзников, но ведь все-таки он римлянин и никогда не решится… Беспокойно смотрит он вокруг: в двойном шпалере, тянущемся вдоль всей улицы, римлян немногим меньше, чем варваров. И почти у каждого в руке большой тяжелый камень. Нарбонец Леон начинает успокаиваться. Он еще очень молод, но голова у него – как утверждают учителя – не по годам: он уже изучал логику и умеет ясно, умно рассуждать. Почему он здесь, в Толозе?.. Он укрылся здесь вместе с братом матери от гуннов Литория. Но ведь он римлянин, и Литорий тоже. Все это так, но, во-первых, брата его матери, посессора из-под Элузии, король Теодорих и прославленный полководец Анаолз дарят особливым вниманием, а во-вторых, победа над Литорием – это не столько триумф готов над римлянами, сколько над самыми дикими из варваров – гуннами, а прежде всего триумф христианского бога над мерзостным языческим колдовством! И наконец, разве Литорий не обещал отдать всех римлян Толозы своим гуннам?! Значит, он-то не смотрел на то, что он римлянин и они римляне?.. Вот и они теперь не посмотрят на это: им ближе король Теодорих, чем мерзкий язычник и вождь диких, языческих гуннов Литорий… И поступят с ним так, как учит Ветхий завет… Леон с болезненным напряжением морщит лоб: видимо, он еще молод и мало учен, чтобы разрешить эту задачу: что важнее?.. Общность romanitatis или общность веры? Нет никакой общности веры: ведь готы – это еретики… Мысль юнца работает быстро, лихорадочно… Еретики, но христиане… а Литорий, хотя римлянин, как я, но кощунствовал и святотатствовал, оскорбляя Христа…
– Ведут! Ведут! – послышались громкие крики.
Пальцы всех людей, как по команде, крепче сжали камни. Крики доносились слева – прежде чем взглянуть туда, Леон обратил взгляд вправо, где в конце улицы виднелось большое возвышение, там сидел, окруженный самыми прославленными готскими воинами, король Теодорих со всей своей семьей: жена, шесть сыновей (двое из них еще совсем младенцы) и две дочери.
С той стороны протискивался к Леону друг и благодетель брата его матери, могущественный вождь Анаолз. Он дружелюбно улыбался юнцу, стискивая в руке камень, в три раза больший, чем тот, который держал нарбонец.
– Сейчас начнем, – сказал он почти весело, и Леон почувствовал, как сильная дрожь пробежала по его телу.
Крики «Ведут, ведут!» все приближались. Леон знал, что еще ничто не началось и не начнется, пока приговоренного не подведут близко к возвышению, чтобы королевская семья – включая дочерей и маленьких ребятишек – могла докинуть до него камень, что должно явиться знаком начала казни. А Леон никак не мог побороть все усиливающуюся дрожь и все же упорно смотрел влево. Шум приближался. Наконец он увидел…
Первым шел высокий рыжеволосый гот с очень гневным выражением лица. За ним другой гот, бородатый, седеющий, с бесстрастным лицом – с таким, какие Леон привык видеть в Нарбоне у императорских чиновников, когда они выполняли свои служебные обязанности. У обоих к поясу были привязаны цепи, соединявшие их с приговоренным. Леон застывшим от страха взглядом впился в его лицо: он был готов увидеть человека, обезумевшего от ужасной, звериной тревоги или хотя бы скорчившегося, мрачно сгорбившегося и еле волочащего трясущиеся ноги… Изысканно одетый, умащенный благовониями, завитый, гладко выбритый Литорий шел свободным, бодрым шагом, как будто на пир… радостный, улыбающийся!..
Леон вдруг почувствовал тошноту и резкую, до боли, пронзительную спазму в горле. Он еще раз бросил взгляд на улыбающееся, веселое лицо Литория… быстро выпустил камень и с пронзительным возгласом: «Не могу… не могу!» – разразился громким плачем, закрывая руками глаза и затыкая пальцами уши. «Ничего не видеть… ничего не слышать…»
И в эту минуту первый камень, ловко брошенный рукой третьего королевского сына Фридериха звонко ударился в лоб приговоренного. Два гота быстро отскочили в стороны, натянув концы цепей, которыми были связаны за спиной руки Литория, не давая ему заслоняться от ударов. И тут с обеих сторон шпалера посыпались сотни камней. Громкие крики: «Язычник!.. Святотатец!.. Убийца! Палач готского народа!..» – заглушили стон, сначала тихий, напоминающий смех… потом усиливающийся, но еще глухой, хриплый… Леон не смотрел. Он весь корчился, когда до слуха его доходил глухой, хриплый, животный вопль… Он был счастлив, когда звуки эти заглушил на минуту Анаолз, издевательски крикнув ему:
– Римлянин, ты – баба… даже за оскорбление Христа отомстить не можешь!..
И вновь хриплый, все чаще обрывающийся стон и стук падающих камней.
Около четырехсот камней лежали не на середине улицы, а под ногами дико воющей толпы: ни один римлянин не бросил своего камня в идущего вдоль шпалера святотатца… палача… предводителя диких гуннов!..
Неожиданно хриплый стой перешел в пронзительный дикий крик… и вновь… и вновь… А потом глухое, звериное рычание… И снова крик… И шум тяжело падающего тела…
– Встает… идет… прокусил себе язык… лица уже не видать… О, о… снова падает… Бросайте… бросайте… Пусть встанет… Поднимается, поднимается!..
Нарбонец Леон чувствует, что предпочел бы умереть, только бы не слышать этих криков. Но умереть иначе… Не так… Не так… На миг он отрывает руку от глаз, но смотрит не туда, не на середину улицы, не на мерно – потому что все замедленнее, – поднимающиеся и швыряющие камни сотни рук… Он смотрит на гота Анаолза. Багровое обычно лицо великого воителя – еще минуту назад такое же, как всегда, – теперь белее туники Леона.
Массивная челюсть трясется, громко стучат большие белые зубы… В широко раскрытых глазах стынет ужас.
Губы его шепчут:
– Падает в третий раз.
Марцеллин тактично отворачивается. Меробауд закрывает глаза. Рицимер опускает взор к земле. Пусть знает Аэций, что ничей нескромный, дерзкий взгляд не осмелился следить, как оплакивает друга могущественнейший муж империи. Слезы могут свободно потоками стекать по грубо вытесанным скулам, скапливаться в искусно завитой бороде. Рицимер в душе не одобряет оплакивания заслужившего смерть мерзкого язычника, высокомерного кичливца, почти безумца… Но и он думает то же, что два друга: может ли быть большее счастье, чем гибель, почтенная слезой Аэция?!
На форуме Траяна начинается движение. Уже половину Рима облетела скорбная весть о страшном поражении и ужасной смерти Литория. К памятнику Констанция быстрым шагом устремляются любимец императора Вегеции Ренат, консул Фест и magister officiorum [85]85
Начальник канцелярии (лат.).
[Закрыть]. Подъезжает и Секст Петроний Проб. После ненастной ночи начинается ясный, солнечный день. Следы слез тут же исчезают с лица Аэция. Он приветственно вскидывает ладонь и говорит:
– Пожалуйста, Секст, уведомь в полдень Пелагию, что я уехал.
– Куда?..
– В Галлию.
6
Приближался префект претория. Сначала торжественно внесли и поставили на мраморную плиту круглого стола огромный стофунтовый чистого золота пенал. Потом вошел в комнату одетый в затканный серебром далматик молодой магистриан с серебряной, искусно отделанной чернильницей, неся ее на далеко вытянутых руках с таким почтением, словно это был священный церковный сосуд. Наконец появился сам Авит. На нем был торжественный официальный наряд mandyes, почти императорский пурпур, но достигающий лишь до колен, а не до пят. При виде его Меробауд, Марцеллин и Рицимер преклонили колени. Аэций подумал с раздражением: «Что за дурацкий обычай, чтобы военные вставали на колени перед гражданским сановником только потому, что некогда префект был военным титулом…»
С раздражением, но и с некоторым удивлением (скорее неприязненным) присматривался он к новому префекту претория Галлии. Мог ли он девять лет назад, когда после Колубрарской битвы провожал иронической усмешкой отправляющегося к готам молодого Авита, предполагать, какие результаты даст эта поездка?! Какое влияние будет она иметь на последующую историю?! Разве мог он предположить, что вот теперь – после поражения Литория – благословлять будет ту минуту, когда изнеженный сенаторский сынок вздумал отправиться к варварскому двору Теодориха с просьбой вернуть матери римского заложника?! Потому что Мецилий Авит не только добился освобождения юного Теодора, но и своим поведением и искусством речи так очаровал короля вестготов, что сразу стал его другом, близким товарищем и советником, а вскоре – когда Теодорих убедился в большой учености юного посессора – учителем старших королевских сыновей, перед которыми раскрыл весь неведомый и манящий мир всеведения, прежде всего пробудив в ребяческих, грубых, жадных к знанию и впечатлительных умах любовь и преклонение перед прекрасной римской речью, перед волшебством поэзии и величественным благородством прозы. Вскоре он уже имел при толозском дворе такой вес, что помощь его стала просто необходима как для Теодориха, так и для префектов претория Галлии, когда заходила речь об улаживании отношений между готами и империей. В Толозе он выступал как рьяный поборник прав империи над отданными готам провинциями: римское население этих земель благословляло его как своего защитника и опекуна; в Арелате же он настойчиво провозглашал лозунг вечного мира между империей и самым сильным из варварских народов, усматривая в узах этих двух сил залог целостности и нерасторжимости империи и обуздания аппетитов других племен, ощипывающих со всех сторон владения Рима, его авторитет и идею римского мира. Он был противником дальнейших захватов со стороны готов: когда Теодорих, обеспокоенный триумфом Аэция над бургундами и его союзом с гуннами, осадил Нарбон, – Авит перестал бывать в Толозе и учить королевских сыновей. Так же искренне он радовался первой победе Литория, но настаивал на немедленном заключении мира на тех же условиях, что и семь лет назад. Когда же Литорий стал затягивать войну, он, оскорбленный, совсем отошел от общественной жизни, отсиживался в тиши своих арвернских владений, которых не покидал до той поры, когда после поражения Литория воля императора и патриция призвала его на должность префекта претория Галлии; и в Риме и в Равенне хорошо знали, что более или менее почетное окончание готской войны – столь недавно еще победоносной и сулящей такие блистательные виды – находится единственно в руках Авита. Правда, Аэций, вернувшись в Галлию, пытался предпринять военные шаги против вестготов, но войско было основательно разбито, рассеяно и настолько утратило боевой дух, что даже прибытие патриция не в состоянии было пробудить воинского рвения. Куда хуже было настроение галльского населения, особенно Нарбонской провинции и аквитанской Галлии: богатые посессоры – так же, как и города – вслух высказывались против дальнейшей войны. Аэций был удивлен и серьезно встревожен той неприязнью, которую Литорий и гунны вызвали во всей западной и южной Галлии. Население бурно требовало вывести гуннские отряды; а без них римское войско неспособно было победно сражаться с готами. Значит, единственным выходом оставался мир. Аэций знал, что и в этом вопросе он может полагаться единственно на префекта претория и заранее должным образом оценивал все значение услуги, которую Авит может оказать империи. И все же, несмотря на это, а может быть, именно поэтому, он не мог сдержать раздражения и неприязни, которые вызывал в нем вид префекта, так что, когда комесы и чиновники покинули комнату, оставив сановников одних, он не мог удержаться, чтобы не подпустить шпильку:
– Говорят, во время последней войны, сиятельный, свойственники и друзья твои Оммаций, Фаустин и Домиций геройские дела творили: где и как могли, трепали крылья императорского войска…
Авит устремил на Аэция спокойный, полный достоинства взгляд.
– Поистине обижаешь ты меня, славный муж, не изволив и меня упомянуть в связи с этими делами… Не раз и не два я во главе своих букцилляриев и колонов должным образом проучил самых лихих грабителей, каких знает мир, – гуннов…
– И ты смеешь об этом говорить, сиятельный префект?! Ты знаешь, что за такое дело, как за обычную измену, надо вешать… рубить… конфисковать имущество?!
– Знаю… Я видел целые поместья, развеянные с пеплом… видел целые леса повешенных… сенаторов и посессоров, закованных в цепи… Сиятельный Литорий отлично преследовал и карал измену. Налетают дикие гунны в городок, в виллу, в деревню… Грабят, бьют… насилуют женщин… режут скот… Когда же чья-то рука поднималась для защиты, вмешивается военный закон в лице начальника конницы и восклицает: «Измена… пособничество готам… насилие над союзниками!» А потом огонь, меч, виселица, цепи… Некоего почтенного сенатора из Битуригии кинули в тюрьму, потому что он действительно не знал, кто же собственно враг, а кто союзник: гот или гунн?!
Аэций не спешил с ответом. Какое-то время молча разглядывал он префекта: его пурпур, маленькие холеные руки, бороду с золотистым отливом, небольшие, очень стройные ноги, гемму на мизинце правой руки. И только когда заметил, что испытующий вопросительный взгляд Авита начинает выражать превосходство и торжество, – он негромко, но отчетливо, твердо и резко сказал:
– Ты хорошо сказал, сиятельный Мецилий: военный закон… Тяжелый это закон, но самый главный… Мне ли тебя учить, потомка стольких поколений сенаторов, что salus rei publicae suprema lex?.. [86]86
Общественное благо – высший закон (лат.).
[Закрыть]Согласен. Гунны были непокорны, обременительны, нередко буйны, жестоки и дики. Но они сражались за римский мир. Что значат десятки сожженных деревень, разрушенных вилл, разграбленных поселений, когда те, кто жег, разрушал и грабил, несли на своих копытах и на остриях своих мечей победу Рима.
Авит весело рассмеялся.
– Несли, да не донесли, Аэций. В том-то все дело. Зачем же были все эти жертвы, которые население Галлии – неважно, добровольно или нет – должно было приносить дикости союзников pro saluta rei publicae, если все это завершилось только поражением и позором?! Я не одобряю того, что сделал Теодорих с захваченным римским полководцем, но воистину, Аэций, никогда ни один враг – внешний или внутренний – не причинил тебе, твоей славе и твоим трудам на благо римскому миру такого ущерба, как глупец, безумец и высокомерный гордец – истый пузырь, надутый пустой гордыней, – мерзкий язычник Литорий.
Аэций побледнел.
– Не смей так говорить о Литории, – еле сдерживая ярость, процедил он сквозь зубы, – это был мой самый дорогой друг… Позор тебе, Мецилий!.. Слышишь?.. Это я говорю тебе не как патриций префекту, а как полководец своему бывшему солдату: позор римлянину, который бесчестит умершего… пусть даже словом..
В свою очередь побледнел Авит.
– Я не хотел обидеть ни тебя, Аэций, ни твоих чувств… и не хотел бесчестить мертвого… Но я галл и христианин и сердце мое не может не кровоточить при виде бед, которые обрушиваются на мой край, и не могу не выказывать отвращение, когда полководец христианской империи, правая рука христианского патриция, отправляет богомерзкие обряды и свершает языческие гадания, бесчестит христовых епископов и само христово учение… Я не скрываю от тебя, Аэций: я радуюсь, вдвойне радуюсь поражению Литория. Во-первых, потому, что проявил свое могущество царь царей, справедливо, по заслугам распределив поражение и победу. А во-вторых, потому, что не удалось безумной голове твоего друга свершить жестокое, бесчеловечное намерение уничтожить народ, стереть с лица земли само имя готов…
Аэций смотрел на него уже без гнева, но с презрением и почти снисходительно.
– И это римлянин?! – воскликнул он голосом, полным издевки и горечи. – Посессор, сенатор и префект претория?! Поистине, как же еще может существовать Рим, и империя, и римский мир, если так разговаривают высшие императорские сановники?! Действительно, трудно поверить, Мецилий: неужели ты искренне хотел бы, чтобы над этим вот Арелатом, над Нарбоном, над Битуригией и твоими родными Арвернами простирал свою власть вестготский король, отторгнув их от единой Римской империи?
– Наоборот, Аэций… я ничего так не хочу, как вернуть империи Толозу, Новампопуланию и Аквитанию…
– Ты говоришь, как ребенок, сиятельный префект… как ребенок, у которого мячик упал в воду и который стоит на берегу, плача и вздыхая. Чтобы вернуть то, что у нас отняли варвары, требуется много жертв, крови, убийств, борьбы, уничтожений. И только действуя так, как Литорий, которого ты называешь жестоким и бесчеловечным, можно осуществить твои чаяния…
– Не только, Аэций… взгляни вот сюда налево…
Западную стену приемной комнаты претория украшала гипсовая группа: римский легионер в полном облачении времен Цезаря дружески пожимал локоть благожелательно улыбающегося галла с длинными, вислыми усами, в колючем шлеме на голове, в широких штанах на больших, толстых ногах, с огромным мечом в одной руке и продолговатым щитом – в другой.
– Вот другой способ, не по Литорию, – воскликнул Авит. – Разве не сражался Рим насмерть с галлами, Аэций?. А теперь разве сражается?.. Нет. Ведь и я галл… и твой комес Вит… и Аполлинарий… и Домиций… Мы живем, и не надо было ни нас, ни отцов, ни дедов наших истреблять огнем и мечом, чтобы навеки неразрывно соединить Галлию с Римом и римским миром. Это же можно сделать и с готами, Аэций… и право же, это единственное, что можно сделать, ведь весь народ все равно не перебьешь. Да, Аэций, вот настоящий римский мир. Какова же его цель?.. Уничтожить насилие, грабительство и дикий обычай, и всюду, где до сих пор господствовала только война, нести власть римского права.
Аэций усмехнулся.
– А когда во всем мире воцарится pax romana, то и войны навсегда кончатся?..
– Навсегда.
– А что будут делать те, которые лишь для того и живут, чтобы воевать?.. Что, например, будут делать гунны?.. Неужели и их дикость и воинственность укротит благословенный римский мир?..
У Авита загорелись глаза.
– А ты можешь приручить пантеру или волка, Аэций! – воскликнул он с величайшим волнением. – Ты спрашиваешь, что будут делать те, кто лишь для того живет, чтобы воевать?.. О, Аэций, им хватит работы: можно обработать любое поле, но сначала надо вырвать сорную траву. Вот они и будут уничтожать сорняк: диких, жестоких, не способных к приручению… бешеных двуногих зверей – гуннов!.. Да, Аэций… двуногие звери – это не люди!.. Взгляни на гота и на гунна… Разве германский варвар не больше похож на римлянина, чем гунн вообще на человека?.. Ты знаешь их нравы, обычаи, хорошо знаешь эти корявые тела… раскосые глаза, ни на чьи больше не похожие… эти обезьяньи лица… Твоя достойнейшая супруга, дочь Карпилия, происходила из готского народа… Разве она была тебе мерзка в постели?.. Разве ты стыдился показаться с нею на форуме?! А вот на гуннской женщине ты никогда бы не женился, Аэций, как лев не женился бы на верблюдице или гиене… Готы и римляне – это далекие родичи, только не поладившие, Исав и Иаков… Исаак и Измаил… Но гунны – это даже не далекие родичи… это лемуры… это демоны в якобы человеческих телах…
«Изрядно, видимо, они у тебя пограбили владения», – раздраженно думает Аэций и говорит:
– Что же касается войны с готами…
– Лучше не надо о войне… не будем терять времени, – все еще взволнованно восклицает Авит. – Я знаю, чего ты хочешь от меня… Сегодня же я отправляюсь в Толозу, но ты вновь признаешь за Теодорихом все то, что было после Колубрарской битвы…
Аэций удивленно смотрит на него.
– Ты думаешь, что он не потребует большего?.
Авит пожимает плечами.
– Из-за клочка Второй Аквитании мы спорить не станем… но больше я не дам ему ничего…
Аэций хочет подать ему руку. Он уже было протянул вперед пальцы. Но раздумал.
Меробауд громко читает новую оду. Марцеллин время от времени сдерживается, чтобы не взорваться: что за варварские обороты!.. Какая небрежная метрика!.. Разве можно таким образом пользоваться зевгмой и анафорой?! Аэций даже не притворяется, что слушает: ода воспевает пятидесятую годовщину его рождения, но до этого дня еще далеко, – Авит же все еще не вернулся и не прислал никакого известия. Загребая большими ступнями разноцветные плиты мозаичного пола, патриций в сотый раз меряет быстрым шагом просторный таблин. Неожиданно он останавливается. За дверью слышны голоса.
– Это что, сиятельный префект вернулся? – спрашивает он торопливо у вбежавших в таблин людей.
– Нет… это гонец прибыл из Италии… Горе империи! Горе правоверным! Дерзкий Гензерих вторгся в Проконсульскую провинцию, четырнадцатого перед октябрьскими календами занял Карфаген… Святого епископа Квотвультдея без весел и пищи вытолкнул в лодке в море, на верную смерть… Но бог опекал апостольского мужа… прибил его к италийскому берегу…
Марцеллин и Меробауд вскакивают.
– Передадите префекту, что я уехал, – спокойно говорит Аэций охваченной страхом толпе, уже заполнившей таблин.
– Куда, сиятельный?..
– В Италию.
7
В перистиле ожидают посланцы Сигизвульта. Главнокомандующий торопит патриция, чтобы тот как можно скорее ехал в Неаполь. Вот уже тридцать лет, со времен нашествия Алариха, не грозила Италии такая страшная опасность, как ныне. Вся восточная Африка – Проконсульская провинция и Бизацена, не говоря уже об остатках Нумидии – захвачена вандалами. Их корабли не только нападают на плывущие из Испании и из Восточной империи галеры, но и появляются уже у самых италийских берегов. В Сицилии Гензерих осадил Лилибей и перебрасывает из Африки все новые и новые войска. В любую минуту он двинется к Италии. Правда, Аэций тоже перебросил через Альпы почти все галльские легионы, но они еще тянутся под Медиоланом и Равенной; а у Сигизвульта нет даже половины италийских войск: нет ничего, кроме трех палатинских легионов и одиннадцати ауксиларных, а что это по сравнению со страшным Гензерихом?… Сигизвульт вот уже две недели ожидает прибытия патриция в Неаполь: Аэций был в Риме и вот снова вернулся в Равенну! Посланцы имеют приказ на коленях молить патриция, чтобы он не медля – не ожидая завтрака – сел на коня и отправился в Камианью. Но вот они уже час стоят в перистиле, и их все еще не допустили к патрицию… Их охватывает раздражение. Что может делать Аэций?.. Им говорят, что он закрылся в библиотеке с Вегецием Ренатом. В действительности же Ренат с раннего утра не покидал еще ни на минуту священный дворец, где читал императору новые главы своей книги о военном искусстве, а патриций даже не заглядывал сегодня в библиотеку. Только что он вернулся из Классийского порта, где осмотрел с Марпеллином корабли, на которых собирался перевезти из Иллирии вспомогательные войска, направленные на помощь Западной империи Феодосией – императором Восточной империи, и тут же, выскочив из колесницы, быстрым шагом, почти бегом устремился к гинекею. Ему сказали, что Пелагия одна в маленьком садике. Действительно, она была там, прохаживалась по солнечной стороне, глубоко погружая ноги в мягкий, сильно нагретый лучами песок. Это напоминало ей детство… Африку… Думая об Африке, она отнюдь не испытывала радостных чувств: вот она и потеряла все. Вандалы захватили достояние Пелагиев – ничего у ней не осталось. Но, увидев Аэция, она просветлела. Когда он подскочил к ней, весь дрожа от лихорадочного любопытства и тревожного волнения, она не могла не улыбнуться, хотя и опустила стыдливо глаза к земле…
– Это правда?.. – спросил он дрожащим, тихим, пресекшимся голосом.
Она кивнула. Тяжело дыша, сжимая и разжимая кулаки, он долго испытующе смотрел ей в глаза… Потом опустил взгляд ниже. Она почувствовала, что ее заливает волна горячего румянца.








