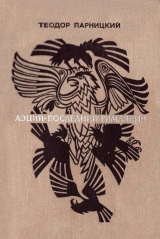
Текст книги "Аэций, последний римлянин"
Автор книги: Теодор Парницкий
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 22 страниц)
Двойная победа

1
Длинной и утомительной была обычно дорога от церкви святой Агаты до великолепной инсулы, которую поднесли еще Бонифацию в дар три набожные вдовы из знатного рода Наулинов вскоре после прибытия его из Африки, желая таким образом почтить его ревностность в вере. Но в этот день Пелагия, следуя в лектике, которую несли четыре привезенных ею из родных краев нумидийца, казалось, вовсе не замечала расстояния – настолько ее поглотили размышления над тем, что она видела и слышала в церкви. У священника, который совершал заключительное благословение во имя подобосущного отцу Христа искупителя, был и вид и голос препозита из аукенлариев. Но диакон!.. Разве не был он похож на архангела Рафаила, каким она видела его на диптихах?! Он тоже был гот – но так мало в нем было всего, что в ее понятии неразрывно связывалось с типом гота! Скорее уж по виду – если бы не эти голубые глаза и золотистые волосы – один из тех греческих или египетских священников и монахов, которыми закишела последнее время Италия и которые проповедуют новое и непонятное для Пелагии учение, что дева Мария была матерью не только Христа-человека, но и матерью бога… Но что особенно затронуло в тот день ум и душу Пелагии, так это с детства любимая евангельская притча о сеятеле, которую она сегодня услышала впервые на готском языке. Как же молодой диакон не походил ни в чем ни на Сигизвульта, ни на одного из его солдат. И в падающих с амвона словах евангелия, переведенного на готский епископом Ульфилом, – непонятных и все же полных какого-то дивного очарования – ничто не напоминало Пелагии тех готских приказов и окриков, к которым привыкло ее ухо за время осады Гиппона. Она чувствовала себя счастливой и гордой, что именно ее вера – ненавидимое и поносимое здесь, в Италии, учение Ария – провозглашает слово божье не только на языке римлян, но и языком варваров… «Совсем как апостолы, что сразу говорили на разных языках!» – думала она в восторге, не подозревая, что через минуту ее ждет новая радость, уже иного рода, хотя проистекающая из того же самого источника.
Когда лектика свернет с Аргилета на улицу Патрициус, взгляд Пелагии заметит большую мраморную плиту с золотой надписью. Тихий хлопок в ладони – и тут же замрут черные нумидийцы. Ее маленькие руки с дрожью раздергивают укрывающие лектику завесы: святая Агата, неужели действительно возможно такое счастье?! Пелагия не верит собственным глазам… Она читает надпись десять… пятнадцать… двадцать раз… А когда велит отправляться дальше, то на каждом углу, на каждом перекрестке, под каждым портиком вновь будет звучать повелительный хлопок: стойте! Потому что до самого дома с каждого перекрестка, из-под каждого портика бьет в глаза одна радостная весть-весть, гласящая, что на близящийся новый год – десятый год счастливого царствования великого Валентиниана Августа – консулом Западной империи будет провозглашен сиятельный Флавий Ардабур Аспар… Аспар – человек ее веры… пожалуй, первый со времен Констанция Второго консул-арианин! Чувство беспредельного счастья и гордости наполнило душу Пелагии.
С тех пор как она стала вдовой, еще больше возросли ее набожность и ревностность в делах веры. Хотя она искренне оплакивала Бонифация и упрекала себя в том, что лишь после смерти оценила все величие и благородство его души, но ведь не могла же она, особенно в период возросшей набожности, не изведать чувства какого-то облегчения при мысли о том, что наконец-то борьба закончилась и уже никто не возмутит спокойствия ее духа, никто не воспрепятствует ей в самом важном деле: в воспитании дочери по учению Ария. Жила она замкнуто, в полном уединении, необычайно скромно, несмотря на то, что считалась одной из самых богатых женщин империи и действительно была ею. Но вторжение Гензериха в Африку лишило ее всякой связи со своими владениями; а то, что имелось у нее в Италии, хотя все еще делало ее предметом всеобщей зависти, никак не являлось тем, что – по словам умирающего Бонифация – было необходимым спасающему римский мир Аэцию…
Об этом своем женихе – как она иногда с грустной улыбкой называла его в разговорах с самой собой – она думала удивительно мало, а последнее время почти не думала. Не знала, где он, что с ним. Наверное, нет уже в живых. В тот день, когда Аспар будет провозглашен консулом, исполнится год и четыре месяца с той поры, когда она имела последнюю весть об Аэции. Он бежал за Адриатику на маленькой старой галере… бурной, ужасной ночью… И может быть, как раз тогда и погиб?! Бежал, не отвоевав Бонифациева наследия, всеми покинутый, побежденный, чуть ли не обезумевший от стыда и отчаянья… преследуемый, как самый дикий, опасный зверь! Ненависть к Аэцию оказалась в Плацидии сильнее, чем дружба к умершему комесу Африки. Она преступила последнюю волю Бонифация. Того, кого он нарек своим преемником, она объявила врагом империи и римского мира… Конфисковала его имущество… Требовала его головы и публичного позора. Сигизвульт и на сей раз сохранил ей верность: италийские войска не устремились в бой для защиты последней воли Бонифация. Астурия же от этих дел отделяло море, Пиренеи, Альпы и яростные битвы со свевами. Дабы почтить мертвого друга, Плацидия нарекла патрицием его молодого зятя: она заранее была уверена, что Себастьян будет только слепым ее орудием… Дождалась наконец-то чаемой минуты: она действительно самовластная и единственная! Друзей и сторонников Аэция она лишила чести, должностей, влияния; honesta missio [59]59
Почетная ссылка (лат.).
[Закрыть]коснулась и – спустя неполных два года его службы – префекта претория Флавиана. В сенате она умышленно при каждом случае подчеркивала вопросы религии, стремясь таким образом противопоставить христианские роды дружественным Аэцию Симмахам и Вириям. Басса, несмотря на большой вес, который он имел, она отстранила от дел, зато всячески поддерживала Петрония Максима, именовав его консулом сразу же после Аэция. Консульство Аэция шло единственной уступкой, которую она сделала его сторонникам и всем требующим исполнения последней воли Бонифация: имени преследуемого бунтовщика не вычеркнули из списка консуляров, а бюсты с широким, грубым лицом украшали все общественные места еще и тогда, когда о том, кого они представляли, уже пропал всякий слух.
«Вот и не сбудется воля Бонифация… не будет Аэций мужем самой богатой землевладелицы Африки… не будет и salus rei publicae Occidentalis», – твердила про себя Пелагия, когда еще, бывало, обращалась мыслями к последним минутам умирающего мужа и к клятве, которую она ему дала. Ведь она же поклялась. И действительно, если бы Аэций вернулся и напомнил о своем праве, она, пожалуй, согласилась бы стать его женой. Но предпочитала, чтобы он не возвращался, а то вновь началась бы борьба из-за детей, которые появились бы, из-за их крещения и воспитания…
Только так она о нем и думала. А если иначе, то, пожалуй что, с сочувствием, которое выражают малоизвестным людям – тем, что умерли, не изведав радости и счастья, за которое всю жизнь боролись. Закончились res gestae [60]60
Деяния (лат.).
[Закрыть]Аэция, причем закончились куда лучше и благополучней, чем могли бы закончиться. Разве мало таких людей, о которых напишут хронисты: «Скончался во время своего консульства»?!
Когда лектика, несущая Пелагию из церкви святой Агаты, остановилась наконец перед действительно красивейшей в городе инсулой, майордом, который давно уже с нетерпением ожидал возвращения своей госпожи, торопливо подошел к ней и, согнувшись в низком поклоне, сказал:
– Какой-то благородный муж вот уже час ожидает тебя в атриуме, о достойнейшая! Совершенно не известный никому из домашних…
Удивленная, она поспешила в атриум, предшествуемая майордомом и двумя арианскими диакониссами, которые постоянно жили в ее доме и без которых она никогда не показывалась гостям. На ходу она тщетно пыталась угадать, кого через минуту увидит. Может быть, кто-нибудь из Африки? А может?.. Сердце резко заколотилось, и лицо побледнело от волнения: может быть, это сам святой епископ Максимин, до которого, наверное, уже дошла весть о ее ревностном почитании своей веры и который прибыл, чтобы лично дать ей благословение… Даже ноги подогнулись – воистину, неужели она могла ожидать чего-то большего?!
Благородный муж, однако, оказался, к великому удивлению Пелагии, абсолютно незнакомым юнцом, который – как только она появилась в двери – быстро вскочил с каменной скамьи и отвесил поклон, почтительный, но лишенный всякой униженности. Как бы то ни было, фигура у него действительно гордая и почти благородная, кроме того, он был вовсе даже недурен – с первого взгляда показался было Пелагии смешным: было в нем что-то от того, что в подрастающих юнцах страшно смешит их ровесниц. Но прежде чем она успела осознать, что бы это могло быть, она услышала голос, также очень молодой:
– Я приношу тебе, достойнейшая госпожа, привет от сиятельного Флавия Аэция…
Ошеломление… как будто от близкого удара молнии… и тут же возвращение в сознание… Первая мысль: «Отослать майордома и диаконисс…» Но юнец, как будто читая в ее душе, дружелюбно улыбается и словно с благодарностью нарочито громко говорит:
– Весь Рим не сегодня-завтра узнает о скором возвращении прославленного мужа… Но волей Аэция было, чтобы первой узнала об этом его невеста…
Диакониссы смотрят на Пелагию с тревогой и обидой. Значит, она не пополнит сонм святых вдовиц! Вот теперь по-настоящему подгибаются колени и бледность покрывает все лицо. Она опускается на каменную скамью, куда более взволнованная, чем при мысли встретить в атриуме епископа Максимина.
– Значит, он жив? – спрашивает она дрожащим голосом, и не известно, то ли это радость, то ли досадливое удивление, а быть может, разочарование и сожаление заставляют ее голос дрожать.
– Жив, достойнейшая, и, как я уже сказал, скоро возвращается в Рим…
Она внимательно посмотрела на него. В сердце ее вдруг стало закрадываться недоверие. А может быть, это какой-нибудь тайный агент Плацидии, нарочно подосланный, чтобы выведать, не знает ли Пелагия что-нибудь о своем женихе?..
– Кто ты, благородный господин? – спросила она строгим, пытливым голосом.
– Имя мое Марцеллин.
Это ей ничего не говорило. И то – как после этого она узнала, – что он из Далмации, тоже.
– Ты видел Аэция?
Он рассмеялся, как будто угадав причину ее недоверия.
– Пятнадцать месяцев исполнилось в последние иды, – воскликнул он, – как в бурную ночь одинокий путник постучал в дверь моего дома. Я узнал его сразу. А он, угадав это, сказал: «Я не знаю твоего имени, но отныне оно уже принадлежит историографам, что бы ты со мной ни сделал». Всю весну я скрывал его у себя, и не только ищейки и гончие Плацидии, которыми кишели Далмация и Адриатика, но даже ты не знала, где Аэций…
– Ты сказал: всю весну. Но ведь прошла вторая весна и лето, и осень уже кончается… Откуда ты знаешь, что сейчас, когда мы тут стоим, Аэций еще жив… что он был жив год назад?..
– Я видел его в сентябрьские иды и могу сказать точно, где – у границ Паннонии… в городе Бриганцие… Он велел приветствовать тебя и сказать, что ты скоро увидишь его в Риме…
Тут в свою очередь рассмеялась Пелагия.
– Я с радостью встречу его, как пристало его невесте. Но так же ли радостно встретят его Италия, город, сенат и прежде всего Плацидия?..
– Уверяю тебя, достойнейшая, что встретят его как патриция так же радостно, как восемь лет назад встречали его как начальника дворцовой гвардии… Ведь Аэций возвращается не один… его сопровождают тысячи гуннских воинов… Как только кончилась та первая весна, сиятельный изгнанник простился со мной и отправился к своему старому другу, королю Ругиле… А то, что владыка гуннов не оказался Эолом…
– Что это еще за Эол? – удивленно прервала она.
– Эол? – он столь же удивленно взглянул на нее. – Это бог ветров, который Улиссу…
– Бог ветров?! – воскликнула с величайшим возмущением Пелагия. – Ты веришь в какого-то бога ветров, благородный Марцеллин?..
– Я верю и в других богов, достойнейшая… во всех богов, сильных, мудрых и прекрасных… Вот и теперь, если бы я уже не осушил до дна кубок с массикским вином, которым угостил меня твой майордом, я бы с радостью стряхнул несколько капель в честь богини Венеры, дабы отвратить ее гнев и зависть… А она не может не испытывать их, видя ту, что как само счастье взойдет на ложе великого мужа, который изволит звать меня своим сыном…
Она гневно нахмурила брови.
– Ты издеваешься надо мной или лжешь, юноша. Я не верю, чтобы сиятельный Аэций звал своим сыном язычника, почитателя мерзких идолов и распутных богинь…
Марцеллин пожал плечами.
– Сиятельный Аэций, – ответил он все с такой же улыбкой, – слишком много видел в своей жизни стран, народов, храмов и алтарей, чтобы не понимать, что на самом-то деле существует почти столько же богов, сколько людских сердец…
Да, теперь Пелагии все ясно. Она уже знает, почему на первый взгляд Марцеллин показался ей забавным. Как же это получилось, что она только сейчас поняла, в чем дело, хотя давно уже разглядывала его?! У этого юнца была борода, редкая, смешная, удивительно не идущая к его лицу, но необычайно выхоленная и вместе с тем как-то нарочно запущенная и умышленно небрежная… Такую же бороду Пелагия видела у одного из Аврелиев Симмахов – Бонифаций сказал ей тогда, что таким образом язычники почитают память императора Юлиана, гнусного отступника… Но Симмах-то был взрослый человек! А этот просто смешон. На него даже обижаться трудно. Как и на то, что он говорит…
– А если даже, как ты изволишь полагать, Аэций верит в единого бога – в бога христиан, то, право же, эта его вера ничуть не мешает ему любить и ценить тех своих друзей и близких, которые верят иначе, – заканчивает свою мысль Марцеллин и тут же добавляет уже совсем иным тоном: – Ну, я должен с тобой проститься, достойнейшая. Мне еще надо сегодня передать привет от Аэция сиятельному Геркулану Бассу.
Остаток дня Пелагия провела как в горячке. Она не могла читать божественных книг, совсем не говорила с дочерью об истинной вере, не показалась на глаза ни майордому, ни диакониссам. Она страшно волновалась, но при этом совершенно спокойно обдумала, что ей надо делать. Она еще не верит, что Аэций вернется, но если вернется, то последняя воля Бонифация исполнится. И вот что удивительно: когда она думает об этом, то испытывает даже какое-то удовлетворение, источника которого никак не может доискаться в своих мыслях. Только ночью, неожиданно очнувшись от неглубокого сна, она, как только подумала об этом, сразу поняла, что ее обрадовало. Аэций наверняка добрый христианин, может быть, действительно его вера не мешает ему любить и ценить тех, кто верит иначе, как говорил Марцеллин. Когда она снова засыпала, на лице ее играла радостная улыбка: если Аэций дружит с язычниками, то наверняка не будет с неприязнью смотреть на инаковерующую жену. А ведь это самое важное.
2
– …У одного были серебряные кружки на лорике, у другого – медные… Я понял: препозит и центурион… И не из ауксилариев, а из школы телохранителей… Препозит вырвал из рук центуриона мизерикордию и выкрикнул: «Если ты не боишься Христа, то подумай… подумай, глупец, ведь Аэций еще вернется!»
Голос Басса дрожал от волнения, будто он сам был этим препозитом, который, предсказывая Аэциево возвращение, спасал товарища от самоубийственной смерти.
– Я видел своими глазами! Слышал так хорошо, как минуту назад все мы слышали мудрейшие слова сиятельного Вирия Никомаха! Право же, это был глас народа, отцы! Глас народа – глас божий… Сиятельные мужи, блистательные мужи, славные мужи! А что самое главное, – на устах говорящего заиграла веселая и несколько ироничная улыбка, – это был голос вооруженного народа, сенаторы! Спросите кого-нибудь из них: кто самый прославленный человек в империи?.. Каждый ответит без колебания: Аэций. Кто вел нас за добычей и победой? Аэций. Кто единственно достоин командовать вами так, чтобы вы его почитали, боялись и любили? Аэций.
Он замолчал, чтобы отереть стекающий ручьями пот; этой паузой воспользуется первый консул Петроний Максим, быстро взбежит на ораторское место и воскликнет:
– Аэций, Аэций, все только Аэций! Действительно, он достоин, чтобы мы только о нем и говорили! Кто же еще несет на себе столько преступлении и грехов против императорского трона и закона?! Аэций. Кто коварно убил славного Феликса, чтобы посягнуть на осиротевший патрициат? Аэций. Кто попрал закон и волю великой Августы Плацидии, отказавшись повиноваться законно провозглашенному патрицию? Кто развязал трижды пагубную междоусобную войну, в которой была одна лишь польза, что выявила никчемность и смехотворность требований бунтовщика? Кто? Действительно, никто, только Аэций. А кто стоит сейчас у границ Италии, угрожая стране и Риму огнем и мечом? Кто против своей страны бросает дикость и мощь многих тысяч варваров? Я сказал: Аэций.
Не успел он закончить, как между всеми креслами и на всех скамьях поднялась дикая сумятица. Как стая белых голубей, затрепыхался вдруг весь сенат крылами белых курульных тог.
– Recte dicis, Herculane [61]61
Правильно говоришь, Геркулан! (лат.).
[Закрыть]– кричали Бассы, Валерии, Симмахи и Вирии.
– Recte, Maxime! [62]62
Верно, Максим! (лат.).
[Закрыть]– сотрясали воздух Паулины, Гракхи и многочисленные Апиции.
– Аэций! Аэций! Хотим Аэция! – все громче, все настойчивее и смелее кричали первые.
– Не хотим! Это Тарквиний! Катилина! Кориолан! Врагов Рима на помощь себе призывает… угрожает вражеской силой!.. Изменник! Кориолан! Кориолан! Кориолан! – подавляли выклики первых гулом своих голосов сторонники Максима, который, чувствуя за собой численное преимущество, обратил торжествующее лицо к сидящему на возвышении патрицию империи и величественно, хотя и несколько хриплым голосом сказал:
– Благоволи донести великой Августе, сиятельный Себастьян, что сенат города – так же, как и ее величество – понимает и сознает: как и несколько веков назад, так и ныне, нет в Риме места Кориоланам…
– Как жаль, что у сиятельного консула такая малопривлекательная внешность, – послышался чей-то голос с задних скамей. – Он не сможет заменить нам ни Ветурии, ни Волумнии [63]63
Ветурия и Волумния – мать и жена шедшего на Рим Кориолана, уговорившие его отказаться захватить Рим с помощью варваров.
[Закрыть]…
Весь огромный зал затрясся от единого взрыва смеха и бури рукоплесканий. Петроний Максим побледнел, но, прежде чем он успел что-то сказать, Геркулан Басс снова потребовал голоса.
– Не время теперь для шуток и смеха, славные мужи, – сказал он серьезно, почти строго. – Италии и Риму грозит опасность в десять раз большая, чем во время недоброй памяти нашествия Алариха. Сто тысяч гуннов под началом короля Ругилы ждут только знака…
– Который ему должен дать обожаемый сиятельным Бассом Аэций, – прервал его Себастьян. – Поистине зрелище, достойное историографов! Когда находящийся вне закона изгнанник угрожает нашествием диких орд, славные отцы города рассуждают, стоит ли…
Неожиданно он весь побагровел от гнева, на лбу и на сжатых кулаках набрякли жилы, молодое его лицо сразу постарело на десятки лет.
– Нечего вам рассуждать! – гаркнул он на весь зал. – Вы не власть… вы слуги величества, и, когда величество захочет, вы все пойдете в первой шеренге ауксилариев бороться с гуннами Аэция!.. Копать рвы!.. Кормить собой стервятников!..
Петроний Максим с бешенством и отчаяньем кусал губы. Каждое слово Себастьяна – это удар по антиаэциеву лагерю. То же самое с радостью подумал Басс и, окинув взглядом притихший от величайшего возмущения зал, заговорил:
– Дурную услугу оказываешь ты великой Плацидии и императорскому трону, сиятельный патриций! Вот тут перед тобою восемь сотен представителей самых знатных родов Рима. Взгляни на них: каждый из них думает по-своему, но все чувствуют одинаково – мы не в Персии… не в далекой стране синов… Мы никому не принадлежим, а если так именуемся, то для того единственно, чтобы почтить величие… чье? Величие вечного Рима, воплощенное в особе первого римского гражданина – императора… Вот так, сиятельный, первый среди свободных граждан, которыми он правит…
Он кинул многозначительный взгляд на четыре ряда скамей, заполненных одними Бассами – Леканиями и Геркуланами. Те как один воскликнули:
– Закон!
Теперь рукоплескали не только сторонники Аэция, но и Гракхи, Паулины, Крассы, Корнелии и большая часть Анициев. А Геркулан Басс продолжал:
– Хорошо сказали вы, славные мужи: «Закон». Тот закон, который запрещает кормить сенаторами стервятников, но который требует, чтобы в минуты грозящей границам Италии опасности главнокомандующий, патриций находился в армии, а не в стенах города…
Последнее слово утонуло в новом гуле и буре рукоплесканий. Патриций, смертельно бледный, пронзил Басса ненавидящим взглядом, потом окинул глазами весь зал, точно желая запомнить лица кричащих, и наконец сказал:
– Никакой опасности нет, Аэций сидит в Бриганцие вот уже несколько месяцев и, если бы мог, давно бы уже угрожал нам гуннами. А не только сейчас, когда вам это выгодно, славные мужи… А закон, о котором вы говорите… сиятельный Басс, ты сам не веришь в то, что говоришь! Разве ты не сказал минуту назад: глас вооруженного народа – вот глас божий! Это не глас играющих в кости центурионов и пьяных препозитов, сиятельный муж. Глас полководцев, за которыми стоят ауксиларии, доместики, палатинские легионы…
И снова разразились громкие рукоплескания. Противники Аэция снова получили преимущество, вновь перетянув на свою сторону Крассов, Корнелиев и Гракхов. На минуту зал замер, но вот тишину прервал, требуя голоса, прославленный и могущественный Фауст Ацилий Глабрион. Он хотел прочитать сенаторам какое-то письмо.
– «Флавий Сигизвульт приветствует сиятельпого Ацилия Фауста, – зазвучал его спокойный, ровный голос. – Ты спрашиваешь, сиятельный муж, действительно ли грозит какая-нибудь опасность Италии и можем ли мы полагаться на возглавляемые мною войска. Я пишу «мною», поскольку сиятельный патриций еще не прибыл в Равенну, хотя опасность так страшна, что даже та, восемь лет назад, когда Аэций так же, как ныне, вел за собой сонмы гуннов, не может с нею равняться. Ведь сам король Ругила возглавляет сто тысяч язычников, Ругила, только что вернувшийся с войны, которую год вел в Мезии с полководцами Восточной империи…»
– Вот ответ на то, что ты изволил говорить минуту назад, сиятельный патриций, – обратился к Себастьяну с торжествующей улыбкой Басс. – Вот почему Аэций и выступил только сейчас…
– «А что касается войска, – читал дальше Фауст, – то, может быть, и удалось бы противостоять гуннам лучше, чем восемь лет назад, но… – Фауст оборвал на минуту, выждал, когда лихорадочное напряжение зала достигнет предела, и вдруг бросил в мертвую тишину: —…но войско не хочет сражаться против Аэция, который ныне вчетверо сильнее, чем тогда, после казни Иоанна!.. А все потому, что за ним следует в два раза больше гуннов, чем тогда… что ведет их сам король… и, наконец, потому, что тогда шел на Италию никому не известный друг узурпатора, а ныне идет полководец, под началом которого сражался и побеждал почти каждый из моих солдат, каждый видел его в бою и почти каждый слышал от него дружеское слово, добрую улыбку или награду… Когда я разговариваю с солдатами, каждый – от комеса до последнего велита – убежден, что с Аэцием произошла величайшая несправедливость, и, право же, очень неразумно, сиятельный, поступают те советники великой Плацидии, которые стремятся заключить союз с королем Теодорихом против гуннов и Аэция… Я сам гот, но знаю, что солдаты, которые под командованием Аэция дважды разбили готов под Арелатом…»
– Вот истинный глас вооруженного народа! – воскликнул вдруг Секст Петроний Проб. – Надо ли еще что добавить к этому, славные мужи?..
– Да, нужно добавить, – сказал Геркулан Басс. – Послушайте последние слова письма славного Сигизвульта.
Себастьян вскочил с места.
– Это заговор!.. Измена!.. – крикнул он. – Басс заранее знает, что будет читать Глабрион Фауст.
Но никто не обращал на него внимания. Сенаторы дружно повскакивали с кресел и скамей, теснясь к оратору, чтобы лучше слышать.
– «Я удивляюсь, что сиятельный Петроний Максим не показал тебе, славный муж, письмо, которое я ему послал в самые календы. Но полагаю, однако, что он обязательно сделает это, когда узнает, что Аэций, который ни к чему так не стремится, как действовать совместно с сенатом, сказал: «Я не понимаю этого сотрудничества без активного участия сиятельного Максима…»»
Десять долгих, полных событий и переживаний лет не сделали бы молодого Себастьяна таким зрелым мужем, каким он стал за эти несколько минут, слушая, заслонив лицо тогой, совершенно не владеющего голосом Петрония Максима:
– Вот это письмо… вот оно… «Флавий Сигизвульт приветствует сиятельного Петрония. Мы вместе были у одра умирающего Бонифация. И тогда ты впервые увидел, как плачет Сигизвульт. Почему я плакал? Спроси об этом Августу Плацидию. Она сказала мне как-то: «Сигизвульт, верный слуга, ты хотел бы быть главнокомандующим войск Западной империи?» – «Пока что нет, о великая!» Удивление выразилось на ее священном облике. «Почему нет, Сигизвульт?» Я ответил то же, что ответил бы богу, если бы тот призвал меня в лоно свое: «Пока что нет, боже, я еще никогда не воевал под началом Аэция»».
Читая это письмо, написанное по желанию Сигизвульта поэтом Меробаудом, Максим то бледнел, то краснел: о, как же должен торжествовать Басс… как злорадствуют теперь все враги Петрониев… Но он уже действительно не мог владеть собой. Иметь дело с Аэцием?! Наконец-то! Наконец-то! Наконец-то можно сбросить маску… можно стать самим собой!..
Замолк в нем внутренний голос, напоминающий о жестоко и подло убитом Феликсе… и память забыла о том, что Аэций жег в Паннонии церкви… Да и не он один находился в таком состоянии духа: обезумел весь сенат. Теперь никто уже не кричал: «Катилина! Кориолан!..» Только Глабрион Фауст, который больше всех способствовал перемене настроения, воскликнул с какой-то грустью:
– И опять все точно так же, как тогда, когда Аэций стал начальником дворцовой гвардии…
– Все иначе… все иначе! – торжествующе откликнулся Басс. – Разве тогда кто-нибудь спрашивал сенат о согласии?!
Эти слова довели до предела радость сиятельных, достославных и достосветлых мужей. Забытый всеми патриций беззвучно плакал под тогой, привалясь разболевшимся юношеским лбом к золотому двуглавому орлу, украшающему поручень патрициевого кресла. Вот он раздвинул складки тоги, и большая, тяжелая слеза упала на орлиную голову, которая смотрела на запад.
Слеза быстро высохнет и не оставит следа на отлитой из золота голове орла, которую через шесть недель схватит ораторским жестом рука патриция империи. Широкая, унизанная кольцами рука. Не восемьсот, а тысяча восемьсот толпящихся в ужасной тесноте сенаторов поймут этот жест как олицетворение варваров, окружающих Западную империю… тех варваров, от которых освободит империю новый патриций. При слове «освободит» рука его несколько разжимается, но орлиная голова, если бы она могла чувствовать, видеть и понимать, наверняка дала бы знать, что не варвары, а эта широкая, унизанная кольцами рука сдавила ей горло. Новый патриций с высоты великолепного кресла бросает в тесно сбившеся головы и сердца сильные, властные, звучные слова, и на каждое из них зал отвечает невольным воплем:
– Ave, vir gloriosissime! Ave, ave… ave!..
Его уже подхватывают на руки – сенаторы, солдаты, горожане. Кто вернул былое значение сенату? Кто поведет к новым победам?.. Кто добился, что король гуннов не обрушится теперь на Италию и ее города? Рядом с ним несут на руках Сигизвульта, Басса, Петрония Максима. Людской поток течет от Римского форума через Аргилет и улицу Патрициус и наконец останавливается перед великолепной инсулой. Просунув одну руку под локоть Сигизвульта, другую – под локоть Петрония Максима, патриций идет через пустой перистиль, фауцес, атрий, а когда становится на пороге триклиния, улыбается и говорит:
– Флавий Аэций приветствует свою невесту. Ты помнишь, что ты пообещала благороднейшему из мужей в годину его смерти, Пелагия?
И она ответила:
– Никогда не забывала. Где ты, Кай, там и я, Кайя.
3
– Тут так темно, как в цирковом сарае! Я даже не знаю, где ты находишься… Двести палок получит завтра старший над слугами… такое чудовищное нерадение! А может быть, это святые диакониссы? Интересно: если бы одну из них кто-то захотел взять к себе в постель, она бы тоже погасила светильники в спальне?
Стоящая уже за порогом Пелагия тихо вздохнула. Нет, напрасны ее надежды! Бросаемые в темноту слова дышат таким раздражением и таким безграничным удивлением, что ей уже не стоит обольщаться, будто бы цитатами из посланий Павла можно изменить ход вещей! А она уже хотела принести такую великую жертву: хотела сослаться не только на слова патриарха Аттика, которого, впрочем, считала еретиком, но и на все, что говорил и писал о супружеской жизни, девичестве и вдовстве ее великий враг – епископ гиппонский Августин! Но теперь она знает, что все напрасно, поэтому только говорит:
– Это я велела погасить светильники, Аэций!
– Но я же хочу видеть свою жену в постели! – голос его, так быстро становящийся гневным, все еще звучит удивленно. – Ты что, издеваешься надо мной, Пелагия?.. Что это еще за девическая чистота?! Ведь ты уже давно…
Но вдруг он прерывает сам себя и бросает с порога в непроницаемый мрак спальной комнаты вопрос, в котором столько же удивления, сколько и глубокой обиды:
– Ты что, действительно не хочешь меня видеть, Пелагия?.. Ты думаешь, что мое тело не сравнить с Бонифациевым?!.
– Но ведь я тебя еще столько раз увижу, Аэций… Ты привык к женщинам, которые исчезают с ложа к рассвету, и потому так нетерпелив…
Но он уже не слушает. Пелагия видит, что фигура его не заслоняет освещенного прямоугольника двери. Она слышит громкий топот его шагов о плиты фауция, таблинума и, наконец, атрия. Вот он уже спешит обратно. Несет в руках большой, бросающий яркий свет светильник. Он полон гнева и беспокойства. Что бы могло значить странное поведение невесты-вдовы?.. Почему она велела погасить свет? Неужели у нее ноги, как палки, или уродливо болтающиеся груди, а может, она кривобокая?.. А ведь не выглядит такой. Сейчас он ее увидит. Всего он ожидал, только не этих штучек с погашенными светильниками… И именно сейчас, когда он пуще всего желает на нее смотреть! Как все это странно… Все совсем не так… ничуть не похоже на ту брачную ночь восемнадцать лет назад!
«Да, ничуть не похоже!» – скажет он про себя еще раз, входя в кубикул и бросая сильный сноп света на фигуру спокойно раздевающейся Пелагии. Потому что, хотя светлый круг, как и тогда, восемнадцать лет назад, прежде всего захватывает две ступни, с которых только что спали красные, вышитые золотом башмаки, даже эти ступни – казалось бы, такие похожие у всех людей – ничем не напоминают Аэцию дочери Карпилия. И во всей фигуре и поведении Пелагии ничто не напоминает ему первой жены. Вдова Бонифация не очень высокая, но стройная и гибкая… цвет лица матовый, темный… глаза черные, всегда блестящие – даже когда на них падают длинные, еще более темные ресницы… Равнодушным, разве лишь несколько удивленным взглядом смотрит она на почти обнаженного Аэция: ни слова не произнесет, когда он приблизит светильник почти к самой ее груди. Обнаженными, очень темными руками вынимает она из блестящих прядей длинные золотые шпильки, а покончив с ними, начинает снимать широкую пурпурную ленту, четырехкратной диадемой охватывающую красивую, хотя и маленькую головку. Когда же волосы, словно густой клубок черных змей, быстро скользнут на плечи, грудь и спину, она ловким движением скинет с себя тяжелое, затканное золотом облачение, оставшись в одной только длинной тунике.








