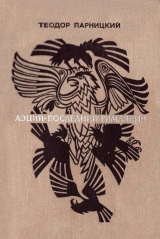
Текст книги "Аэций, последний римлянин"
Автор книги: Теодор Парницкий
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 22 страниц)
Женщины, но не идущего вслед за нею солдата. Почему? Потому что солдат был варваром, готом, а все готы, известно, суть еретики; она же плод их земли, их крови, их обычаев… И еще потому, что солдат этот, хотя и еретик, но сражается под значком правоверного императора и грудью своей защищает от других еретиков святыню, алтарь и правоверных жителей Гиппона: ведь если бы не он и не его товарищи, стадо Августиново давно бы постигла судьба остальной Нумидии. Так что и теперь взгляды, подгоняющие ненавистью Пелагию, тут же смягчаются, заметив узкую полоску крови на рассеченной щеке Сигизвульта, и совершенно преображаются и дышат только преданностью, почитанием и полным доверия восхищением, когда задерживаются на высокой фигуре наместника Африки.
«Отошел к господу Августин, теперь у нас только ты», – будто говорят они.
Перед домом епископа пятьдесят готов с трудом сдерживают щитами отчаянно напирающую со всех сторон толпу.
– Спаситель… защитник наш! – окружают выходящего Бонифация тревожные, молящие возгласы.
Известие, которое привез Сигизвульт, уже облетело весь город. Вандалы пробили таранами большой пролом в наружной стене, прорвались в него и теперь напирают на железные ворота внутренней стены. Ворота долго не выдержат; отправившись в город, Сигизвульт велел засыпать осаждающих снарядами из баллист и катапульт и лить на них кипящую воду и смолу, может быть, понеся большие потери, отступят, а если нет, придется открыть ворота и попытаться в рукопашной схватке отбросить их за пролом; но, прежде чем до этого дойдет, следовало обязательно уведомить Бонифация. Но ни один из солдат не осмелился бы проникнуть в дом умершего Августина, и Сигизвульту пришлось отправиться самому.
– Будь здорова, Пелагия, – сказал Бонифаций. – Я еду на стены…
– Я с тобой! – воскликнула она.
– Ты с ума сошла?!
Пелагия уперлась на своем.
– Поеду.
– Но ты не представляешь, что такое битва с вандалами… даже просто стоять на стене – и то уже большая опасность для жизни…
– Но ты же едешь…
Он рассмеялся.
– Ты забыла, что, кроме того, что я твои муж, я еще и солдат…. На стенах я у себя. А ты?.. Ты даже воинского учения не видала… И почему ты пожелала именно сегодня?.. Осада длится столько недель, а ты…
Сигизвульт также принялся убеждать Пелагию: она и думать не должна о том, чтобы отправиться на стены. Но тут же умолк, растерявшись от ее странного взгляда. Как?.. Это он, Сигизвульт, не знает, почему она хочет идти на стены, к солдатам, пусть ей даже грозит опасность?.. А почему именно сегодня?.. Не знает?.. Не догадывается?.. Он, с которым она столько говорила о святой правде божьей и который в дни диспута с Августином дважды прибегал к ней, чтобы подробно рассказать, что говорил Максимин? Храбрый ты воин и умелый вождь, славный муж, но душа и ум у тебя детские: неужели ты на самом деле не понимаешь, не чувствуешь этого после всего, что было сегодня. Пелагия хочет… Пелагия должна быть только среди людей своей веры… они нужны ей как воздух… она должна слышать, как они молятся… должна видеть, что они существуют на самом деле и что их много… А где она их найдет, если не на стенах?!
Если бы Пелагия все эти свои лихорадочные мысли облекла в слова, комес Сигизвульт наверняка на лету понял бы ее чаяния и с жаром поддержал ее, но – поскольку уста ее молчали и только глаза были удивительно выразительными – гот, хотя и придя в замешательство от их выражения, просто не имел времени уразуметь, что они, собственно, хотят ему сказать. Правда, его самого, так же как ее и общую их веру, уязвили в доме покойного епископа, но разве сейчас время задумываться над этим?.. Ведь вандалы каждую минуту могут выломать ворота – и это самое важное… куда важнее, чем туманный намек на то, что осаждающие город вандалы той же веры, что и защищающие его готы, в то время как пассивный предмет борьбы – жители Гиппона – и тех и других одинаково считают проклятыми еретиками… А комес Сигизвульт прежде всего солдат: набожный и ревностный арианин считал борьбу с тем, против кого пошлет его Августа Плацидия, своим первым и основным долгом. Он предложил свою службу Плацидии еще в Нарбоне и Барциноне, при дворе Атаульфа, и с тех пор с одинаковым спокойствием, готовностью и обыкновенно удачно водил своих готов против любого, на кого она указывала. Еще два года не прошло, как он этого же самого Бонифация, который ныне является его начальником, неоднократно бил и свирепо преследовал по всей Нумидии, ибо такова была воля Августы Плацидии.
– Нет, нет, ты не пойдешь со мной! – в десятый, а может, в двадцатый раз упрямо повторял Бонифаций.
Тогда Пелагия устремила на него выразительный, полный нежности взгляд и мягко, но решительно сказала:
– Пойду. Разве я не говорила: «Где ты, Кай, там и я, Кайя»?
С минуту он смотрел на нее искренне удивленный, но уже тронутый и счастливый. И вскоре все трое, окруженные тесным кольцом конных готов, мчались к южной части городских стен. Перед Леонтийской базиликой с ними поравнялась квадрига проконсула Целера, который, хотя и не был солдатом, лично доставил Бонифацию продовольствие, прорвавшись морем из Карфагена к мысу Стоборрум, а теперь не мог вернуться, так как вандалы срочно изготовили галеры, дерзко овладели мысом Стоборрум и, хотя их оттуда быстро скинули, успели перед этим уничтожить, сжечь и серьезно повредить корабли Целера.
Какое-то время они ехали рядом. Но вот Бонифаций обратил к проконсулу Африки озабоченное лицо и, придержав коней, заговорил полным тревоги и приглушенным, чтобы солдаты не слышали, голосом.
– Я не знаю, известно ли тебе, что мне и епископу Поссидию сказал святой наш епископ за несколько дней до смерти, когда мог еще говорить?.. Так вот, он сказал: «Вы знаете, о чем я молю бога в эти горестные дни? Или пусть он избавит этот город от неприятеля, или пусть даст нам сил, чтобы мы могли снести тяжесть его воли, или пусть меня заберет с этого света и призовет к себе». Ты понимаешь, славный муж?.. Бог внял молению своего святого слуги и исполнил… но только последнюю его просьбу!.. Не значит ли это, что он не хочет исполнить две первых?.. Значит, ни город не спасется, ни сил нам не будет даровано, чтобы снести страдания…
– Воистину, не была это молитва, достойная епископа Африки, молитва пастыря стада Христова! – злорадно воскликнула Пелагия. – Покинуть стадо в опасности, зная, что если бог призовет его к себе, то, значит, не спасет город…
Гневно топнув ногой, прервал ее Бонифаций.
– Как ты смеешь кощунствовать?.. Дерзким умом своим женским соваться туда, где промысел господний, где господь сам вершит свои счеты с верным душепастырем?.. Право, Пелагия, – воскликнул он, не думая о том, что все окружающие слушают его с любопытством, – право, ты еще накличешь на себя, на меня и на ребенка нашего праведный гнев божий!
Не успела Пелагия открыть сердито дрожащие губы, как проконсул Целер резко рванул своих коней – и обе колесницы столкнулись, вызвав смятение, что позволило всем отвлечься от супружеской ссоры. Но Целер не очень рассчитал движения своих серых коней: колесница Бонифация оказалась поврежденной, комесам пришлось пересесть на солдатских коней, Пелагию же проконсул пригласил в свою колесницу.
Она даже не знала о том, что в доме Августина Целер стоял в нескольких шагах от нее и, втиснувшись в густую толпу, не только ловил любопытным взглядом все, что делалось вокруг и в комнате покойного, но и отлично понял, что значили и к кому относились слова епископа Константины о еретиках. Поэтому она страшно удивилась, когда проконсул, помогая ей сесть в квадригу, посмотрел на нее взглядом, в котором было возмущение, сочувствие и понимание, и с полугрустной, полуиронической улыбкой сказал вполголоса:
– С младенчества нас учат, что христианство – это религия братства, а бог наш – бог любви, но поистине никогда ни один из сотен свободно почитаемых в старом Риме богов не пробуждал в сердцах своих противников сотой доли той ненависти, каковой но-братски оделяют друг друга христиане, когда дело доходит до понимания божественного.
Она гневно свела брови.
– Славный муж, – воскликнула она, – ты забываешь, что говоришь с христианкой!
– Но ведь и я христианин, – ответил он, – и верю в единосущность, тогда как ты, прекрасная Пелагия, признаешь только подобосущность… Но разве должен я из-за этого ненавидеть столь прекрасное божье творение?
– Ты говоришь, как безбожный платоник, славный Целер, – ответила она строго, – и я немедленно сошла бы с твоей колесницы, если бы…
– Ты можешь без опасения оставаться в моей колеснице, – прервал он ее, рванув коней сильным ударом прошитого золотыми нитями бича. – Я действительно признаю Христа, как и ты, благородная Пелагия… Впрочем, – засмеялся он, – посуди сама: разве мог бы я быть проконсулом Африки, не будучи христианином?!
Вступая на стену, Пелагия испытывала совсем иные чувства, нежели представляла это в городе. Солдаты-единоверцы – те, что горластыми толпами расхаживали, сидели или лежали подле стен, встретили красивую молодую женщину целым градом пламенных взглядов, очень выразительных, но не имеющих ничего общего с чисто духовной любовью, которая в любых обстоятельствах должна воодушевлять собратьев по вере… «А ведь они не могут не знать, кто я и какого почитаю Христа», – подумала она чуть не со злостью. Те же, что стояли на стенах или взбирались и опускались по крутым узким лестницам, казалось, не обращали никакого внимания на сопровождающую комеса женщину. Только один, с рассеченной метательным снарядом головой, залитый кровью – его сносили на руках трое товарищей, – перестал на миг пронзительно кричать, пораженный видом необычайно красивой знатной римлянки.
А война?.. Город был опоясан тройной линией стен: средняя стена была на пять футов выше наружной и на семь ниже внутренней. Стоя на внутренней стене, Пелагия отлично видела вандалов, бегущих в пролом в наружной стене – ей только не были видны те, которые высаживали ворота средней стены. Но она угадывала, где эти ворота находятся, там было много солдат, она видела их мерное движение плеч, рук и голов, они беспрестанно бросали что-то в закрытое для глаз Пелагии пространство, и там, в этом месте, то один, то другой, выпуская вдруг из рук арбалет, щит или тяжелый камень, с криком валился под ноги товарищам.
– Гензерих! – услышала она вдруг возле себя чей-то взволнованный возглас.
Она вздрогнула и, быстро оторвав взгляд от стены, с лихорадочным любопытством и почти с суеверным ужасом устремилась жадным взглядом в том направлении, которое подсказывал ей взгляд мужа. В каких-нибудь пятидесяти футах за захваченной стеной она увидела нескольких воинов с огромными орлиными крыльями на шлемах… Один из них – это король Гензерих, завоеватель Африки, кровавый хищник, самый жестокий из всех варваров, какие когда-либо населяли orbem terrarum. Сердце ее колотилось все быстрее, все резче: ведь это он превратил в пепелище цветущие владения – ее приданое, – раскинутые на огромном пространстве между Гипионом, Зарифом и Тамугади… и он же в Новом Городе на Хилемоте сделал члена ее рода судьей и защитником… Как римлянка, она всей душой ненавидела дикого варвара, уничтожающего самые плодородные провинции империи и для всего римского имеющего только одно позорное и срамное слово, презрение, рабство, насилие, мучения и жестокую смерть! Но как арианка, она не могла не восхищаться и чуть ли не почитать ревностного воина их веры, свято убежденного, что он является сосудом божьего гнева и мечом в деснице господней, призванным небом для борьбы с теми, на кого бог прогневался.
– Где… где Гензерих? – взволнованно выспрашивала она. – Который?.. Этот великан с топором?..
И не могла поверить, что меч господний – всего-навсего невысокий, худой, будто изломанный, невзрачный человечек лет тридцати в скромной коричневой одежде и почернелой железной броне, на которого указал ей Бонифаций.
– Не может быть… не может быть… – повторяла она.
Бонифаций совсем не дивился ей, так как знал, что могущественный Гундерих, король вандалов и аланов, умирая в страшных муках, разразился неистовым смехом, узнав, что воины хотят провозгласить после него королем его единоутробного брата Гензериха. «Гензериха? Этого ублюдка? Заморыша? Колченогого?.. Лучше уж возьмите порченую бабу!» – пронзительно выл он, все еще сотрясаемый взрывами веселья, так и скончался, не переставая смеяться до последнего мгновения.
Действительно, Гензерих был не только маленький, щуплый и какой-то изломанный, но еще и хромой. Пелагия сразу заметила это, когда он двинулся с места. Она видела, какой болезненной гримасой искривилось у него лицо, когда он пошел, волоча за собой калеченую ногу. Ему подвели коня; сильные руки приспешников оторвали короля от земли и осторожно посадили в седло. Гензерих тотчас извлек меч, начертал им в воздухе тройной крест и бешеным галопом ринулся к стене. Без труда перепрыгнул он гору обломков, раскиданных у пролома, и бросился к воротам. По приказу Сигизвульта в него начали стрелять сразу из четырех катапульт. Как будто из упрямства, король тут же сдержал коня и под градом стрел, из которых ни одна его не задела, исчез из глаз Пелагии.
– Отворяйте ворота! – загремел голос Сигизвульта.
Ударили в рога и буцины, солдаты с громким криком спускались по лестницам.
– К воротам! К воротам! – кричали препозиты и центурионы.
– Будь здорова, Пелагия. Возвращайся в город.
Она почувствовала на своих волосах теплое прикосновение губ и повернулась. Бонифаций стоял перед нею, почти весь закрытый огромным франконским щитом. В руке он держал топор, такой большой и такой на вид тяжелый, что Пелагия никогда бы не поверила – если бы сама этого не видела, – что ее муж может поднимать такую тяжесть. И вообще он весь был другой, не такой, каким она его знала: она никогда не думала, что бывают минуты, когда он, Бонифаций, может быть именно таким…
Она улыбнулась ему благожелательно и почти с искренним восхищением.
– Ты не боишься Гензериха?! – спросила она, и в вопросе ее слышался полный гордости ответ.
– Боюсь, – ответил он. – Вот если бы со мною был Аэций…
– Аэций, убийца Феликса? – прервала она его удивленно.
– Аэций, храбрейший из римлян, – ответил он, надевая на голову высокий золоченый шлем с красным султаном.
2
До того самого момента, когда Аэций устранил со своего пути Феликса и взял после него власть при неспособной дальше сопротивляться Плацидии, он крайне мало уделял внимания личности и делам Бонифация. Наместник Африки, на его взгляд, ничего не сделал такого, что позволяло бы предполагать, что он может в будущем стать опасным соперником. Повсеместно прославляемые воинские заслуги и преданность вернейшего слуги и друга Плацидии не возбуждали в Аэций ни уважения, ни, опасения. Единственное, что его злило (но одновременно и смешило) в связи с личностью Бонифация, – это огромный авторитет, которым он пользовался у хронистов и панегиристов, щедро осыпавших наместника Африки теми же эпитетами и прилагательными, коими под их пером обычно обрастало имя покойного Констанция или самого Аэция, многократного победителя готов, франков и других врагов империи. Оскорбленный этим, победоносный начальник дворцовой гвардии, а потом и главнокомандующий войск Западной империи без труда, однако, сообразил, в чем кроется тайна этого авторитета: в дружбе, которой дарила Бонифация сама Августа Плацидия, а кроме того, вернее – прежде всего, в его набожности и ревностности в делах веры, что не могло не повлиять на его популярность, если учесть, что почти все хронисты и панегиристы принадлежали к духовному званию. Иначе нельзя было себе объяснить эту широчайшую известность, во всяком случае, она никак не объяснялась действительными его воинскими деяниями. Ведь Бонифаций не мог похвастаться ни одной победой, ни какой-нибудь удачей, равной Аэциевой. В молодости, правда, он оказал некоторые услуги Констанцию, но в первой же битее, которой он самостоятельно руководил как полководец в Испании, потерпел поражение – и кем разбит-то был!.. Вандальскими племенами асдингов и силингов, которые беспорядочной ордой мчались на юг Испании, только что разгромленные полководцем Кастином! Тот же Кастин без особого труда разгромил самого Бонифация, когда тот стал наместником Африки и держал сторону Плацидии в ее борьбе с братом. А когда после восшествия на трон Иоанна Бонифаций выступил против узурпатора, тут уж никак не военные способности комеса Африки вселили страх в сердца йоанновых сторонников, Нет, нечто совсем иное было причиной беспокойства, которое возбуждала тогда несокрушимая верность и преданность Бонифация Плацидии, нечто такое, в чем Аэций видел разрешение всей загадки значения, мощи и славы Бонифация. Так вот, Африка, войсками которой он командовал, была плодороднейшей провинцией Западных областей, а может быть, и всей империи – она была житницей Италии! Не воинские способности, не несокрушимая храбрость, даже не дружба Августы Плацидии и не ревностность в вере, а хлеб… безбрежные хлебные поля – вот что делало комеса Африки одним из могущественнейших людей империи! В борьбе с Иоанном Бонифаций не потерял ни одного африканского солдата, но достаточно ему было задержать галеры с хлебом, идущие в порты Италии, чтобы сделать Иоанновы войска податливыми к уговорам Ардабура, не теряющего зря времени в плену! Но Аэций не был уверен, сознает ли Бонифаций мощь, которая у него в руках: события последних лет говорили о том, что наместник Африки скорее прислушивается к голосу чувств, чем к языку холодных расчетов.
Сразу же после вступления в должность патриция империи Феликс начал плести интриги, целью которых было подорвать дружбу между Плацидией и Бонифацием. Аэций был слишком осторожен и вместе с тем слишком занят войной в Галлии, чтобы дать втянуть себя в эту игру, довольно опасную и малопривлекательную: ему-то уж никак не на руку было усиление Феликса. Но, и не имея ничего против того, чтобы два приятеля Плацидии ссорились между собой, он даже переслал Бонифацию письмо, в котором заверял его в своей дружбе и выражал удивление, что человека, имеющего такие заслуги перед императорской фамилией, держат вдали от столицы.
Он даже не предполагал, что письмо его подольет еще одну каплю масла в огонь, пожирающий с некоторых пор комеса Африки. Бонифаций, видимо, совершенно не сознавая своего могущества, которое давало ему командование армией в житнице Запада, давно рвался к императорскому двору, чтобы занять там полагающееся ему по заслугам и верности место, разумеется, одно из высших в империи. Феликс тоже подогревал его, время от времени давая понять, что Плацидия недооценивает своего верного слугу и умышленно держит его вдали от себя; с другой стороны, он предостерегал и Плацидию перед жаждущим власти любимцем, стремящимся якобы отторгнуть Африку от империи.
В середине третьего года правления Валентиниана Бонифаций получил приказ явиться перед Плацидией в Равенне; еще несколько месяцев назад он счел бы это осуществлением своих мечтаний, теперь же, под влиянием предостерегающих писем Феликса, понял вызов как смещение – и сжигающий его внутренний огонь тут же разгорелся грозным пожаром. В Равенну вместо наместника Африки прибыло дышащее оскорбленной гордостью и гневом письмо, в котором Бонифаций упрекал Плацидию в недостойной величества неблагодарности и отказывался повиноваться. Феликс был вне себя от радости: наконец-то добился своего! Дабы покарать бунтовщика, в Африку послали войско под командованием Галлиона, Маворция и варвара Сенеки, но Бонифаций, не очень удачливый в битвах с врагами империи, на сей раз оказался победителем и, упоенный триумфом, провозгласил себя независимым от Равенны повелителем Африки.
И как раз тогда-то – провидя события, которые потом действительно разыгрались в Африке, – Аэций пришел к неколебимому убеждению, что прославляемый хронистами и панегиристами Бонифаций, собственно, не заслуживает ничего, кроме пренебрежения, и никогда не дорастет до того, чтобы стать опасным соперником.
Ведь что следовало, по мнению Аэция, сделать после победы над императорским войском? Опираясь на всех недовольных, которыми кишела Африка – прежде всего на ариан и донатистов, – потребовать от Плацидии, под угрозой задушить Италию голодом, самых высоких званий, вплоть до патриция включительно, и для подтверждения своих намерений действительно на месяц прекратить подвоз хлеба. Аэций настолько был уверен в близком триумфе и возвышении Бонифация, что начал спешно запасаться галльским хлебом, готовясь к долгой смертельной борьбе с новым и действительно грозным, имеющим в руках страшное оружие – голод – соперником. А что сделал Бонифаций? Вместо того чтобы требовать и угрожать, как это три года назад с отличным результатом сделал Аэций в Аквилее, он повел с Плацидией войну, дав ей время собрать и отправить в Африку новое войско под командованием Сигизвульта, который не только удачно и почти беспрепятственно высадился, но и в первой же битве наголову разбил независимого властителя Африки и без труда захватил важнейшие порты: Гиппон и Карфаген, восстановив сообщение между Италией и ее житницей.
Все, что произошло потом, Аэция уже не волновало, но только еще больше убедило в неспособности и в незадачливости Бонифация. Как некогда Иоанн к Ругиле, так теперь комес Африки обратился к вандалам за помощью против Плацидии. Вандалы, для которых плодороднейшие и богатейшие африканские провинции всегда являлись предметом мечтаний и вожделений, как в свое время для Алариха, поспешно переправились из Испании на помощь Бонифацию, но вместо того, чтобы содействовать его цели и выполнять его приказы, начали грабить весь край и захватывать города. Пришедший в отчаяние Бонифаций, который невольно стал виновником бедствий, постигших управляемую им страну, и жестоких преследований своих единоверцев, стремясь загладить вину, выступил против вандалов: король Гензерих без труда разбил его и в короткое время стал хозяином обеих мавританских провинций – Цезареи и Тингитаны. Тогда перед лицом опасности, грозящей потерей всей Африки, наступило примирение Плацидии и Бонифация. Войска наместника Африки и Сигизвульта, еще недавно борющиеся друг с другом, объединились для совместной защиты империи, римского мира, ортодоксальной веры, а прежде всего, как полагал Аэций, хлеба.
Почти в то самое время, когда Аэциевы люди совершили покушение на Феликса, колченогий ублюдок Гензерих разгромил соединенные войска Бонифация и Сигизвульта и, вторгшись в Нумидию, осадил Гиппон. Аэций не сомневался: через две-три недели город сдастся… Он уже знал, чего стоит прославляемый хрониками и поэтами комес Африки!
Даже после смерти Феликса особа Бонифация еще какое-то время куда меньше привлекала внимание Аэция, чем, скажем, подозрительная активность норов и ютунгов в верховьях Дануба. Он выступил против них для защиты пограничных провинций – Реции и Винделеции, и туда-то прибыло просто невероятно звучащее известие, которое заставило Аэция взглянуть на осажденного в далеком Гиппоне комеса Африки как на соперника. Когда на заседании тайного императорского совета префект претория Италии Вирий Флавиан от имени всего совета обратился к Августе Плацидии с просьбой увенчать заслуги Аэция патрициатом, Плацидия с язвительной усмешкой ответила, что куда дольше ожидает наград за выдающиеся заслуги славный Бонифаций. Известие это насторожило Аэция, и он более пристально начал присматриваться к деятельности пренебрегаемого им Хлебного амбара, как он его обычно называл. С некоторым удивлением убедился Аэций, что Гиппон держится вот уже полгода с лишним, и он невольно даже признал в душе превосходство Бонифация в искусстве обороны города. Сжившись с варварскими способами сражаться, Аэций не выносил крепостей, ненавидел осады и никогда не давал загнать себя даже в самую мощную цитадель.
На какое-то время от особы Бонифация его отвлекла просьба епископа Гидация, который из Испании просил помощи против короля свевов Гермериха. Испанцы уповали, что Аэций не только с молниеносной быстротой разгромит все усиливающихся за Пиренеями свевов, но и триумфальным походом пересечет всю страну и через Геркулесовы столпы вторгнется в Африку, обрушившись на вандалов с тыла, и вынудит их снять осаду с Гиппона, как это он двукратно делал, громя готов под Арелатом. Но Аэций вовсе и не рвался драться с вандалами; да и со свевами у него что-то не ладилось, не так, как с варварами, населяющими Галлию. Гот Веттон, который по его приказу вторгся в Галлецию, вынужден был быстро из нее убраться, одновременно пришло известие, что жена Аэция умерла от сильной горячки. Ни глубоко взволнованный Астурий, который первым принес весть о смерти дочери Карпилия, ни близкий Аэцию молодой Кассиодор, да и все приближенные не могли понять, какие чувства вызвала в душе непобедимого весть об утрате златокудрой подруги, которую все окружение Аэция дарило искренним почтением. Как бы то ни было, Аэций немедленно выехал в Италию, чтобы торжественно похоронить жену, и в Испанию уже не вернулся, предоставив вести борьбу со свевами Астурию, которого повысил, нарекая его комесом Испании. Астурий в благодарность направил любимому вождю молодого трибуна и поэта Меробауда, дабы тот своими стихами воспевал каждый поступок Аэция.
Погребя бренные останки дочери Карпилия в чудесном склепе, где уже давно покоились вечным сном Флавий Гауденций и его жена, Аэций вернулся в Галлию, которую покинул после победы на Колубрарской горе. Тут он чувствовал себя лучше, тут его больше почитали и уважали; а он решил, что сейчас лучше всего – находиться среди преданных ему людей, поскольку пренебрегаемый им ранее Бонифаций начинал казаться ему все более опасным. Гиппон мужественно оборонялся вот уже год, приковывая Гензериха и его быстро тающие силы к одному месту. А тем временем из Восточных областей уже плыло в Африку огромное войско под началом еще одного друга Плацидии – Аспара. Консул Басс недвусмысленно предостерегал Аэция против козней Августы, которая не скрывала, что после уничтожения Гензериха соединенные силы Бонифация и Аспара наверняка пригодятся для восстановления покачнувшегося престижа императорского трона во внутренних провинциях империи.
Аэций давно уже не испытывал такого волнения, которое охватило его при известии, что Гензерих, понеся огромные потери, снял осаду Гиппона. Спустя неделю Аспар соединился с Бонифацием и Сигизвультом, чтобы всей громадой преследовать отступающих вандалов.
Была ночь, когда в палатку главнокомандующего Меробауд ввел запыхавшегося гонца. В палатке было темно, но Аэций не спал: он не велел зажигать света, чтобы никто не видел лихорадочного волнения на его лице. Он не поднял глаз на посланца. Но голос его был абсолютно спокоен, когда он спросил:
– Какие новости из Африки?
– Сиятельный! Презренный и безбожный король Гензерих…
– Говори смело. Не бойся.
– …почти наголову разбил соединенные императорские поиска. Славные военачальники едва спаслись бегством…
Аэций приказал внести свет.
Спустя месяц пришло известие, что Гензерих вошел в Гиппон и начисто его разорил. Аэций презрительно пожал плечами. Бонифаций теперь ничего не значил. Абсолютно успокоенный, Аэций последовал с войском к северным рубежам Галлии, где франки снова угрожали Бельгике. Покидая Арелат, он послал в Равенну письмо, полное тонко скрытых угроз, в котором решительно домогался патрициата и одновременно консульства на наступающий седьмой год счастливого царствования великого Валентиниана Августа, на 1184 год от основания Великого города, или на 432 год от рождества Христова.
3
По трем руслам плывет неудержимо с раннего утра тысячеголовый людской поток: от Виминала и Альта Семита через старые Салютарские ворота на Марсово поле; от Целемонтия и Капуанских ворот между Большим цирком и Палатином до самого Коровьего рынка; и, наконец, из Затибрья по четырем мостам мимо театров Бальба, Помпея, Марцелла, под портиками Филиппа и Октавии. Чем ближе к Велабру, к Капитолию или стрелой устремляющейся на тот берег, к Ватикану, великолепной и нарядной улице, тем сильнее давка, тем многочисленнее драки за место, тем чаще обмороки и громкие, радостные крики. В этот день выдали двойную порцию хлеба, обильно сдобренного оливками и вином, – так что толпа с готовностью, несмотря на январскую погоду, платила великой Плацидии тем, чего она хотела: возгласами, приветствиями, рукоплесканиями… Все надрываются и надсаживают горло, но все уста и все глаза спрашивают только об одном: «Что же это за торжественный день сегодня!.. Что за празднество?.. И какой же это император ведет свою победную процессию путем Сципионов и Цезарей по триумфальной дороге?..» И все получали один ответ: «Поистине, это торжественный день… Дорогой триумфаторов едет некто воистину превзошедший избранников слепой Фортуны: едет несокрушимый, преданнейший и ревностнейший слуга веры Христовой и великого императора. Слава ему!» С безмолвным удивлением в глазах выслушивали люди этот ответ и на лету подхватывали возглас, и от садов Агриппины до Тригеминских ворот звучало только одно, долго не смолкающее слово:
– Слава, слава, слава!
На форуме Траяна, где собрались почти все находящиеся в то время в Риме сенаторы, у подножия статуи Констанция возвышался весь обитый пурпуром императорский подиум с двумя тронами: на более высоком, более торжественном сидел тринадцатилетний император Валентиниан Третий, на более скромном – Августа Плацидия, с трудом старающаяся сохранить маску бесстрастного высокомерия, приличествующего величеству. Ибо все ее лицо – глаза, рот, даже щеки – оживляет, озаряет и молодит улыбка невыразимого счастья. Наконец-то убедятся упрямые, вздорные головы истинных римлян, которым все еще видится salus rei publicae [49]49
Общественное благо (лат.).
[Закрыть], что все идет так, как должно быть: что Рим будет награждать не тех, кому удалось сделать для него то или это, а осчастливленных милостью императорского величества избранников, тем больше достойных славы, чем большей дружбой и доверием одаривает их великий император, а не какой-то там princeps liberorum [50]50
Первый среди вольных, вольноотпущенных (лат.).
[Закрыть].
Перед самым подиумом стоят высшие сановники – императорский совет: их пятеро, недостает только одного, главнокомандующего. Ах, как жаль, что как раз его-то и нет… Но через минуту Плацидия строго сдерживает буйную радость: неужели ей и в самом деле жаль, что его тут нет?!
С форумов Веспасиана и Августа доносятся радостные, победные звуки трубы: процессия друга Плацидии уже свернула к Велабру, на улицу Тускус; голова ее уже минует храм Великой Матери и через минуту остановится перед старейшей христианской церковью на Палатине (некогда храмом Божественного Августа), дабы возблагодарить Христа за милость императорской дружбы, которая пролита на недостойное чело нынешнего триумфатора…








