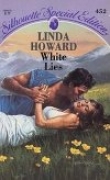Текст книги "Уильям Гэддис: искусство романа"
Автор книги: Стивен Мур
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц)
РЕКТАЛЛ БРАУНИ БЭЗИЛ ВАЛЕНТАЙН
Ректалл Браун появляется в «Распознаваниях» после такого же сатанинского заклинания, каким Фауст Гёте призывает Мефистофеля, – оба основаны на средневековом «Ключе Соломона», и после их произношения герои обычно окутаны сигаретным дымом, греются в инфернальном жаре квартиры, окружены тенями. Скорее в духе гран-гиньоля, нежели с тонкостью, Гэддис наделяет Брауна всеми признаками дьявола двадцатого века, маммоны современного мира: «Издатель? Коллекционер? Дилер? в голосе Ректалла Брауна звучал лишь легкий намек на интерес. – Те, кто меня не знает, чего только обо мне не наговорят. Тут он хохотнул, но смех не пошел дальше горла. – Чего только не. Можно подумать, я адский злодей, хоть все, что я для них делаю, оказывается добром. Я бизнесмен». Играя на неудовлетворенности и разочарованиях Уайатта, он подговаривает его подделывать картины, предлагая девиз «Деньги придают значение чему угодно» вместо девиза Святого Иринея из начала «Распознаваний»: «Бог придает значение всему» (как приблизительно можно перевести „Nihil cavum neque sine signo apud Deum“). Как дьявол заменяет божество в мире Уайатта, так Браун в значительной степени заменяет преподобного Гвайна и впоследствии называет его «мой мальчик», приглядывая за ним, как суровый, но надежный отец.
В духе своего непристойного имени Ректалл Браун бестактен и вульгарен, но все-таки таит в себя идеал «„я“-которое-может-больше», преданный в погоне за материальными благами. Как и в случае с другими персонажами, прекрасная личность Брауна хранится в произведениях искусства. Первое – портрет Брауна в молодости, перед которым он порой стоит «с теплым преклонением» перед «юностью, что там почитал». Но, как и другие таинственные картины и зеркала в романе, эта символически точна и разоблачает его хваткую ненасытность в виде непропорционально больших рук, и «от того, как сотни раз он останавливался, проходил рядом за годы, часто взяв перед собой одну руку другой, его руки стали похожи на те, что на портрете». «Такие руки? на таких красивых вещах?» – позлорадствует Бэзил Валентайн перед трупом Брауна, сравнив Брауна с канцлером Роленом в «Мадонне с младенцем и донатором». Но как и Ролен в его «загадочном сочетании мирских грехов: высокомерия, алчности и распущенности – с истовым благочестием» (выражаясь словами одного из источников Гэддиса)[114]114
114. Хёйзинга Й., Осень средневековья, пер. Д. Сильвестрова, СПб: ИД Ивана Лимбаха, 2016.
[Закрыть], Браун демонстрирует уважение к красоте, которой торгует, особенно к итальянским доспехам пятнадцатого века. Их красота и приводит его к краху. Ранее в романе Браун признается: «Здесь это моя любимая вещь», – и повторяет то же самое на своей роковой вечеринке в канун Рождества. В той же главе рассказывается, как Валентайн прозорливо подшучивает над Уайаттом: «Браун говорит, у тебя есть другое „я“. О, не переживай, это не так уж необычно, знаешь ли, вполне обычно. Что там, даже у Брауна есть. Вот почему он порой пьет без меры, чтобы подкрасться к нему и схватить. Попомни мои слова, однажды он подберется слишком близко – и тогда оно развернется и переломит ему шею». Напившись до беспамятства в ночь вечеринки, зная, что Уайатт вышел из-под его влияния и грозится разоблачить подделки, Браун по глупости пытается залезть в любимые доспехи, и они как раз «ломают ему шею», когда он падает с лестницы.
Его смерть, как и большинство смертей в «Распознаваниях», абсурдна, но символична. Наблюдая за его потугами влезть в броню, приглашенный член английской Королевской академии вспоминает свое эссе, где писал: «Дьявол с фальшивыми копытами, помните? Мефистофель, вы разве не знаете, в мф-ф-фт той напыщенной вещице Гёте. Святые небеса, да, фальшивые копыта, да. Так вот моя работа, понимаете ли, о том, что это не только лишь маскировка, чтобы дурить головы людям и тому подобное, но некая мф-ф-фт… эстетическая потребность, можно сказать, некая ностальгия по красоте, понимаете ли, раз он павший ангел и тому подобное…». Склонившись над трупом этого падшего ангела, «тяжелой фигуры в идеальном изяществе, несмотря на растянутость, павшей среди роз» на обюссоновском ковре, Уайатт оплакивает Брауна, как не оплакивал никого другого в этой книге, ассоциируя его с королем из братьев Гримм, «Тоской» Каварадосси, распятым корольком Грейвса, «старой землей», Королем троллей из «Пера Гюнта» и, наконец, – в качестве «роскоши»– со снисходительным отцом, позволившим Уайатту два года играть во фламандского художника и защищавшим его от внешнего мира.
Несмотря на безнравственные дела, Браун восхищается Уайаттом и искренне заботится о его интересах. «Я хочу присматривать за тобой», – говорит он однажды с ворчливой искренностью. В отличие от своего партнера Бэзила Валентайна – тот сначала кажется более чутким к трудностям Уайатта, но позже показывает себя таким же хищником, как и Эстер. Как и жена Уайатта, он придерживается разума и аналитики и тоже завидует способностям Уайатта. «Он тебе завидует, мальчик мой, разве не видишь?» – предупреждает его Браун, но Уайатта соблазняет знакомство с тем, чьи познания и эстетические вкусы совпадают с его собственными. Рассматривая уайаттовскую подделку «Смерти Богородицы» ван дер Гуса, Валентайн шепчет: «Простота… так бы писал я». Позже, переживая из-за ущерба, намеренно нанесенного Уайаттом лицу персонажа на этой картине, Валентайн тайно восстанавливает ее сам (с результатом, который Уайатт находит до смешного вульгарным). Может, он делает это из-за все той же «ностальгии по красоте», о которой говорит член Королевской академии, а может, из-за тщеславного желания приобщиться к работе Уайатта: «Потому что ты… часть меня… будь ты проклят». Тут Уайатт ранит его и бросает умирать, почувствовав правду в словах Валентайна и желая убить ту часть себя, что олицетворена в надменном эстете.
Благословленный вкусом, умом и «лучшим образованием, что можно купить за деньги», Валентайн с помощью этих даров прокладывает максимальную дистанцию между собой и другими – особенно «глупыми криворукими людьми […] чье представление о нужде – платить по счету за газ, массами, не имеющими, как заверяет их радио, никаких обязательств». Валентайн настаивает на обязательствах перед церковью, страной, культурой, традицией. Впоследствии он участвует (в довесок к художественной афере Брауна) в перевозке предметов искусства «обратно в Европу», «где им и место», хочет восстановить Габсбургскую монархию в Венгрии и действует в тайных интересах иезуитов – эта деятельность образует смутный побочный шпионский сюжет, пересекающийся с основным сюжетом в попытке повернуть время вспять к эпохе аристократических привилегий, когда массы знали свое место и держались подальше от искусства. Познакомившись с Валентайном к концу романа ближе, Эсме называет его «Холодным человеком» и выпытывает у него: «Но почему ты делаешь то, что делаешь? Почему живешь такой жизнью?» Валентайн оправдывает свою реакционную политику тем же типом эстетического элитаризма, что привел Паунда и Элиота (в числе прочих) к выбору авторитарных правительств: «Потому что любой храм власти… защищает прекрасное. Удерживать людей… контролировать людей, что-то им дать… любую дешевку, чтобы на время их удовлетворить, удержать их от прекрасного, их руки, что… хватают и оскверняют и… ломают прекрасное, руки, что ненавидят прекрасное, и страшатся прекрасного, и хватают и оскверняют и страшатся и ломают прекрасное». Для этого Валентайн готов отказаться от всего человеческого, дойдя до организации убийства своего друга детства Мартина. Приглашенный к Валентайну в стерильную башню из слоновой кости, Уайатт ранит его и сбегает из Нью-Йорка, погружаясь на последующие месяцы в простое мирское искусство.
В религиозной схеме романа Валентайн ассоциируется не только с католицизмом, но и с гностицизмом – раннехристианской ересью, которая считала материю греховной и призывала к неучастию в падшем мире. Гэддис пишет в заметках: «Бэзил Валентайн, который есть гностическое самомнение […] наконец поражен бессонницей за свой отказ понять и признать ценность материи, то есть других людей. Суть его гностицизма – во многом в непримиримой ненависти к материи. Это элемент эстекетизма [sic], присущий многим выражениям религии, направленный не против себя, а против человечества». В своеобразной пародии на Агату Сицилийскую – «святую, не спавшую последние восемь лет жизни», Валентайн выживает после нападения Уайатта, только чтобы впасть в бессонницу, причину которой не могут найти венгерские врачи. В итоге он умирает, лепеча на латыни и разоблачая неудачу своего гностицизма: предпоследнее слово в его цитате „Aut castus sit aut pereat“ («Будь чистым или погибни») превращается в „et pereat“ («и погибни») – намек, что любой уход в чистую область мысли без «нечистоты» человеческих отношений приведет в лучшем случае к бесплодию (отметим гомосексуальность Валентайна), а в худшем – к смерти.
СТЭНЛИ И АНСЕЛЬМ
Можно сказать, что тот же самый девиз управляет и жизнью Стэнли. Он тоже погибает из-за неправильного представления о чистоте – ошибки, из-за которой над ним постоянно насмехается его друг и враг Ансельм. В религиозной диалектике романа Стэнли и Ансельм представляют две крайности – институциональный католицизм и примитивное христианство соответственно – и оба обладают некоторыми противоречиями, скрытыми в религиозных конфликтах Уайатта. Воспитанный в протестантской традиции, но доведенный до служения в церкви Стэнли, Уайатт в итоге придет к простому, почти мирскому наставлению Августина «Люби – и делай, что хочешь» (это значит, что приемлем любой поступок, мотивированный милосердием и щедростью). Но движение Уайатта от одного к другому – с экскурсами в кальвинизм, сатанизм, мистическую алхимию и язычество – своей теологической глубиной во многом обязано религиозным дебатам Стэнли и Ансельма в Гринвич-Виллидже.
Ни один из них не встречает Уайатта, но оба связаны с ним рядом метономических жестов, отношений и взглядов: и Стэнли, и Ансельм знают и любят Эсме (каждый по-своему); оба – люди искусства (Стэнли – композитор, Ансельм – поэт). Стэнли особенно разделяет религиозную одержимость Уайатта подлинным искусством и его любовь работать по ночам; глаза Стэнли ярко зеленеют в моменты ярости, как и у Уайатта, и он, похоже, живет всего лишь в квартале к северу от уайаттовской студии на Горацио-стрит. Ансельм, подобно Уайатту, испытывает недоверие к рациональности и получает бритву отца Уайатта – что в результате приводит к его оскоплению; и все трое, как отмечает Макс, «сыновья матерей», страдающие от психологического напряжения между матерями и сыновьями, между материнской Церковью и ее заблудшими сыновьями.
В духе князя Мышкина или Алеши Карамазова из книг Достоевского Стэнли играет в «Распознаваниях» роль юродивого, и, перемещаясь по грязным сценам романа, остается безукоризненно чистым и доброжелательным. Но, в отличие от блаженных персонажей Достоевского, наделенных какой-никакой безмятежностью, в Стэнли хватает мрака и неуверенности в себе. «Его окружало искреннее чувство вины», – говорится при его первом появлении. Он одиноко стоит на вечеринке, где присутствуют три женщины, которые нападут на ту чистоту, что он так ревностно защищает. Литературный агент Агнес Дей – бывшая католичка, которую он надеется вернуть на путь истинный; Ханна – безнадежно влюбленная в него пухлая художница из Виллидж; и Эсме – во многих аспектах его сестра по духу, которую он хочет «спасти», но она пробуждает в нем больше эроса, чем агапе. Вдобавок Стэнли преследуют мысли о матери, умирающей в ближайшей больнице, и его незавершенной мессе на органе, которую он надеется закончить до ее смерти – но которая в итоге буквально приносит смерть ему.
Стэнли разделяет разочарование Уайатта, связанное с творением сакрального искусства в такие безбожные времена, и многие его эстетические заявления могли бы запросто исходить из уст Уайатта. Также он разделяет и уайаттовское стремление к самоизоляции и дискомфорт от контакта с людьми, ужас от близости, временами доходящий до бессердечия. Он инстинктивно отвергает первый из многочисленных знаков внимания Агнес: «освященный разум отринул блудное сердце» – эту позицию он выдерживает на протяжении всего романа, настаивая, что любовь и единство по-прежнему можно найти в церкви. Переживая из-за «пропасти между людьми и современным искусством», Стэнли сочиняет музыку в стиле Габриели – органиста эпохи Возрождения, и тонет в ностальгии по ушедшим временам, когда искусство и религия шли рука об руку и сплачивали сообщества, – так и Уайатт представлял себе ФландриюXV века. Он спокойно возражает легкому цинизму Макса, Отто и других, в отличие от Ансельма. Швыряя в лицо Стэнли отрывки из Матфея 10:35-6 («Ибо я пришел разделить человека…»), Ансельм шипит: «Да, вот твоя пропасть, рука твоего вечного Христа!» – и, захлебываясь гневом, атакует уверенность Стэнли в «духовной любви»:
И кончай с этим проклятым… этим богом проклятым ханжеским отношением, воскликнул он, выворачиваясь, и они встали лицом к лицу. – Стэнли, богом клянусь Стэнли что есть то есть, а ты ходишь и обвиняешь всех подряд, что они отказываются смириться и подчиниться любви Христа и это ты, ты сам отказываешься от любви, ты сам не можешь вынести любовь, чтобы любить и тебя любили здесь, в этом поганом мире, в этом богом проклятом мире, где ты находишься прямо сейчас, прямо… прямо сейчас.
В заключение, дразня Стэнли порнографической фотографией Эсме, Ансельм находит его истинный страх – сексуальную близость, подавление, страх, который еще будет преследовать Стэнли во время океанского плавания с Эсме.
Ансельм бросает вызов брезгливому, даже аскетическому христианству Элиота (в то время как Стэнли цитирует его наизусть) в духе «Безумной Джейн» Йейтса, которая презрительно отвергает «небесные блага», потому что знает, что «храм любви стоит, увы, / На яме выгребной»[115]115
115. Йейтс У. Б., Безумная Джейн и епископ, в: Йейтс У. Б., Роза и Башня, пер. Г. Кружкова, СПб: Симпозиум, 1999.
[Закрыть]. Прячущий толстовское «Царство Божие внутри вас» за девчачьим журналом, больше кощунственный, нежели набожный, на деле Ансельм враг не верующих, а фанатиков. Он видит в Новом Завете радикальный текст и презирает тех, кто соглашается с написанным или приукрашивает его строгий призыв к смирению и отречению – призыв, с которым, по его мнению, все должны мучиться так же, как он сам. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение», – советует Павел[116]116
116. Флп. 2:12. – Прим. пер.
[Закрыть], а не с заискивающей верой, свойственной многим христианам. Когда друг Ансельма Чарльз пытается покончить с собой, мать отрекается от него, потому что он не желал возвращаться в Гранд-Рапидс и посвятить себя христианской науке, Ансельм говорит Ханне:
Чего я не выношу, так это самодовольства, выпалил Ансельм. – Нигде не выношу, но больше всего не выношу в религии. Видела мать Чарльза? Видела ее улыбку? эту праведную христианскую улыбку […] Ни черта не виню Чарльза за то, что он свихнулся. Бог есть Любовь! Да мы бы все свихнулись, наслушаешься такого от своей матери – и вот лежишь с перерезанными запястьями. Но чтобы любовь на этой земле? Господи!.. жалость? сострадание? Вот что меня так бесит, если вам интересно, болтает о какой-то любви бог весть где, а что сама ему дала? Когда он не поехал в Град-сука-Рапидс на лечение христианской наукой? Удостоила очередной вечно прóклятой праведной улыбки и бросила. Бросила без гроша, на растерзание Беллвью или чтобы он снова попробовал сам. Бог есть Любовь, господи Иисусе! Да если бы Петр улыбался, как эти из христианской науки, Христос бы ему все зубы повыбивал.
Он то язвит: «Я завидую Христу, у него была болезнь, названная в честь него», то доказывает существование Бога цитатами из святого Августина и Ансельма (ради него он отрекся от родного имени Артур) и разрывает в клочья чью-то битническую версию «Отче наш». Ансельм дико мечется между лютым богохульством и неохотным уважением к учению Христа. Но столь же страстный, сколь Стэнли целомудренный, Ансельм не может примириться с христианскими предубеждениями против секса: «Столько всяких… мерзких предательств вокруг, и этот, этот… этот единственный миг доверия – грех?» Но те сексуальные отношения, какими он хвастается, оказываются актами издевательств, а не доверия, и, возможно, являются реакцией на очевидное гомосексуальное влечение к Чарльзу и Стэнли, которое он пытается задушить в себе на протяжении всей книги. Проблемы нищего, небритого героя усугубляют пьянство и отказ (издателем Ректаллом Брауном) в издании его религиозной поэзии. Он самый разгневанный персонаж в этом романе.
«Почему ты так со всем борешься?» – спрашивает его Стэнли, вторя вопросу Эстер к Уайатту. Ансельм, как Уайатт и Стэнли, не способен на нежность и, что еще важнее, не в ладах с матерью. Ансельм называет ее религиозной фанатичкой, которую больше интересуют собаки, нежели ее несчастный сын, и именно поэтому он периодически ползает на четвереньках. И именно после галлюцинаторного столкновения с матерью в подземке Ансельм кастрирует себя старым лезвием преподобного Гвайна, украденным на вечеринке у Эстер. Тем самым он подражает «Оригену, этому выдающемуся Отцу Церкви, который от воодушевления третьего века нашей эры кастрировал себя, чтобы повторять hoc est corpus meum, Dominus[117]117
117. Помилуй нас… Горе побежденным (лат.). – Прим. пер.
[Закрыть] без раздражающих помех в виде вздымающейся тени плоти».
Как и у Стэнли, у Ансельма зашел «ум за разум от религии». Он следует примеру Томаса Мертона – и уходит в монастырь на западе, чтобы писать мемуары (к большому изумлению Стэнли)[118]118
118. «Семиярусная гора» Мертона в некоторых моментах может быть прообразом пути Ансельма; отзывы на книгу Ансельма на стр. 935 Р. очень похожи на те, что получал Мертон.
[Закрыть]. Стэнли тоже кончает плохо; не от мира сего, как и Эсме, он гибнет при весьма символических обстоятельствах.
На последних двух страницах «Распознаваний» Гэддис в сжатой форме пересказывает все основные конфликты романа: видимость против реальности (церковь в Фенеструле меньше, чем кажется ночью); идеал против истины («ничего, абсолютно ничего не было таким, каким должно»); темная ночь против «необъятного сознания освещенного неба»; американская невинность против европейской опытности (Стэнли одет в красное, белое и голубое, играет на несоразмерно большом органе, пожертвованном американцем, и не может понять предостережения итальянского священника о басовых нотах и диссонансах); требования искусства против потребности в любви; людская утрата против творческой выгоды; церковь как «личная молельня» против «общественной уборной» (и то и другое находится в одном здании, узнает Стэнли); и религия как убежище против гробницы. Церковные колокола звонят в честь новой жизни Уайатта(и, возможно, Отто и Ансельма), но и по скорой смерти самого набожного католика и самого преданного художника романа, мученика от искусства и религии, «ибо так требовала работа».
ФРЭНК СИНИСТЕРРА И МИСТЕР ПИВНЕР
В «Распознаваниях» столько же отцов ищут сыновей, сколько сыновей бегут от матерей в поисках духовных отцов. Никто не путает свою мать с чужой («Возможно, что amor matris, родительный субъекта и объекта, – единственно подлинное в мире»[119]119
119. Джойс Д., Улисс, пер. С. Хоружего и В. Хинкиса, СПб: Азбука, 2008.
[Закрыть], – заключает Стивен Дедал), зато разные поколения связываются рядом извращенных комбинаций отцов и детей. Преподобный Гвайн оставляет своего сына сначала ради Сына, затем – ради Солнца; оставленный Уайатт начинает видеть отцовскую фигуру в таких разношерстных персонажах, как Ректалл Браун, Бэзил Валентайн, Фрэнк Синистерра, писатель Лади и привратник в монастыре, где он оказывается в конце романа. Синистерра – настоящий, но разочарованный отец Чеби, ошибочно принят Отто за отца, а затем входит в отцовскую роль для Уайатта; отец Отто, мистер Пивнер, теряет сына, но в итоге находит его в Эдди Зефнике; Стэнли ненадолго находит отцовскую фигуру в лице отца Мартина; Эрни Мунку не удается стать отцом так долго, что его жена от отчаяния крадет ребенка, а гомосексуал Швед Большая Анна становится законным отцом, «потому что я могу быть с маленьким Джионо, только если усыновлю его»; и даже небесный отец, почитаемый христианами, оказывается не более чем полезной фикцией, отцом всех или никого.
Фрэнк Синистерра (еще одна комедийная удача Гэддиса) – такой же набожный католик, как Стэнли, и так же предан искусству, как Уайатт; он играет ключевую рольи в направлении Уайатта на жизненный путь, и в прояснении его художественных взглядов. Впервые Синистерра появляется в одной из своих многочисленных личин как корабельный хирург на «Победе Пердью» и обрывает жизнь Камиллы во время импровизированной аппендэктомии. Задержанный и приговоренный к тюрьме, что ему ненавистно «не больше, чем святому Августину было ненавистно его удаление от мира, когда он жил рядом с Тагастом», Синистерра пропадает на 500 страниц (и тридцать лет). Затем он вновь появляется в романе и играет все более заметную роль: сначала в жизни Отто, а потом и Уайатта.
Позже, выдавая себя за мистера Яка, он встречает Уайатта у могилы Камиллы в Испании и берет его под крыло – во-первых, потому что видит в этом возможность возместить ущерб за ранее содеянное, во-вторых, потому что находит в Уайатте сына, которого не нашел в Чеби. Несмотря на все отцовские усилия, Синистерра не смог уберечь родного сына от участи «лодыря»:
Каждый раз, когда я был дома, чтобы поделиться с ним своими знаниями и опытом, я пытался его учить. Учил, как взламывать американский замок полоской целлулоида. Учил, как вскрывать замок смоченной ниткой и щепкой. Учил, как изображать искривление спины или искривление ноги. Меня этому никто не учил. Сам выучился. И было тяжело, а у него был я, рядом, его собственный отец. И чему он учится? Ничему. В жизни не работал ни дня. Думаете, я назову такого лодыря сыном?
Он знает, что Уайатт не «лодырь», о чем ему и говорит. Синистерра даже наполняется родительской гордостью, узнав, что Уайатту достаточно известно о египетских мумиях, чтобы помочь в создании самой амбициозной подделки Синистерры. Он нарекает Уайатта именем, данным ему изначально, и к тому времени, когда «мистер Як», «Стивен» и их «мумия» садятся на поезд, они уже напоминают «усталую и не вполне респектабельную семью».
Синистерра занимает место преподобного Гвайна, буквально следуя по его стопам: в описании его приближения к Сан-Цвингли много отголосков аналогичного приближения Гвайна, у обоих «огонь в глазах»[120]120
120. Кольридж С. Т., Поэма о старом моряке, пер. Н. Гумилева, СПб: Всемирная литература, 1919.
[Закрыть] Старого Моряка Кольриджа. Оба смотрят на дождь из окна мадридских номеров и их леденит мысль о том, чтобы забыть закрыть окно или оставить что-то ценное под дождем. У Синистерры «свет в глазах, редко встречающийся сейчас, не считая психиатрических лечебниц и отдельных церковных кафедр» – нынешнее и бывшее места обитания преподобного Гвайна. Но, что важнее, Синистерра дает Уайатту, в отличие от его душевнобольного отца, моральное наставление: он видит Уайатта через призму его сложной символической смерти в воде(в лихорадочном бреду), и в их последнем разговоре, когда Уайатт/Стивен вглядывается в его лицо, «словно ожидая какого-то ответа», Синистерра советует: «Что тебе, наверное, стоило бы сделать, начал он, – так это уйти на время в монастырь, что ли, необязательно становиться монахом, будешь там скорее как гость». Стивен следует совету, и там, на склоне холма, переживает прозрение, освобождающее его для новой жизни.
Как и Стэнли, Синистерра умирает мучеником за свое искусство, виновным в том, что любил только собственные работы. Синистерра, пародия на настоящего художника, расточает всю свою технику и знания на подделки, и, «как и любой чуткий артист в горниле неблагожелательных критиков», страдает от недоброжелательных рецензий. Являясь комичным голосом в эстетических дебатах романа, Синистерра символизирует опасность чрезмерной уверенности в бездушном мастерстве; Уайатт сражен красотой Дамы из Эльче на испанской банкноте в один песо, а Синистерра только отмахивается от «дешевой гравировки». Стэнли настаивает: «Не любви к самому произведению ради работает художник, но чтобы через него выразить любовь к чему-то высшему, потому что только там искусство поистине свободно, служит чему-то выше себя», но Синистерра волнуют только отмытые деньги, а его «искусство», естественно, ограничено рабским подражанием с намерением обмануть, а не просвещать или служить чему-то высшему. Синистерра с тем же благоговением, что и Стэнли с Уайаттом, изучает и уважает «старых мастеров», имея в виду таких мошенников, как Джонни Джентльмен и Джим Фармазон, но ошибочно считает «ремесленника, художника» взаимозаменяемыми терминами и слеп к мотивам, возвышающим ремесленника до художника. Его карьера придает курьезное, но полезное измерение роману о роли художника в обществе и той эстетике, что отличает творчество от подражательного ремесла.
Мистер Пивнер, не будучи ни художником, ни ремесленником, самый простой персонаж в этом непростом романе. Он живет в тихом отчаянии в Век Тревоги[121]121
121. Отсылка к поэме «Век тревоги» У. Х. Одена. – Прим. пер.
[Закрыть] – практически хрестоматийный образец из «Одинокой толпы» Рисмена (1950). Веря, что «еще будет время»[122]122
122. Элиот Т. С., Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока, в: Элиот Т. С., Бесплодная земля. Полые люди. Поэмы, стихотворения, пьесы. М.: Иностранка, 2018, пер. А. Сергеева.
[Закрыть], Пивнер разделяет все сомнения и опасения Пруфрока, но не обладает ни одним его романтическим стремлением и, подобно элиотовскому мечтателю, уклоняется от любого типа самоутверждения, кроме самого покорного. Хотя он появляется в романе всего полдесятка раз, где каждый – тихая сцена, искусно балансирующая между пафосом и бафосом, Пивнер выполняет две важные функции: во-первых, иллюстрирует оцепенение обычной жизни, на которую реагируют персонажи Гэддиса; во-вторых, представляет собой приземленный аналог чужим экзотичным поискам смысла и подлинности.
У преподобного Гвайна – книги о мифах и магии, у Уайатта – алхимические трактаты, у Эсме – Рильке, у Стэнли – Элиот, у Ансельма – Святой Ансельм, у Валентайна – Тертуллиан, у Синистерры – «Детектор подделок» Бикнелла, у мистера Пивнера же – Дейл Карнеги. Он изучает бестселлер «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» с тем же вниманием, с каким другие относятся к работам своих авторов, хотя, к его чести, Пивнер больше заинтересован в завоевании друзей, чем в оказании влияния – особенно в дружбе с Отто, его потерянным сыном. Призыв Карнеги к «новому образу жизни» – мирская версия сакральных призывов Христа, Данте и Рильке, на которые стремятся ответить другие персонажи. Хотя Пивнер по большому счету не осознает, что он и остальные миллионы читателей Карнеги находятся в безуспешной погоне за «„Я“, что прекратило существовать в тот же день, когда они перестали искать только его», у него тоже случаются моменты распознавания, проблески своего «„я“-которое-может-больше». Музыка типа «Реформационной симфонии» Мендельсона его в основном нервирует, «но иногда его сражал такт из „классической“ музыки, последовательность аккордов вроде тех, что изливались сейчас, ощущение одиночества и подтверждения одновременно, чувство чего-то утраченного, чувство узнавания, которого он не понимал». Его мимолетные порывы к аутентичности передаются тем же образным комплексом алхимии/металлургии/фальшивок, используемых Гэддисом на протяжении всего романа – «примесь идеального металла в его сплаве взывала к идеалу», но под безжалостным шквалом рекламной мишуры, льстивых книг о помощи себе и многословных заверений науки и разума «эта совершенная частица затонула, вновь удовлетворяясь любой подделкой себя, что представляет ее ценность среди других». В то время как прочие персонажи яростно выступают против угасания огней цивилизации, Пивнер тихо сливается с этим невежественным современным миром.
Пивнера арестовывают, когда он вместе со своим суррогатным сыном Эдди Зефником слушает знаменитую ораторию из «Мессии» Генделя, которая начинается словами: «Он был презрен и умален перед людьми, муж скорбей и изведавший болезни»[123]123
123. Гендель Ф. Г., оратория «Мессия», пер. А. Шарапова, сетевая публикация.
[Закрыть]. И позже его соответственно «распинают» лоботомией (по предложению Эдди, вступающего в ряды эдиповых охотников за головами романа) после отправки в тюрьму как фальшивомонетчика – важно отметить, практически без доказательств, что подчеркивает уместность метафоры. (Это предсказывалось в одном заголовке, которые ранее Пивнер читал в романе: «Лоботомия излечила мужчину от подделки чеков».) Смысл этого невероятного поворота событий в том, что Пивнер оказывается жертвой того же невроза тревожности, который подающий надежды ученый Эдди Зефник с интересом наблюдает при экспериментах над «целой кучей малышей (ха-ха я имею в виду козлят), которые подключены, и когда свет темнеет, их бьет током, и через какое-то время как только темнеет малыш пятится в угол и пугается и через какое-то время вырабатывается невроз тревожности, потому что сперва он просто пугается но вот когда мы меняем сигналы тут уж начинается настоящий невроз тревожности». Создатели послевоенного общества изменили сигналы вплоть до того, что старые значения и определения подходить перестали, а новые оказались нацелены только на «хорошую цену на рынке». Люди, подобные Пивнеру, – без убеждений, чтобы сохранять старые ценности, и без храбрости, чтобы создавать новые, – с тем же успехом могут согласиться и на лоботомию.
Мистер Пивнер, этот тихий центр романа, – гэддисовская версия Вилли Ломана и его неудача. Это трагедия обычного человека. Он старается поддерживать ценности, удивительно нереальные в дивном новом мире «Века Публичности», ценности, идущие вразрез с теми, что транслирует елейный ведущий по радио, к которому он внимательно прислушивается: «Что это за аномалия в нем продолжала твердить, что человеческий голос надо слушать? печатное слово – читать? Чем был этот ожидающий взгляд, если не надеждой? эта бдительная усталость, если не верой? это недоуменное неумение проклинать, если не милосердием?» Среди охваченных страхом отчаянных персонажей и их поисков философского камня и воли Божьей неудачные поиски мистера Пивнера, жаждущего любви и подлинности, выглядят до банальности неромантично – и, возможно, потому и гораздо трагичнее.