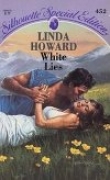Текст книги "Уильям Гэддис: искусство романа"
Автор книги: Стивен Мур
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц)
МЕТАНИЯ МЕЖДУ СОЛНЦЕМ И ЛУНОЙ
Начав роман с похорон Камиллы, Гэддис привлекает наше внимание к персонажу, который меньше всех появляется в книге, но тем не менее оказывает самое сильное влияние на Уайатта, – к его матери. Фактически ее единственное появление в хронологическом развитии романа (так мы исключаем флэшбеки на страницах 14 и 52) – это призрак, возникающий перед трехлетним Уайаттом в момент ее смерти в открытом море. Способность видеть призрак матери, говорит Аниэла Яффе в своем юнгианском исследовании «Видения и предвидения», «указывает на обостренное бессознательное или относительно легкое и быстрое снижение порога сознательного» и «обозначает тесную связь с бессознательным, то есть укорененность в инстинктивной жизни», так как «мы не должны забывать, что «мать» – это давно устоявшийся символ бессознательного»[61]61
61. Jaffe A., Apparitions and Precognition, New Hyde Park, NY: University Books, 1963.
[Закрыть]. Уайатт видит Камиллу, но она исчезает при появлении тети Мэй – точно так же от тети Мэй улетает малиновка, – а значит, при отрицании бессознательного, инстинктивного, эмоционального, и, конечно же, иррационального, приводится в движение дихотомия, действующая во всем – противостояние сознательного и бессознательного, матери и отца, инстинкта и интеллекта, эмоций и рациональности, ночи и дня, язычества и христианства и так далее. Извращенный влиянием тети Мэй и лишь сбитый с толку влиянием отца, в дальнейшем Уайатт будет метаться между двумя крайностями, представленными в виде отца и матери, подобно путешествию Криспина – «колебанию меж двух стихий, / Луны и солнца»[62]62
62. Стивенс У., Фисгармония, пер. Г. Кружкова, М.: Наука, 2017.
[Закрыть], из поэмы Уоллеса Стивенса, пока не поймет: ни одна крайность не должна превосходить другую, нужно взять лучшее от обеих.
Очевидно, на эту схематичную психологическую программу нужно нарастить «мясо». Необходимость в интеграции сознательного и бессознательного – открытие не современное, а скорее древнее, с богатой и экзотической историей. Оно в центре таких неожиданных дисциплин, как алхимия, колдовство, гностицизм, «настоящая» поэзия (как Роберт Грейвс обозначает ее в «Белой богине»), и прочих ересей – все это можно найти в насыщенной первой главе «Распознаваний». До того, как о бессознательном заговорили современные психологи, его функции описали в других категориях те, кто понимал: восприятие – это не только то, что дает нам дневное сознание. Об этом альтернативном сознании говорят большинство платонических и восточных философий, все оккультные традиции, мистические ответвления институциональных религий – и нет счета методам, с помощью которых адепты стремились прикоснуться к его уникальным силам. Самые универсальные символы этих двух моделей сознания – Солнце и Луна; с Солнцем ассоциируются так называемые мужские черты – рациональность, интеллект, порядок, обособленность, логика и так далее; Луне приписывают противоположные, женские черты: интуиция, эмоции, нежность, гармония и так далее. Следовательно, уже привычно говорить о противопоставлении солнечного сознания и лунного: для большинства интеллектуальных занятий и институциональных религий нужно солнечное мышление, а большая часть мистических и оккультных традиций, как и художественное творчество, отдают дань уважения Луне. Ницше говорил о различии между аполлонической и дионисийской энергией, научные дискуссии двадцатого века сосредоточились на двух полушариях мозга: левое отвечает за традиционные мужские черты, а правое – за женские. И хотя эти исследования могут привнести в вопрос новую психологическую ясность, на данный момент пока еще уместно говорить о солнечном и лунном сознании из-за их богатого символического наследия – и тем более потому, что самые явные и очевидные модели образов в «Распознаваниях» – это символические приравнивания преподобного Гвайна к Солнцу, а Камиллы – к Луне. Приравняв их уже в начале первой главы, Гэддис пользуется обилием религиозных и мифологических коннотаций Солнца и Луны, мастерски расширяя пространство внутренней борьбы Уайатта за психологическую целостность до вселенских масштабов, привлекая архетипические образы, влиявшие на цивилизацию с самого начала известной истории. Вездесущность солнечных и лунных образов в романе не только превращает даже погоду в красноречивые знаки,указывающие на психологическое состояние Уайатта, но также освещает и оправдывает другие загадочные образы и отсылки, которые могли бы показаться излишними в ином случае.
Символическое соотношение Солнца и преподобного Гвайна вводится и поддерживается главным образом за счет его увлечения митраизмом – персидским предшественником и ранним конкурентом христианства, где божество считается Sol Invictus, то есть Непобедимым Солнцем. Уже на восьмой странице читателю с типичным для Гэддиса ироничным намеком сообщают: в семинарии Гвайн «начал курс митридатизма, что еще сослужит ему добрую службу на склоне лет». Еще мы узнаем, что до возвращения в Новую Англию после похорон Камиллы он посетил митраистский храм под базиликой святого Климента в Риме (сам Гэддис посетит ее только в 1984-м). Гвайн расправил плечи, «когда возвращался из того подземного митреума», убедившись, что христианство – подделка митраизма, и посвятил себя не Сыну, а Солнцу.
Но перед этим ему является Камилла в сверхъестественном обличии – тогда она впервые символически приравнивается к Луне. Через пару месяцев после смерти жены Гвайн заболевает и впадает в бред в монастыре Real Monasterio de Nuestra Señora de la Otra Vez[63]63
63. Королевский монастырь Богоматери Другого Времени (букв.); предположительно, Гэддис имел в виду «Монастырь Богоматери Старого Времени (Прошлого)». – Прим. пер.
[Закрыть]:
Так он лежал однажды вечером, покрытый испариной несмотря на холод, почти заснув, как тут его внезапно разбудила рука жены, на плече, как она будила раньше. Он с трудом добрался с постели в алькове через комнату к окну, где холодный свет тихо отражал эхом его шаги. Там светила луна, тянувшая неподвижную руку за него – к постели, где он лежал. Так он шатко стоял в холодных спутанных слогах, почти составившихся в ее имя, словно мог вспомнить и призвать обратно времена до того, как смерть вошла в мир, до трагедии, до волшебства и до того, как волшебство отчаялось и стало религией.
То есть и преподобному Гвайну предлагается «путь» к лунному сознанию, но возможность оказывается упущена. Выздоровев, он бросает безрадостное христианство своего пуританского городка, чтобы искать «устойчивые закономерности, означающую форму» в сравнительном религиоведении. Он считает, этого достаточно, чтобы оторваться от кальвинистских традиций тети Мэй и ее глупых дам из общества «Пользуйся Мной» и чтобы просвещать паству о параллелях между язычеством и христианством. Но относительно Камиллы Гвайн может только уповать, что время придет (частый пруфроковский рефрен в тексте), и откладывает свое исцеление от утраты до того, когда оно уже становится невозможным.
И отец, и сын теряют вместе с Камиллой и ключ к женскому компоненту мужской психики, который Юнг называл анимой. Преподобный Гвайн женился слишком поздно и только после смерти отца, а значит, его воспитание могло быть таким же строгим, как у Уайатта под надзором тети Мэй – родственницы по отцовской линии, следует отметить. То, что Камилла с ее нравом противоположна подавленной жизни патриархальной среды, ясно из двух флэшбеков. В обоих случаях она показана жизнерадостной, порывистой, дерзкой, но прежде всего – заботливой: заметив, что ее отец наклеил обои вверх ногами, «она обняла его за сутулые плечи и поблагодарила, и так и не сказала». Тетя Мэй или Эстер немедленно указали бы на ошибку. После смерти Камиллы преподобный Гвайн не в силах вернуть утраченное; он не задумывается о повторном браке – возможно, в соответствии с митраистским запретом жениться больше одного раза, – и вместо этого зарывается в исследования, видимо, чувствуя, что, если разоблачить мошенничество христианства перед паствой, он сможет все исправить. (Так же и Уайатт позже предположит, что искупит свои грехи, если разоблачит подделки на званом вечере Брауна; в обоих случаях непросвещенные предпочитают не меняться – из-за чего так негодует Маккэндлесс в «Плотницкой готике».)
На тот момент исследования преподобного сосредоточены на открытии и популяризации предшественников и параллелей христианства. Но духовную пользу, которую другие находили в дохристианских религиозных традициях, он не замечает. Его предпочтение «акцидентов» религии вместо ее «субстанции» (применяя терминологию месс, как ее использует Гэддис) – это, к слову, та же ошибка, которую Витгенштейн находит у Фрэзера (на чьи исследования в основном и опирается Гвайн). «Какая узость в духовной жизни у Фрэзера! – возмущается австрийский философ. – А отсюда – такая неспособность понять жизнь иную, чем у англичан его времени!»[64]64
64. Витгенштейн Л., Заметки о «Золотой ветви» Дж. Фрэзера, пер. А. Столярова, М.: Историко-философский ежегодник, 1989.
[Закрыть]. Подходящий пример – упоминание преподобным Гвайном древнего ритуала «низведения Луны»: весь его интерес к обряду ограничивается тем зловещим языческим светом, что он проливает на Матфея 16:19, когда Иисус сводится до уровня фессалийской ведьмы[65]65
65. Преподобный Гвайн говорит о «фессалонийских» ведьмах, но он, как ученый-классик, не допустил бы такой ошибки. В одном из источников Гэддиса перепутали Фессалию – предполагаемый рассадник колдовства, с Фессалоникой, и Гэддис просто повторил ошибку; см. Аннотации к 28.15 в сетевой версии моего Reader’s Guide to William Gaddis’s “The Recognitions”.
[Закрыть]. Однако этот обряд (по сей день в ходу у викканов) – на самом деле не что иное, как медитативное упражнение по расширению лунного сознания, «дабы вернуть мать на психологическую орбиту личности» [66]66
66. Farber M., Modern Witchcraft and Psychoanalysis, Rutherford, NJ: Fairleigh Dickinson University Press, 1993.
[Закрыть]. Это не глупое суеверие, каким его считали Лукан, Аристофан и прочие древние философы, а скорее духовное упражнение сродни медитациям Лойолы или алхимическому труду. Для отца это лишь древняя диковинка, но Уайатт в итоге распознает пользу низведения Луны.
Заходящее солнце и восходящая луна уместно присутствуют в ключевом событии первой главы: лечении юного Уайатта ритуалом изгнания зла в козла отпущения. Мириам Фукс предположила, что под принесением преподобным Гвайном в жертву варварийской обезьяны замаскирована жертва самой Камиллы, поскольку «эта обезьяна заменила Камиллу», как считала тетя Мэй[67]67
67. См. Fuchs M., “Il miglior fabbro”: Gaddis Debt to T. S. Eliot, in: Kuehl and Moore’s In Recognition.
[Закрыть]. Очевидные параллели со Страстями Христовыми указывают, что Гвайн приносит в жертву жену, чтобы жил сын, – как христианский бог пожертвовал своим сыном, чтобы христиане жили вечно[68]68
68. Геракл «машет куском хлеба», когда Гвайн навещает его, что напоминает тайную вечерю, а описание места погребения Геракла (54-5) взято из Евангелий (Мф. 27:60, Мк. 16:14). Когда Уайатт пытается ходить, то чувствует, как в ступни вбиваются гвозди, что напоминает нам о распятии.
[Закрыть]. Неясно, переселяется ли дух Камиллы сначала в обезьяну – Геракла, а затем в Эсме, как считает Фукс, или попросту представляет аниму Уайатта; но очевидно, что этим актом жертвоприношения преподобный Гвайн окончательно порвал с Камиллой. Для жертвоприношения нужно отдать что-то дорогое – и он жертвует женой ради сына. В начале ритуала он отвернулся от фотографии Камиллы, а после больше не говорит о ее смерти. Подобно Родерику Ашеру, спрятавшему свою аниму в убежище бессознательного, преподобный Гвайн навлекает гибель на себя и свой дом.
Отец надеется, что Уайатт сможет найти то, что потерял со смертью Камиллы он сам. Вскоре после выздоровления Уайатт поселяется в швейной комнате Камиллы, куда, как напоминает нам рассказчик, «она приходила в момент смерти», и переживает опыт, похожий на опыт отца в Испании. То, что было предложено Гвайну и отвергнуто им, теперь в навязчивой форме предлагается Уайатту. Примечательно, что в это время он начинает работать над двумя картинами, и каждая способна привести его либо к спасению, либо к проклятию, в Балиму (рай) или в Уруму (ад). Речь о портрете его матери и копии «Семи смертных грехов» Босха. Первая – попытка искупить память матери и ее богатое символическое наследие, вторая – мрачный символ кальвинистского мировоззрения, которое ему пыталась навязать тетя Мэй(в итоге именно эта картина привела Уайатта в мир подделок). Обе будут преследовать героя весь роман.
Портрет Камиллы пишется по фотографии на каминной полке в гостиной, и тут важно помнить, что фотографию сделали еще до ее замужества. В первой главе много говорится о символической девственности Камиллы: она «принесла Гвайну сына и ушла невинной в землю; невинной, по крайней мере, в глазах людей», – потому что Гвайн перевозит ее на белой похоронной карете, «предназначенной для детей и дев». Для Уайатта Камилла осталась «его девственной матерью» и, следовательно, она уже не импульсивная девушка из Новой Англии, вышедшая замуж за отца, а скорее идеализированная фигура, которую Грейвс называет Белой богиней: одновременно и девушка, и мать, и бабушка, и покровительница белой магии искусства.
Таким образом, в конце первой главы, насыщенной символами, Уайатт должен выбрать между христианским мифом Отца и Сына, воплощенном в преподобном Гвайне, ведь «отчего-то отец и Господь были одним и тем же лицом», и древним культом Белой богини и ее сына – художника-жреца. Но вместо того чтобы завершить портрет матери, Уайатт сначала заканчивает подделку Босха и продает ее Ректаллу Брауну – и, выручив деньги, оплачивает поездку в Европу ради изучения живописи. А незаконченный портрет Камиллы (пока его не погубит огонь, из-за чего Уайатт отправится в Испанию за «оригиналом») и ее византийские серьги, переданные ему отцом, будут напоминать о незавершенных отношениях с матерью/анимой, которые, в свою очередь, помешают строить полноценные отношения с любой другой женщиной. («Закончи [ее], – будет умолять Эстер. – Может, тогда освободится место для меня».) Уайатт не гнушается никакими уловками, лишь бы избежать примирения с матерью и всем, что она олицетворяет. Камилла остается «в холодной бдительности ожидания» подобно Луне, пока ее сын растрачивает наследство и иллюзорно довольствуется существованием, где мать не играет никакой роли, пока не понимает: только мать может восполнить его утраченную частичку, без которой он не существует полноценно.
МИР НОЧИ
В письме из Мюнхена Уайатт говорит отцу, что чувство вины не позволяет ему продолжать обучение на священника,и, как виновный преступник, уходит в подполье. В романе часто подчеркивается, что Уайатт пишет по ночам, и это вызывает традиционные ассоциации с темным временем суток: смерть, грех, вина, страх, преступление, секс и – не самую традиционную – творчество. В «темнеющей комнате» парижской студии Уайатта художественный критик Креме напоминает о замечании Дега: «Художник должен приступать к творчеству с тем же чувством, с каким преступник совершает преступление». Когда Эстер годы спустя застает Уайатта врасплох в его нью-йоркской студии, он стоит, «словно громом пораженный, посреди какого-то преступления», и позже она задумывается: «Всегда ли теперь музыка Генделя будет напоминать о греховном поступке, словно преступлении в освещенной темноте, признаваемом за преступное только им, тем, кто его совершил». Эстер бранит «безумную кальвинистскую секретность, грех», но когда те же обвинения звучат от Валентайна, Уайатт защищается: «Все не так просто. […] Это ощущение… да, ощущение голубого летнего дня, понимаете? Это чересчур, такой день, слишком яркое освещение. Так хуже, не дает спроецировать это освещение самому, это… выборочное освещение, обязательное в живописи».
Нужно отметить повторяемость слова «освещение» (illumination) в некоторых цитатах, поскольку слово, наряду с изначальным смыслом, подразумевает еще и интеллектуальное просвещение и напоминает нам, что парадокс света, зарождающегося во тьме, – важный тезис мистицизма, алхимии и (как настаивает Уайатт) художественного творчества. Тем не менее в оправдании Уайатта чувствуется додумывание, ведь он жертва той вины и таинственности, в которых его обвиняют. Тетя Мэй привила ему, что художники – пособники дьявола, и Уайатт так и не сможет освободиться от ее влияния; за две страницы до своего финального исчезновения он все еще цитирует ее слова о «будущем грехе». Первые творческие пробы юного Уайатта происходят в тайне – не только его картины, спрятанные в мусоре, но и его первая подделка, и дальнейшие подделки Уайатта, естественно, обуславливают и секретность, и вину, несмотря на все его доводы. Тетя Мэй – первый и самый суровый критик Уайатта, и он, видимо, так и не забыл ее реакцию на свой первый рисунок: «Так значит, ты все-таки не любишь Господа нашего Иисуса? Он ответил, что любит. – Тогда зачем пытаешься занять Его место? Наш Господь есть единственный творец, и лишь грешники пытаются подражать Ему […] Вот почему Сатана есть павший ангел: он восстал, когда подражал Господу Нашему Иисусу. И заслужил за старания свое царство, верно же. Верно же! И его свет есть свет адского пламени! Этого ты хочешь?»[69]69
69. Источник тирады тети Мэй – книга уважаемого католического апологета Дени де Ружмона «Доля дьявола» (Denis de Rougemont, La part du duable, Brentano’s, 1945). Ее комментарии, соответственно, нельзя списать просто на личное возмущение озлобленной фундаменталистки. Призывы против изобразительного искусства в иудейских и мусульманских традициях произрастают из того же убеждения, что творчество – это прерогатива Бога.
[Закрыть]
Но в то же время ночь – царство женского начала под властью гетевской Матери Тьмы, ассоциирующееся в мифах и психологии с бессознательным. Рассказчик достаточно часто упоминает эту ассоциацию. Уайатта тянет к ночи, но одновременно он боится столкнуться с темными закоулками своего бессознательного. Он, жертва ночных кошмаров, часто работает по ночам, чтобы избежать сна, когда надо войти в «мир ночи, где потерянные души, сжимая путеводители, следуют за солнцем подземными дорогами сумрака, коридорами мрачными и опасными: поэтому король вырыл себе гробницу глубоко под землей и один блуждает там во мраке смерти по двадцати четырем тысячам квадратных футов проходов и залов, лестниц, палат и ям. Так по-египетски», – а значит, в подсознательное.
Столкновения с опасным бессознательным обычно принимают психомифическую форму спуска в ад или бдения в темной ночи души. (Одно из рабочих названий «Распознаваний» – «Бдения мертвых».) В романе прямо или косвенно упоминается огромный ряд работ на первую или вторую тему: «Фауст» Гёте (начинается с темной ночи души Доктора, дальше идет спуск в ад к Матерям), «Ад» Данте, «Темная ночь души» святого Иоанна Креста, апокрифические «Акты Пилата» (во второй части есть сошествие в ад), «Одиссея» Гомера (книга XI), «Энеида» Вергилия (книга VI), «Назначение человека» Фихте (книга 2), «Древнеегипетская Книга мертвых», «Одно лето в аду» Рембо, «Орфей и Эвридика» Глюка, «Пер Гюнт» Ибсена, «Гимны к ночи» Новалиса, «Трагическая история доктора Фауста» Марло, средневековая страстная пьеса «Сошествие в ад» и многое другое. Помимо них в тексте встречается много отсылок к мифам о преисподней, что ведет к новой ассоциации: приравниванию ночи к аду. Иначе говоря, Уайатт остается в аду, покуда остаются неразрешенными его психологические конфликты. Он пребывал в «инфернальном царстве» с самого прибытия в Нью-Йорк, и многочисленные косвенные, даже мимолетные отсылки, укрепляют это символическое отождествление, основанное на поэтической традиции приравнивания современного города к аду (Мильтон, Блейк, Фрэнсис Томпсон, Элиот, Харт Крейн и поздний Гинзберг). Город называют «Дит» (696, столица Ада у Данте), «хладный ад»[70]70
70. Грейвс Р., Белая богиня, пер. С англ. В. Ахтырской, М.: Иностранка, 2015.
[Закрыть], две уайаттовских подделки Баутса находят, вполне уместно, в Адской Кухне. Хватает даже окольных указаний: «Адски выглядишь», – говорит Браун Уайатту, а он отвечает: «Потому что я… адски вкалывал». Он того гляди застенает, как мильтоновский Сатана: «Везде в аду я буду; Ад – я сам»[71]71
71. Мильтон Д., Потерянный рай, пер. С англ. А. Шульговской М.: Художественная литература, 1983.
[Закрыть]. В дальнейшем, когда Уайатт решает вернуться из Новой Англии в Нью-Йорк и разоблачить свои подделки, он называет это «сошествием в ад».
Сбегая из Нью-Йорка, Уайатт оставляет преисподнюю и мир ночи ради Испании – чистилища, где ночь сменяется пасмурными, «бессолнечными» днями, когда Уайатт работает, преодолевая чувство вины. «Ровная бессменная серость неба» в испанских главах отражает недолгий союз яркого дня и темной ночи, стык двух крайностей, между которыми на протяжении всего романа метался Уайатт. Только в последний день рассвет приносит с собой ясное небо; весь роман Уайатт просыпался на закате, путая его с рассветом, но наконец проснулся на рассвете и сначала снова перепутал его с закатом, но быстро понял, что «небо не темнело, а светлело». Его долгая темная ночь души подошла к концу, Плеяды обозначают открытие навигации, Уайатт/Стивен готов к новому путешествию; цитируя Торо, он клянется «наконец жить разумно»[72]72
72. Торо Г. Д., Уолден, или Жизнь в лесу, пер. С англ. З. Александровой,М.: АСТ, 2019.
[Закрыть].
ПЕЛАГИЙСКАЯ АТМОСФЕРА
В мифологии движение Луны по небу чаще всего сравнивается с кораблем в море, иллюстрации лунных кораблей дошли до нас из множества древних культур. Небо многим казалось необъятным морем, и даже в наши дни технологий в космических полетах пользуются традиционной морской терминологией. Третий важный мифический символ в «Распознаваниях» рожден из метафорической идентификации моря с небом, что в свете рассмотренных выше отношений лунного и ночного символизма, вероятно, лучше всего понимать, как очередную грань постепенно проступающей большой и взаимосвязанной системы космологического символизма – опять же, расширяющего внутреннюю борьбу человека до вселенских масштабов.
Путешествие по ночному небу во многих мифах обычно олицетворяет еще одно столкновение с бессознательным, в особенности с анимой (так как небо – универсально распознаваемое женское царство). Гэддис строит текст на этом архетипичном символизме, дополняя его широким и колоритным набором дополнительных материалов, чтобы установить одну из главных тем романа – путешествия. Путешествие предполагает возвращение домой («Кто начинает странствие без мысли о возврате?»), и конечный пункт Уайатта – разрешение внутренних конфликтов, не дающих ему вести полноценную жизнь. Гэддис писал в заметках к «Распознаваниям»: «Я думаю, эта книга должна быть о путешествиях и вcех связанных с ними мифах и метафорах современности»[73]73
73. Цитата приведена в The Writing of The Recognitions Дэвида Кёнига, Kuehl and Moore, 23. Подробнее о реальных путешествиях и странствияхв Р. См. в главе 2 Crossing Boundaries Элисона Рассела.
[Закрыть]. Действительно, в путешествии Уайатта сопровождает тяжкий груз «мифа и метафоры» – в основном посредством умножения Гэддисом метафорических возможностей моря, пока оно не затапливает роман «пелагийской атмосферой».
Роман буквально начинается в море, а очарование путешествия и идея небесного моря представлены уже на 6 странице при обсуждении созвездий Арго и Плеяды. (Стоит отметить, что роман открывается закатом Плеяд, а заканчивается их восходом – символичным движением романа от смерти к перерождению, от Дня мертвых – к Пасхальному воскресенью.) На протяжении всей первой главы встречается множество отсылок к путешествиям – в особенности у эксцентричного Городского плотника, деда Уайатта по материнской линии, а также намеренные упоминания нескольких слияний неба, моря и земли: суровая равнина Кастилии сравнивается с морем; небо во время отъезда Уайатта в школу богословия описано как «темного оттенка серо-голубого, окаймленное цветами ржавчины под водой»; в неловкой совместной сцене преподобный Гвайн и Уайатт «застигнуты врасплох, как застигает пловца на поверхности то холодное течение, чья внезапность ловит судорогами и отправляет в онемелом изумлении на дно»; и первая из множества отсылок к средневековым сказкам Гервасия Тильберийского о том, что «небо – это море, небесное море, и о человеке, который спустился по веревке, чтобы отвязать зацепившийся за надгробие якорь». Даже интерес Городского плотника к воздушным шарам наводит на мысли о путешествии по небесному морю.
Однако этот традиционный троп вскоре обретает несколько неожиданных оттенков. Юный Уайатт ассоциирует утонувшего моряка из сказки Гервасия с мученической смертью святого Климента из-за утопления с якорем, присутствующего в обоих рассказах, а взрослый Уайатт добавляет к ним третий элемент – ироничное предположение Чарльза Форта (из его «Книги проклятых» [1919]), что, возможно, мы все находимся на дне небесного моря и нас вылавливают пришельцы над головами – об этом Уайатт(и после него – Эсме) будет часто говорить в романе. Эти три элемента в итоге присоединятся к образу подводной лодки, который будет набирать силу по ходу развития сюжета, пока не пойдут слухи о том, что Уайатт «живет в подполье. Или под водой». Далее в романе появляются похожие образы, пока Уайатт не решит вернуться домой к отцу после ночной ссоры с Валентайном. Там он рассмотрит их с христианской перспективы:
Теперь – помнишь? Кто это был, “gettato a mare”[74]74
74. Брошенный в море (ит.). – Прим. пер.
[Закрыть], помнишь? с якорем на шее? и брошенный, пойманный келпи и ставший мучеником, помнишь? в небесном море. Вот, может, нас ловят, как рыб. […] Ты читал Аверроэса? Что я хочу сказать – мы верим, чтобы понимать? Или чтобы… нас ловили, как рыбу. […] Да, да, точно. Плоть, помнишь? о бедная плоть человеческая, до чего же ты уподобилась рыбьей[75]75
75. Шекспир В., Ромео и Джульетта, пер. Б. Пастернака, М.: Речь, 2018. – Прим. пер.
[Закрыть]. Он вскочил. – Слушай, ты понимаешь? Нас ловят, как рыбу! На этой скале[76]76
76. Мф. 16:18. – Прим. пер.
[Закрыть], помнишь?и я сделаю вас ловцами человеков[77]77
77. Мф. 4:19. – Прим. пер.
[Закрыть]?
Внезапно вспомнив обещание Иисуса Петру и Андрею сделать их ловцами человеков – извлеченное из этой мешанины средневековых сказок, схоластики и даже строк из Ромео и Джульетты, – Уайатт решает вернуться домой и продолжить учиться на священника. Впрочем, в домашний период несколько «морских» отсылок указывают, что Уайатт все еще в море, что он ничуть не приблизился к спасению. Подводные образы продолжают встречаться на протяжении второй части книги, особенно при описании роскошных апартаментов Брауна, красиво названных подводной обителью ибсеновского Короля троллей. В третьей части Эсме ассоциирует Уайатта одновременно с утонувшим моряком, поднятым из океана во время ее путешествия со Стэнли по Европе, и с утонувшим моряком из сказки Гервасия. Первая ассоциация говорит о важности жизни, представляя символическую смерть Уайатта в море, предвещаемую в романе несколькими упоминаниями ранее. «Утопление» Уайатта происходит в главе, стратегически расположенной между его уходом под именем Стефана Эша от Синистерры с «мумией» в III.3 и его возрождением в виде Стивена в III.5 – под именем, которое хотела дать ему Камилла. Это очевидная параллель со «Смертью от воды» Т. С. Элиота, структурно расположенной в том же месте в «Бесплодной земле», – символическая смерть, необходимая для перерождения. «Я был в путешествии… – говорит Стивен/Уайатт в конце. – Я был в путешествии, берущем начало со дна морского».
В отличие от лунного и ночного символизма, поданных достаточно прямолинейно, морские символы в романе развиваются множеством неординарных способов. Можно считать образцовым примером затянутую шутку Гэддиса со словами «Пелагий/пелагианство/пелагический/пелагийство/Пелагия». Пелагианство – одна из ересей, о которой Уайатт спрашивает отца по возвращении с годового богословского обучения. Британский монах Пелагий (ок. 354 – после 410), один из великих ересиархов, не только отвергал доктрину первородного греха, но и настаивал, что люди свободны творить добро или зло, в отличие от учения Августина, согласно которому люди без духовного наставничества инстинктивно склоняются к злу. Преподобный Гвайн принижает достижения Пелагия: «Не будь Пелагия, был бы кто-нибудь другой. Но нынче мы… слишком многие из нас объясняют первородным грехом собственную вину и ведут себя… относятся к другим так, словно они полноценные… эм-м… Пелагийцы делают, что им вздумается…» Позже Уайатт признается, что он пелагиец, хотя это вряд ли означает, что он поступает как хочет. Скорее это значит, что он берет ответственность за свое спасение на себя, отказывается уповать на Христа (или его служителей), чтобы все сделали за него. Слишком уверенное упование на Христа, заявлял Пелагий, ведет к «моральному упадку»[78]78
78. Уолтер Нигг пишет в книге «Еретики» (The Heretics): «В борьбе с упадком морали римского христианского мира Пелагий сделал важное наблюдение: вырождение не может объясняться распадом Империи, к тому времени переживавшей последнюю агонию. Нравственный упадок, считал Пелагий, косвенно вызван учением, которое подчеркивало только спасение человека посредством Христа и игнорировало старания самого человека» (New York: Knopf, 1962).
[Закрыть].
Имя «Пелагий» – латинизированная версия валлийского имени Морган, означающего «море»; возможно, Гэддис и не играет на связи Пелагия и моря, когда Уайатт шутит о «пелагийских милях», но это неоспоримо так во время разглагольствований Бэзила Валентайна:
И как ты говорил? Проклятие человека – его личное проклятое дело? Это неправда, знаешь ли. Неправда. Святые небеса, взять это твое самоубийство? […] Гляди! Гляди, там, в небе, где оно еще синее, та линия? Белая линия, что прочертил самолет, видишь? как ветер растрепал ее, словно веревку в потоке воды? да, человек в небесном море, а? спустился, чтобы отвязать ее, на самое дно, и его нашли мертвым, словно утонувшим. Эта… твоя пелагийская атмосфера, знаешь ли. Убийство, верно?
«Проклятие человека – его личное проклятое дело», – умная, хоть и мрачная эпиграмма, резюмирующая пелагийскую ересь, но использование Валентайном слова «пелагийский» для описания одержимости Уайатта небесным морем предполагает, что Валентайн – Августин в сравнении с Пелагием-Уайаттом в рамках теологических дебатов романа. Уайатт спасает себя, принимая роль жертвенного священника: Валентайн уже не раз обвинял его в желании покончить с собой через разоблачение собственных подделок, но Уайатт ответил: «Самоубийство? это? Значит, думаешь, будто есть только одно «я»? что это не убийство? не ближе к убийству?» Спустя несколько строк Валентайн узнает, что «я», которое хочет убить Уайатт, – это «ветхий человек», название грешного «я» до крещения (из Нового Завета, Еф. 4:22, Кол. 3:9). (Отто и Синистерра тоже пользуются этим выражением.) Уайатт одинаково и священник, и священная жертва, доводящая пелагийство до теологической крайности, включающей и своего отца, и христианского Отца Небесного в список ветхих людей, кого ему нужно убить во имя спасения.
Помимо этого, Пелагией зовут святую-куртизанку – Уайатт вспоминает ее во внутреннем монологе в момент, когда в его сознании бушует отвращение к плотским грехам (392, за восемь страниц до «пелагийских миль»). Эта bienheureuse pécheresse («блаженная грешница»), как ее называют в источнике Гэддиса[79]79
79. Summers M., ed. and trans., The Malleus Maleficarum by Heinrich Kramer and James Sprenger, 1928; New York: Dover, 1971, 46b, note.
[Закрыть], начала карьеру ловцом человеков иного порядка; подходящая фигура для размышлений Уайатта о женщинах-как-искусительницах – темы, которая раскрывается в мотиве русалки, самого экзотичного элемента в морских образах романа. Некрасиво представленная в отсылке к различным «фальшивым» русалкам (в этом романе подделывают все), она в последующем появляется в разговоре Уайатта и Фуллера, слуги Брауна из Вест-Индии и одного из лучших комических персонажей Гэддиса (хотя с позиции политкорректности двадцать первого века подобное, наверное, назвали бы расизмом). Запросто веря в русалок и с трудом – в Господа Бога, Фуллер остроумно заключает:
– В это по-прежнему верится с трудом, всегда. Не так просто принять, как русалок.
– Русалки… русалки…
– Да, сар.
– И ты можешь… поверить в русалок, без особого труда?
– Да, сар, хоть и остается вопрос русалов.
– Да, в самом деле.
– Но вот русалки…
– Да, женщины… ты можешь поверить в женщин…
– О да сар, сказал Фуллер, и после паузы: – Женщины приводят нас в мир, вот их и держишься.
– Разве не женщина привела в мир и зло?
– Сар?
– Да. Когда сорвала плод с запретного древа; и дала отведать мужчине?
– Выходит, зло уже было, а она вполне естественным образом его нашла.
– Да, да, и дала мужчине…
– Поделилась, сар, сказал Фуллер. – За что мы ее и любим.
Мысль о русалках не покидает Уайатта; после бесплодной беседы с Брауном – когда он соотносит свои проблемы с «вопросом русалов» – Уайатт говорит Валентайну, что «водился с русалками на дне водоема, где живет Король троллей». Так он смешивает две легенды (чем занимался и до этого). Теперь – приход Пер Гюнта в горную крепость Короля троллей с Королем-лягушонком со дна колодца из сказок братьев Гримм, которые Эсме читала ему вслух. Я уже приводил слова Уайатта о келпи – шотландском ответвлении русалочьего семейства. В каком-то смысле все женщины, окружающие Уайатта, – это русалки, сестры сирен из классических мифов, представляющих (согласно Юнгу) обворожительный, но опасный аспект женского начала, заманивающий мужчин в пучины бессознательного и чувственности, уводя от солнечного сознательного и интеллекта.