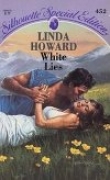Текст книги "Уильям Гэддис: искусство романа"
Автор книги: Стивен Мур
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 21 страниц)
«ОДНАЖДЫ В ЭНТИТЕМЕ» ПРОТИВ «КРОВИ НА КРАСНОМ, БЕЛОМ И СИНЕМ»
Хотя пьеса Оскара «Однажды в Энтитеме» и основана на истории о службе его деда Томаса Криза во время Гражданской войны, она рассказывает о личной одержимости Оскара философской природой справедливости. Справедливость – скорее философский, нежели юридический вопрос, о чем свидетельствует вступительная строка романа, произнесенная практичным Гарри: «Ты получишь справедливость в следующем мире, а в этом мире у тебя есть закон». Но непрактичный Оскар считает свою приземленную автомобильную травму и иск об авторских правах очередным нарушением идеала, о котором спорили философы, начиная с Платона, хотя по ходу развития романа становится все более очевидным, что Оскар требует «простой справедливости», только для себя, лицемерно игнорируя цитируемых в своей же пьесе философов, утверждающих, что справедливость должна охватывать либо всех, либо никого.
Гэддис написал эту пьесу примерно в 1959–1961 годы, желая отметить столетие сражения при Энтитеме (1862), но ему не удалось найти продюсера. Метапрозаически она описана уже в «Джей Ар», – над ней работает Томас Эйген, читая про себя отрывок. Несомненно, Гэддис получал письма с отказом вроде того, что цитирует Оскар: «Автор ясно дает понять, что не доверяет режиссеру, не доверяет актерам и не доверяет любой публике, с какой ему посчастливится встретиться» (то же сказали и Эйгену: «Джей Ар», 282, 288). Когда Гэддис только закончил работу, ему показалось, что пьеса получилась «неуклюжая, очевидная, излишне объясненная, угнетающая», но двадцать пять лет спустя он решил, что эта неестественная пьеса идей послужит не только основой для иска о нарушении авторских прав в его новом романе, но и создаст контраст – стилистический и философский – между благородной идеей справедливости и низменными юридическими баталиями в произведении.
В «Его забаву» включена большая часть оригинального пролога и первых двух актов «Однажды в Энтитеме», разбросанных примерно по сотне страниц. (Третий и последний акт упоминается несколько раз и отмечен в заключении судьи Боуна, где доступно и кратко пересказан сюжет пьесы; вплоть до публикации роман Гэддиса носил рабочее название «Последний акт».) Словно действительно не доверяя своей аудитории, Гэддис заставлял персонажей проговаривать темы пьесы по нескольку раз[219]219
219. По этой причине я продолжу обильно цитировать роман; он действительно описывает сам себя. Еще Гэддис, похоже, не особо доверял исследователям своего творчества, что можно понять после тридцати лет ошибочных трактовок его романов, поэтому его персонажи сами называют источники материалов и философских идей, лежащих в основе «Однажды в Энтитеме». В пьесе упомянут «Социальный контракт» Жан-Жака Руссо, Оскар рассказывает Бейси, что для исследования отношения к рабству пользовался книгой Джорджа Фитцхью «Все они людоеды!» (Cannibals All!, 1857), и ожидает, что его аудитория узнает оммаж/адаптацию первой книги «Государства» Платона, труда о справедливости. В показаниях Мадхару Паю Оскар тоже говорит об ожидании, что «театральная публика» опознает аллюзию в названии пьесы к строке из Шекспира («Однажды в Алеппо»), но он не цитировал «Траур – участь Электры» О’Нила, несмотря на множество сходств. Вдобавок к Платону и Руссо Мадхар Пай чудесным образом слышит отголоски Камю, как немногим позже и судья Боун, возможно, имеется в виду «Бунтующий человек» (1951). Замечание Томаса матери: «Как будто ты... ценишь несправедливость» – похоже на высказывание Камю: «В некотором смысле горечь христианской интуиции и ее законный пессимизм в отношении человеческого сострадания объяснялись тем, что человека равно устраивает как всеобщая несправедливость, так и бесконечная справедливость» (курсив мой: судья Боун пишет фразу «Камю о бесконечной справедливости» на с. 402).
[Закрыть]. Оскар признается, что основывал пьесу на истории семьи Криз: судья Боун рассказывает, что Томас Криз нанял «замену на свое место в армии [Конфедерации], что было не такой уж редкой практикой. Из-за трудностей на севере ему пришлось найти себе замену и для службы в армии Союза, и оба дублера в итоге погибли в „кровавом Энтитеме“. В дальнейшем Криз нашел подробности этого сражения и, обнаружив, что полки, где служили обе замены, столкнулись на „Кровавой Аллее“, все больше и больше верил, что нанятые им двое убили друг друга, а он таким причудливым образом стал живым самоубийцей». Это, похоже, вытекает из признания Оскара в более ранних показаниях о том, что Томас «выживает, преследуемый своего рода чувством предательства самого себя, что он был убит собственной рукой на поле боя». Без ведома Томаса его место в армии повстанцев занял его зять-идеалист, а сам Томас сознательно нанял вместо себя в армию Союза отчаявшегося шахтера, описанного в пьесе как «воплощение грубой силы». Вместе они представляют части разделенной личности, как в Томасе, так и в человечестве в целом. В пьесе Оскар призывает актеров играть в первом и втором акте две диаметрально противоположные роли – и это на фоне враждующей с собой нации; «дом разделенный», если вторить библейской фразе президента Линкольна.
На первых переговорах с Бейси Оскар рассказывает адвокату, насколько его дед был одержим справедливостью – и правда, слово «справедливость» часто встречается в пьесе, – «потому что в ней вся суть». Судья Боун соглашается: признавая «несправедливость», с которой столкнулся Томас, он отмечает, что рабовладелец Томас «полностью осознает поставленные на карту этические тонкости в его требовании справедливости». В итоге признав, что в мире нет справедливости, Томас «понимает, окружающие использовали его, чтобы исполнить их судьбу, тем самым лишив его своей, а финал пьесы достигает вершин греческой трагедии», когда Томас, подобно Эдипу в пьесе Софокла, проигрывает «борьбу с непреодолимыми препятствиями» (Боун цитирует «Древнегреческую литературу» К. М. Боуры). Похоже, это точка зрения и Оскара (а также Гэддиса, написавшего пьесу еще в конце пятидесятых), поскольку он согласен с проницательным рецензентом «Крови на красном, белом и синем», интуитивно улавливающим «в сердце истории более глубокие идеи, таящиеся в драматическом изображении человека как микрокосма истории его нации, изображении человека в войне против себя, самообмана и самопредательства, той самой целесообразности за счет принципа, что сегодня на наших глазах слепо разрушает наши надежды и наше будущее, изображении великих побуждений судьбы и непоколебимой пунктуальности случая». Сам Оскар описывает пьесу с точки зрения «людей сто лет как унесенных течением событий к концу невинности […] перемолотых трудами истории, тщетно борющихся с великими загадками бытия, справедливости и рабства, войны, судьбы…». Но Гэддис, перечитавший свою работу в 1980-х годах, похоже, придерживался другого мнения.
Внимательно прочитав пьесу для взятия показаний, высокообразованный Мадхар Пай из «Свайн энд Дор» предлагает убедительную интерпретацию «Однажды в Энтитеме», которая оправдывает ее включение в роман. Позже, неожиданно встретив Оскара, он настаивает, что «настоящая гражданская война» в пьесе – это не та, что проходит на полях сражений, а та, что «бушует внутри вашего главного героя, не так ли? рвет его на куски с той минуты как он начинает ходить?» Томас одновременно рабовладелец-южанин и северянин-бизнесмен; его беглый раб Джон Исраэль – «живой упрек» идеалам справедливости южанина, а управляющий шахтой северянин Бэгби представляет (по схеме Мадхара Пая) «опустошителя, нового человека, дух неудержимого капитализма, «использовать против владеть», говоря лексиконом старого майора, триумфальное отсутствие честности против Кейна [приглашенный профессор философии и сократическая фигура в пьесе], который является одиноким сердцем и душой». Кейн преследует Томаса «своей беспощадной логикой о справедливости, манипулирует всеми его пустыми высокопарными заявлениями о моральной порядочности, заставляя еще глубже погрузиться в дилемму […] шантажирует его четырьмя тысячелетиями христианской вины, он не просто осажден со всех сторон, ваш главный герой. Он и есть поле битвы…». Оскар возражает: «Нет это слишком, пьеса о Гражданской войне я не понимаю, как мы дошли до всего этого», – сопротивляясь намеку о его отождествлении с Томасом, но юрист/критик доводит тезис до конца:
– Джон Исраэль и Кейн – там, обе стороны вашего уравнения манипулирующие подлинно лицемерной способностью твоего героя к вине […] они не взывают к его совести, они даже не борются друг с другом за его совесть Оскар они сражаются кто из них заполнит этот зияющий сентиментальный церковный патриотический пустой рудимент отцов-основателей, кто наконец будет совестью этого истощенного морально обанкротившегося трупа белого протестантского истеблишмента и вот это! С решительным тычком прямо во вздымающуюся грудь – это и есть сердце, сердце американской дилеммы (курсив Гэддиса – единственный в книге).
Люди вроде Бэгби правят Америкой со времен Гражданской войны. В отсутствующем последнем акте тот уже в Вашингтоне, действует как коррумпированный лоббист, а Кейна Мадхар Пай ассоциирует с другим типом нового человека:«Он свободный дух. Это же наш друг Бейси не так ли? вырвавшийся из иллюзий об абсолютах? [обладающий] смелостью жить в условной вселенной, принять относительный мир, он избавился от всех христианских выдумок, которые помогли его предкам пережить рабство», – вроде тех выдумок, которые мать Томаса вбивала в голову Джону Исраэлю. Когда Оскар возражает, что задумывал ее «набожной пожилой христианкой, ожесточенной тем…», Мадхар Пай перебивает, чтобы опровергнуть и похвалить: «Подлая, лживая старая лицемерка, возможно скроена крепче чем ты думал, старик»[220]220
220. В письмах Гэддис иногда саркастично ссылается на строку «Он был скроен крепче, чем думал» (из стихотворения Эмерсона «Проблемы» 1847 года) о непреднамеренных достижениях в своих работах.См. «Письма», страницу 404 и в особенности 424, где Гэддис переоценивает получившийся портрет капитализма в «Джей Ар» с использованием этой фразы.
[Закрыть].
Оскар не вполне убежден в такой интерпретации своей пьесы – он продолжает расхваливать ее (по привычке?) как «спектакль справедливости, войны, судьбы и человеческих страстей», но его гневная вспышка наводит на мысль, что Мадхар Пай близок к истине[221]221
221. Хотя и не совсем: Эльке Д’хукер предполагает, что Гэддис пародирует методы некоторых критиков, ведь интерпретация Мадхара Пая приправлена расовыми теориями, личными предубеждениями и неуместностями, не говоря уже о его полном незнании концовки пьесы.
[Закрыть]. Во время группового чтения пьесы, когда ученики Оскара узнают о многочисленных аферах Бэгби в военный период и грабежах Томаса, учитель читает лекцию с посылом, предвосхищающим вывод Мадхара Пая и проникающим в суть не только пьесы, но и позднего творчества Гэддиса:
– Все эти преступления, жадность, коррупция в газетах, думаете, просто таково наше время? что наша великая христианская цивилизация рушится прямо на глазах? Все как раз наоборот. Те мелкие махинации мистера Бэгби с оснащением армии Союза, разница только в том, что раньше они исчислялись десятками и сотнями тысяч, а сегодня – миллионами и миллиардами, фальшивые счета, двойная оплата, ошеломляющий перерасход и те сидушки для унитаза за шестьсот долларов, завернутые в американский флаг? Возьмите газеты – и кажется, будто наша оборонная промышленность – сплошная гигантская афера, что ничего не строится без взяток и откатов, что Уолл-Стрит не больше чем банда мошенников? […]
– Мы наблюдаем не упадок нашей цивилизации, а ее расцвет, жадность и политическая коррупция – это то, на чем строилась Америка в годы после Гражданской войны, когда все и началось, так что коррупция не признак упадка, она встроена с самого начала.
Оскар даже жалеет, что Юг проиграл: «Две отдельные страны как сейчас но по-настоящему отдельные, границы, паспорта, ввозные пошлины, сельская экономика выращивают там бог знает что для мельниц на Севере – и религия, боже, к слову о другой стране…». Гэддис подчеркивает этот непрекращающийся конфликт, разделяя действие в романе между худшими регионами Юга и культурными анклавами Севера.
Примечательно, что между гневной вспышкой Оскара и дальнейшими замечаниями Мадхара Пая об «американской дилемме» Оскар бросает научные исследования, чтобы читать легкомысленные бестселлеры («Белое зло» Джеймса Фокса) и смотреть передачи о природе по телевизору, которые занимают все больше и больше его времени. «Ни про оленей, ни про медведей, ни про что-нибудь еще здоровое, нет, – говорит раздраженная Кристина, – нет, он смотрит только про животных, которые притворяются цветами, смертоносных насекомых в виде веточек, безобидные на вид существа просто кипящие ядом сидящие в засаде все это довольно нездорово…». В следующих передачах он смотрит про сексуальное соперничество и двуличные стратегии обольщения среди «бесконечной войны между царствами животных и растений» – царствами, весьма напоминающими человеческое общество благодаря блестящему применению метафор и анжамбемана. Оскар тратит все больше времени на эти вопросы, пока одновременно усугубляются его юридические трудности, и читатель понимает (пускай еще не понял сам Оскар), что вульгаризация и отупление его пьесы фильмом «Кровь на красном, белом и синем», полным секса и насилия, дает даже более точную картину мира, чем его вычурный и перегруженный идеями оригинал. «Мы говорим о реальном мире, старина, – настаивает Мадхар Пай во время анализа „Однажды в Энтитеме“, – о природе с красными клыками и добычей в когтях» цитируя строку из In memoriam Теннисона, которую Гэддис впервые использовал еще в «Распознаваниях». Если люди, по сути, ничем не отличаются от плотоядных растений и «двуличных» животных, если передачи Оскара о жестокой природе могут плавно переходить в жестокие выпуски новостей (как это часто происходит во второй половине романа), то стремление к справедливости или даже сама идея справедливости никак не соотносимы с этим миром и ошибочны. (Поэтому «порядок» более практичная цель, чем «справедливость»; на севере Томас начинает говорить о «порядке» чаще, чем о «справедливости».) Можно даже заявить, что кино вроде «Крови на красном, белом и синем» представляет собой не «крах цивилизации», как ранее намекал Оскар, а прорывное осознание драматургом, что цивилизацией всегда двигали обман, секс и насилие, встроенные (как и коррупция) «с самого начала». А шок от этого осознания, усугубленный шоком от того, как реалистично вульгарный фильм отражает реалии войны, и от известий о смерти отца, – возможно, причина, почему Оскар в конце романа впадает в детство, зачарованный Гайаватой – произведением из времен до Гражданской войны, символизирующим утраченную невинность Америки, – и выскакивает из-за двери, чтобы напугать сводную сестру, как делал в десять лет (предвестие этого есть уже на третьей странице)[222]222
222. Гэддис несколько перегибает в романе с предвестиями (еще один признак недоверия к читателям?): Кристина слишком часто укоряет Оскара за ребяческое поведение, напоминая о подобных случаях, хоть это и элегантная концовка. Оскар действительно ведет себя инфантильно – Гэддис даже показывает это буквально, приделав к его инвалидной коляске детский велосипедный рожок.
[Закрыть]. В концовках «Распознаваний» и «Джей Ар» Уайатт Гвайн и Эдвард Баст избавляются от нереалистичных мировоззрений и готовы начать заново, но у Оскара нет мотивации двигаться дальше. И риторические стратегии, используемые Гэддисом для подачи этого пессимистического сюжета, стоит дополнительно обсудить в рамках его стиля, который можно назвать драматическим или, вернее, кинематографическим.
ПУТАНИЦА ЦАРСТВ
«Его забава» – возможно, лучшее риторическое достижение Гэддиса, самая грандиозная демонстрация всего спектра его лингвистических умений и готовности довести свои риторические стратегии до грани бессмыслицы ради достижения цели. Этот стиль продолжает стиль «Джей Ар» и «Плотницкой готики», для которого характерны крайне реалистичный диалог с сохранением ритма оговорок, запинок и солецизмов живой речи; телеграфные переходы и паратаксические[223]223
223. Паратаксис – способ построения сложного предложения без формальных внутренних средств связи. – Прим. пер.
[Закрыть] прозопоэтические описания природы. В этом романе стиль Гэддиса приобретает и другие особенности – включение фрагментов пьесы и подражание различным видам документальной литературы (юридические документы, газетные статьи и некрологи, художественная и литературная критика, деловые письма, брошюры и даже рецепты)[224]224
224. Изначально Гэддис планировал составить роман только из документов («Письма») – технический вызов писателю, имеющий совсем немного аналогов (наиболее известный пример – «Дракула» Брэма Стокера).
[Закрыть]. Многоцелевой диалог, преобладающий в «Его забаве», как и в предыдущих двух романах, чередуется между прямым, непрямым и внутренним диалогом (разговор с самим собой), часто – в пределах одного абзаца, когда отсутствие кавычек может вызвать путаницу. «То, что диалог не только продвигает действие пьесы, но и в большой степени определяет персонажей», точнее описывает роман, чем пьесу Оскара. Диалог Гэддиса заодно берет на себя функции описательной прозы – передает состояния персонажей и особенно действия, например, как показан вход Лили в комнату и ее легкомыслие во время раздраженного разговора Кристины и Гарри о профессии юриста: «Все это, все это дело вся атмосфера недоверия, когда каждый вздох нет положи сюда Лили, принеси кофе а то ему надо, сплошное недоверие, недоверие, недоверие, ты принесла сахар?» Некоторые переходные пассажи – чудеса остроумия и лаконичности. Например, когда Гарри во время консультации Оскара подливает себе: «Хорошо но, у меня тут уже дно видно подождешь пока? И он ушел грохоча кубиками льда, уже снова с семью футами под килем вернувшись к задыхающейся фигуре чуть ли не со вздохом, – ну что теперь».
Стенографические переходы и минимальная пунктуация добавляют динамичности тексту, этому же способствует и малое количество разрывов в разделах, воспроизводя опыт просмотра спектакля или фильма в реальном времени, а не чтения романа в неторопливом темпе. (Ближе к концу романа Гэддис играет с театральной концепцией – Оскар декламирует строки из своей пьесы у окна, «обрамленный там на фоне неба, расколотого преувеличенным жестом к ним, будто включились софиты», а Кристина и Лили становятся публикой в зале.) Гэддис предоставляет и звуковую дорожку к роману, отмечая на первой странице «сочившиеся в больничную приемную звенящие ритмы маримбы» и часто упоминая звуки из телевизора или с улицы. Гэддис с одобрением цитировал замечание знакомого писателя Стэнли Элкина: «Вы слышите [„Джей Ар“] своими глазами» («Письма»), и аудиовизуальный стиль «Забавы» характеризуется синхронией диалогов, образов и звуков в спектаклях и фильмах, что вполне уместно в романе о пьесе и фильме. Повествование почти буквально превращается в фильм, когда во время телетрансляции Оскар начинает исступленно озвучивать «Кровь на красном, белом и синем», а мы испытываем нечто вроде синестезии, слыша глазами фоновую музыку (бойсовскую обработку «Светской маски» Драйдена и «Праздник Александра» Генделя). Как Гэддис настаивал в различных интервью, стиль всегда должен соответствовать содержанию, и потому определение «кинематографический» подходит для описания стиля «Его забавы» больше всего.
Чем больше в романе запутываются судебные процессы, тем больше усложняется и язык (очередной пример формы, следующей за содержанием). Подходящий образчик – мучительный отрывок во второй половине романа, который так озадачил немецкого издателя, что он попросил Гэддиса его объяснить. Оскар засыпает, глядя передачу о природе, посвященную
невзрачному члену семейства Cistaceae, или семейства ладанниковых, Helianthemum dumosum, более известному в своем многострадальном ареале как кустарниковый солнцецвет за свой талант выживать после вытаптывания различными жвачными парнокопытными подотряда Ruminantia, чтобы незаметно распространяться и расширять среду обитания за счет соседей, будто эдакая травяная версия закона Грешема в дарвиновском обличье, демонстрируя не больше, пока он клевал носом, его дыхание выравнивалось и ком газеты упал на пол, подергиванием губ в тревожной гримасе улыбки показывая не более чем не более чем – или, вернее сказать, самое сердце какого-то затонувшего обряда чистоты теперь когда худший горячим напряженьем переполнен, где – мы чем-то похожи верно же, и даже немало [это Бейси ранее говорил Оскару] – Это приятно знать, демонстрируя лишь выживание сильнейших, то есть на примере кустистого солнцецвета не более чем сильнейших для выживания, а вовсе необязательно, ни в коем случае не лучших…
Извинившись перед настрадавшимся переводчиком, «(но не перед читателем!)», Гэддис попытался «„пролить свет“, хотя это может только больше запутать ситуацию»:
В целом «плотность» текста должна показывать незаметное распространение кустистого солнцецвета, здесь представляющего беспорядок и вульгарность («массовый человек» Ортеги-и-Гассета, провозглашающий свои права на вульгарность), расширяющего свой ареал за счет соседей, т. е. это оскаровские элитарность и поиск порядка, так же как плохие деньги вытесняют хорошие по закону Грешема: таким образом, тревожная гримаса от поражения стыдливости и невинности Оскара (пьеса = обряд), изображенного в стихотворении Йейтса «Второе пришествие», где «Напал прилив кровавый, и повсюду / В нем тонет чистоты обряд, и лучший / Ни в чем не убежден, тогда как худший / Горячим напряженьем переполнен»[225]225
225. Йейтс У. Б., Второе пришествие, пер. Ш. Крола // сетевая публикация.
[Закрыть], а Йейтс – связующее звено Оскара и Бейси (и даже немало общего, как отмечено в другом месте). Таким образом, метафора кустистого солнцецвета в отношении горячим напряженьем переполненных злых (см. Обличительную речь Оскара на сс. 96-97) демонстрирует здесь, что выживание сильнейших, а не лучших («пьеса идей»), значит не более чем сильнейших для выживания и вполне возможно, как мы видим вокруг, худших («Письма»).
Гэддис настойчиво ведет параллели между царствами природы и людей, усиливая эффект по мере развития романа и намеренно создавая «путаницу царств» в плотных пассажах, подобных приведенному выше, доказывая тезис о том, что большинство людей действуют неотличимо от растений и животных. Прибегая к причудливым олицетворениям и буквализации, рискуя «исказить метафоры» и «разорвать на куски нелепые предубеждения», Гэддис использует риторический эквивалент киномонтажа наплывом и двойной экспозиции, чтобы низвести человеческую деятельность до уровня флоры и фауны и обнажить нелестный слепой инстинкт секса и выживания, скрытый под покровом цивилизованного поведения.
Например, основной мотив согласия Оскара на физиотерапию и его слабость перед сексуальными женщинами можно заметить во время массажа. Процедуру на фоне передачи о природе делает медсестра по имени Ильза (с «великолепными бедрами, что могли бы проглотить его целиком»): «Эти сильные большие пальцы, глубоко давившие на мускулы его шеи и плеч, в лежке сосредоточенные на мире плотоядных растений в теплом топком болоте, где обитает Dionaea muscipula, на пресловутой венериной мухоловке, смыкающей колючие губы на несчастной жертве, и на липких делах в занимающем экран молочае». Чуть позже Оскар смотрит передачу о «морском анемоне, который выглядит как безобидный цветок, но на самом деле – плотоядное животное», а она перетекает в вечерние новости со «сценами погромов от Лондондерри до Чандигарха», и в этом вновь прослеживается сопоставление жестоких природного и людского царств. Когда Кристина узнает, что Оскар хочет купить аквариум, она задумывается: «Но аквариум? когда за ними лучше наблюдать в живом цвете и гораздо более диком разнообразии во время нереста и корма, отрывания плавников плавники и глазения пустым стеклянным взглядом [...] прямо здесь, в его передаче о природе,[… и] лучше всего, где их можно вызвать и изгнать в мгновение подобно полчищам его собственного вида заполонившим другие каналы», – приравнивая подводную и человеческую деятельность[226]226
226. Когда Оскар покупает аквариум и заселяет его рыбками, их растущая жестокость причудливо повторяет историю Ближнего Востока, от исхода евреев из Египта до крестовых походов.
[Закрыть]. Когда похотливый Оскар остается наедине с яркой и распутной Лили, «его отсутствующий взгляд останавливается на пустом экране, и они оба, спустя минуту, переливаются от ярких красок и мясистых лепестков распутного вездесущего семейства Orchidaceae, чьи чары представлены во всех обманчивых вариациях формы и запаха, цвета и рисунка ради похотливых насекомых» вроде Оскара, который укладывает девушку с цветочным именем на диван, «давая ей место чтобы его рука упала ей на плечи, когда самец осы теребил орхидею», и различие между людьми и насекомыми стирается, пока «цветочные притворщики» искушают пчел, а Оскар расстегивает блузку Лили, до момента, когда фраза «зарывшись глубже, чтобы коснуться встающей навстречу цветущей розовизны» окончательно равняет Оскара и «пчел, ужаленных желанием». Даже порядочный Гарри задумывается о «естественном порядке вещей» и «естественном законе во всей его практичности и отсутствии сентиментальности», когда засыпает с сексуальными фантазиями о Лили, спустя страницу после прочтения некролога авторства судьи Криза о «преданности [Оливера Уэнделла Холмса] разуму и практичности общего права в его отсутствии сентиментальности».
Однажды днем «окончательная путаница царств столкнула верх и низ», когда в голове у подвыпившего Оскара сливается сексуальный сон, который ему рассказала Лили, воспоминание о природоведческой передаче про «липкие дела в том топком венерином болоте, где Dionaea muscipula сомкнула колючие половые губы, напоминая легендарную vagina dentata[227]227
227. Вагина с зубами (лат.). – Прим. пер.
[Закрыть]», и миф о Горгоне. После этого Оскар спускается «вниз», где стоит телевизор, и встает перед ним, «словно окаменев от ужаса перед экраном», на котором демонстрируется бешеная сцена сексуального соперничества ужей. Через страницу это приводит к «совершенно новой путанице царств»: Оскар сливает в мыслях ужей, имитирующих самок, и трансвестита, который, по словам судебного клерка его отца, соблазнил сенатора-южанина. Тем самым Оскар приравнивает «липкие дела в том топком венерином болоте» к липким делам в болотах политики.
За «бесконечной войной между животным и растительным царствами в передаче о природе» следуют «сербы убивающие хорватов в вечерних новостях», готовя читателя к пронизанному черным юмором эпизоду: Оскар жует Твинки и смотрит по телевизору передачу со сценами хитрости и жестокости в мире природы, а Кристина рассказывает ему о жестокости и хитрости юристов и судей, участвующих в его делах. Следующая сцена еще смешнее. Бывший адвокат Джек Пресвиг яростно громит всю правовую сферу, используя такие фразы: «Твои лучшие друзья съедят тебя заживо», а «Твой банк и кредиторы и страховщики приготовят тебя на обед […] они каннибалы мистер Криз, все они каннибалы», неосознанно упоминая книгу «Все они каннибалы!», первоисточник о рабстве, которым Оскар пользуется для своей пьесы. Тем самым Джек Пресвиг по совпадению отвечает на риторический вопрос из передачи о природе «Когда иссякают запасы пищи, а вокруг остаются только представители твоего вида, зачем голодать?» Во время перекуса Оскар наблюдает, как «австралийский красноспинный паук прыгает в пасть самки в разгар спаривания», при этом, «пока она рвала его брюшко», Оскар невозмутимо продолжал дожевывать остатки Твинки. Спустя две страницы после этого Пресвиг рявкает: «Все они одна порода пусть рвут друг другу брюхо».
Сам Оскар сравнивает безрассудную человеческую деятельность с раком: «Образ одичавшей жизни, избыточные живые клетки внезапно вырываются на свободу, повсюду размножаются и наслаждаются жизнью все они метафоры реальности».
Даже обширное цитирование не может передать, как далеко заходит Гэддис в сопоставлении человеческого коварства и насилия с животным, а также изобретательность риторических приемов, используя которые он смешивает и уравнивает царства. Похожие приемы он применяет и в других сценах. Например, когда Оскар засыпает во время автомобильной погони в теленовостях, а просыпается в похожий момент сериала о полицейских, «факт слился с вымыслом». Мигалки патрульной машины в другом ночном телешоу сменяются «красно-синими огнями» настоящей патрульной машины на подъезде к дому Оскара на следующее утро. По ходу романа нереальное сливается с реальным, и Кристина справедливо восклицает: «Все это как какой-то дикий сон…». На последних страницах история Оскара сливается с историей Гайаваты, где многие персонажи являются настоящими животными, но носят человеческие имена, а текст Гэддиса растворяется в хореическом тетраметре стихотворения Лонгфелло, размывая прозу и поэзию, когда Оскар погружается в окончательную путаницу царств.