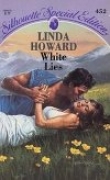Текст книги "Уильям Гэддис: искусство романа"
Автор книги: Стивен Мур
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 21 страниц)
Многолетнее исследование философов вроде Платона и Ницше находит полнейшее выражение именно в «Агонии агапе»; неизменный интерес Гэддиса к великому голландскому историку Йохану Хёйзинге, чья книга «Осень Средневековья» (1924) сыграла важную роль для «Распознаваний», привел к цитатам из Homo Ludens (1938), а также воображаемому диалогу Хёйзинги с Вальтером Беньямином. Как ни странно, в конечной версии не осталось почти ничего из версии «Агонии агапе», которую читает Гиббс в «Джей Ар», за исключением преподобного Ньюэлла Дуайта Хиллиса, в «Джей Ар» ошибочно указанного как Миллис. Также цитируются старые любимцы вроде Достоевского и Толстого – последний во многом по биографии 1965 года авторства Анри Труайя, а новый любимец Томас Бернхард представлен сразу тремя романами (об этом ниже). Гэддис обращается к родственным душам в литературе – Готорну, Мелвиллу, Флоберу, Элиоту, Джефферсу и даже неожиданно с одобрением кивает Джону Кеннеди Тулу. Неожиданно – потому что Гэддис просто-таки возненавидел «Сговор остолопов» после его выхода («Письма»). И хотя Гэддис не любил вопросы о своей личной жизни, самому ему нравилось читать биографии, и некоторые из них тоже цитируются в повести: вдобавок к «Толстому» Труайя он хвалит биографию Гленна Гульда авторства Отто Фридриха и биографию Уильяма Рэндольфа Херста авторства У. А. Суонберга. В каком-то смысле «Агонию агапе» можно читать как очень компактную интеллектуальную автобиографию. Но, разумеется, это не автобиография и не мемуары, а роман, что требует совершенно иного подхода.
В ПОИСКАХ ФОРМЫ
Если бы по «Агонии агапе» сняли фильм, он длился бы чуть больше двух часов. Место действия: душная темная комната в частном доме, из мебели только кровать и тумбочка. На кровати одиноко лежит старый и очевидно нездоровый мужчина в грубой муслиновой рубашке без воротника, недавно выписанный из больницы. Он лежит в окружении груды книг, записок, вырезок, юридических документов и нераспечатанных писем. Два часа подряд он говорит об отчаянной потребности закончить книгу-долгострой, пока еще не поздно. Репетируя то, что хочет написать, он лихорадочно и беспорядочно просматривает материалы: что-то цитируя наизусть, что-то читая вслух из книг или черновиков, при этом по ходу дела комментирует и их, и свое ужасное здоровье. Через семь минут он чуть ли не рассыпает стопки бумаг, а еще через семь-восемь, потянувшись за книгой, царапает запястье о край ящика тумбочки – его кожа такая сухая и тонкая, что легко рвется (из-за преднизона, заодно влияющего на перепады настроения). Примерно через двадцать минут он начинает говорить о «„я“-которое-могло-больше» и своих альтер-эго в фольклоре и литературе, идеях, поглощающих его до самого конца. Через сорок минут он случайно проливает на бумаги стакан воды. Ищет карандаш, потом теряет, ворочается и случайно натыкается на него весьма болезненным образом, а к пятидесятой минуте воображает дружескую беседу Беньямина и Хёйзинги. На втором часу на его руке появляется синяк от сильного давления на нее, а к девяностой минуте он пытается сесть, медленно сдвигая к краю кровати сначала одну ногу, затем другую, около десяти минут, после чего шаткие груды книг и бумаг все-таки падают. Тут кто-то входит, и писатель просит одежду, чтобы выйти и подышать свежим воздухом, но заодно – и опустить шторы, так как солнце бьет в глаза. Писателю неприятно, но неудивительно видеть на кровати пятна крови. К концу второго часа он вступает в спор, хотя сложно сказать, с собой или с посетителем, и за несколько минут до финала снова жалуется на проблемы с дыханием. Не в силах сделать ничего, он завершает бессвязный монолог ревнивым гневом на свою молодую версию, «ту Молодость которая могла все».
Фильм получится неважный, но в нем есть яркое отображение писательского страха так и не воплотить свое видение; физической деятельности немного, зато электрическая буря интеллектуальной, освещающая подготовленный писательский ум – «где труд окончен». Ближе к концу романа «Джей Ар», в котором сразу несколько творцов пребывают на ранних стадиях подобного страха и вводится сама идея Torschlusspanik, художник Шрамм завершает картину, над которой трудился годами, только для того, чтобы крикнуть «смотри! если б вы только видели что здесь видел я!» Рассказчик «Агонии агапе» знает, чем могла бы стать его работа о механизации и искусстве, но сейчас ему по силам выдать только сбивчивый, почти бессвязный рассказ о том, что его дразнит и не может попасть на бумагу из-за возраста и слабеющего здоровья автора. В этом романе главное не идеи, а драматические страдания из-за идей, перерастающие в меланхоличную лебединую песнь по утраченной юности[252]252
252. В рецензии для New York Times Book Review Свен Биркертс заявил: «„Агония агапе“ – даже с самой щедрой скидкой не роман. Плохо завуалированная автобиографическая тирада – не то, что считается литературой», – и это заявление повторяется в его предисловии для издания в мягкой обложке от Penguin. Но, как я утверждал и в других местах, роман представляет собой намного больше, чем могут вообразить некоторые критики.
[Закрыть]. Читателю не нужно знать все отсылки и даже упорно следовать за запутанной аргументацией (хотя ее суть достаточно ясна); от читателя требуется только чувствовать, через что проходит персонаж; уловить, как важна могла бы быть его работа, сопереживать неспособности ее завершить. Все предыдущие романы Гэддиса отчасти рассказывали о неудачах; здесь же неудача разыгрывается у нас на глазах. В «Джей Ар» Гиббс сравнил свою устаревающую рукопись «Агонии агапе» с инвалидом, в повести буквально воплощенным в виде пожилого писателя, чья кожа напоминает «древний высохший пергамент». Гэддис романтизирует собственную неудачу в написании нехудожественной книги, на которую заключил контракт в 1996-м, откровенно описывает проблемы со здоровьем того времени и блестяще превращает неудачную попытку написать повесть в повесть. Он мог бы похвастаться, как Эзра Паунд под конец труда всей жизни, который он не смог закончить: «Все отлично сходится, / даже если не сходятся мои черновики» («Кантос»).
Когда Гэддис понял, что ему не закончить ту нехудожественную книгу, которую он задумал в 1960-х, он решил переработать ее в художественную и стал искать подходящую форму. Выбранный в итоге драматический монолог, по-видимому, вдохновлен романами австрийского писателя Томаса Бернхарда (1931-1989), с творчеством которого Гэддис познакомился (и был сильно впечатлен) по рекомендации друга Сола Стейнберга в начале 1990-х. «Ты можешь заметить, где я обрел своего Цицерона для будущих дел», – написал он Грегори Комнесу в 1996-м[253]253
253. Обычно читатели находят утешение в диалоге Цицерона «О старости».
[Закрыть], приложив отрывок из романа Бернхарда «Известковый карьер» (Das Kalkwerk, 1970) о сложности перенесения мыслей на бумагу так, чтобы они при этом не выглядели смехотворно («Письма»). Годом ранее, еще до решения реанимировать старый проект, Гэддис написал своей партнерше Мюриэль Оксенберг Мёрфи письмо под названием «В стиле Томаса Бернхарда», где продолжил отрывок Бернхарда, чтобы объяснить их разрыв, будто это эпизод из «Известкового карьера» («Письма»). Романист Рик Муди в рецензии на «Агонию агапе» вспоминает, как навещал Гэддиса в 1997-м, когда тот работал над книгой, и узнал, что «Гэддис читал много Бернхарда, знал его творчество как свои пять пальцев, и мы о нем немало говорили»[254]254
254. Moody R., Roll Playing, Bookforum; также Муди вспоминает об их встрече в предисловии к изданию «Джей Ар» от Dalkey Archive.
[Закрыть].

Уильям Гэддис, 1990 год, период написания «Его забавы» (фото из личного архива Стивена Мура)
Нужно, однако, отметить, что драматический монолог вовсе не нов для Гэддиса. Внутренний монолог Уайатта по дороге в дом пастора – даже более нагруженный предшественник стиля «Агонии агапе», и, конечно, те страницы из «Джей Ар», где Джек Гиббс читает свою версию книги, еще ближе к финальному тексту. Даже легко представить пожилого Гиббса рассказчиком опубликованной повести, вернувшимся к черновикам после очередного длительного перерыва и паникующего из-за чужих недавних публикаций на схожую тему. Гэддис не забыл угрозу Гиббса сделать «Агонию агапе» «как можно сложнее»; он будто решил в конце концов стать тем сложным постмодернистом, каким его всегда считали критики.
Гэддис пересказывает и цитирует три романа Бернхарда, чьи сюжетные ходы привлекли его не меньше их формы и стиля и помогли найти решение, как подойти к нехудожественному материалу и перевести его в художественную плоскость. Формально все три – «Корректура», «Бетон» (1982) и «Пропащий» (1983), – монологи, и, как «Агония агапе», не разделены на абзацы, нелинейны, полны повторов и отсылок, с паратаксической структурой предложений. Переводчик «Пропащего» объясняет: «Предложения Бернхарда очень длинные даже для немецкого читателя, привыкшего к удлиненным, сложным конструкциям. Кроме того, логические переходы между предложениями („но“, „хотя“, „тогда как“) часто опущены или противоречивы, а времена глаголов редко согласованы»[255]255
255. Bernhard T., The Loser, trans. Jack Dawson, New York: Knopf, 1991.
[Закрыть]. «Агония агапе» еще более исступленная и сжатая, чем проза Бернхарда, более драматичная и разнообразная, но по форме напоминает напористые романы австрийца. Оба писателя разделяют элитарные взгляды и негативное отношение к своим странам: Бернхард презирал австрийскую культуру ровно так же, как Гэддис – американскую, если не больше, и оба в романах выражали это презрение в наиболее грубых, оскорбительных формах.
Главные герои трех романов Бернхарда занимаются проектами, схожими с работой писателя в «Агонии агапе». В «Корректуре» безымянный протагонист с трудом пытается разобраться в тысячах черновиков и текстов, оставленных его другом детства Ройтхаймером – несчастным гением, покончившим с собой. Погружаясь в литературное наследие друга, чтобы понять причины самоубийства, рассказчик «оказывается во власти мыслей другого человека» и боится, что он «постоянно на грани самоубийства из-за того, что постоянно мыслит чужие мысли, на грани умертвить себя из бытия»[256]256
256. Bernhard T., Correction, trans. Sophie Wilkins, New York: Knopf, 1979.
[Закрыть]. Гэддис перефразировал это на странице 22 «Агонии агапе»: и его писатель размышляет об альтер-эго и «„я“-которое-может-больше». Главный герой «Бетона», музыковед Рудольф, еще больше напоминает героя Гэддиса: он пытается начать биографию Мендельсона, которую исследовал десять лет, но чувствует, что никогда ее не допишет. Гэддисовского писателя пугает этот зеркальный образ его положения, и он отмечает, что Рудольф даже принимает те же лекарства, что и он (преднизон). В итоге он доходит до обвинений в адрес Бернхарда: «Он украл мой труд прямо у меня на глазах раньше чем я его написал!»[257]257
257. Джозеф Табби – первый критик, написавший о связи с Бернхардом(в послесловии). Он отметил, что и Гэддис, и Бернхард принимали преднизон для облегчения состояния при эмфиземе и что препарат повлиял на текстуру «Агонии агапе»: «Дрожь от препарата соответствует характерному ритму оставленного нам повествования – галлюцинаторному блужданию, что вдруг выхватывает один конкретный объект, один предмет в поле зрения, способный захватить все внимание и на мгновение освободить тело от боли и одышки».
[Закрыть] Писатель осознает, что его планы собрать две стопки исследовательских материалов присутствовалии в «Бетоне», а воспоминания из молодости Рудольфа о беге по улицам Пальмы-де-Майорки возникают перед писателем несколько раз, когда он вспоминает собственную молодость (как и молодость автора: Гэддис посещал Пальму-де-Майорку в сентябре 1950-го). Тема неудачи, значимая для «Агонии агапе», как и для любой другой книги Гэддиса, поднимается в «Пропащем», где превосходный пианист Вертхаймер настолько поражен гением канадского пианиста Гленна Гульда, что бросает карьеру и в итоге вешается. Сочувствующий рассказчик, бесконечно переделывающий статью о Гульде, тоже оставил музыкальную карьеру, потому что «принадлежать к лучшим мне было недостаточно, я хотел быть лучшим или не быть совсем, поэтому я все бросил»[258]258
258. Бернхард Т., Пропащий, пер. А. Маркиной, Иностранная литература, 2010, № 2.
[Закрыть], что Гэддис и цитирует на странице 37. Два гения – Ройтхаймер в «Корректуре» и Гульд в «Пропащем» – представляют собой фигуру, завораживавшую Гэддиса всю жизнь: высшее существо, напоминающее другим об их недостатках и компромиссах.
«Я» И «ДРУГОЙ»
«Агония агапе» – это бравурная каденция на тему, которую Гэддис в бесчисленных вариациях развивал в предыдущих четырех романах, тему «„я“-которое-может-больше». Как говорилось в начале третьей главы, под этим Гэддис имел в виду «творческое „я“, убитое другим» – порывом, одержимостью или слабостью, не позволяющей стать истинным и идеальным «я». Начиная с «Распознаваний», Гэддис рисует персонажей, которые либо хотят распознать и воплотить свое истинное «я», либо чаще всего довольствуются ложным «я», соответствующим культурным ожиданиям («маской [которая] может быть сброшена в критический момент, что мнит себя реальностью», и предают своего высшего Другого (с большой буквы, как в «Агонии агапе»)) ради неподлинных, социально сконструированных идеалов. Возвращаясь в Штаты из Центральной Америки, Отто продумывает свою идеализированную версию – как в виде персонажа Гордона в его пьесе, так и перед зеркалом, готовя лицо ко встрече с теми, кто ждет его в Нью-Йорке. И в остальной части романа показаны нестыковки между тем, кто он есть, и тем, кем он себя считает. Фрэнк Синистерра, примеряющий и бросающий множество обличий и ролей, считает себя творцом, а не мелким фальсификатором. Мистер Пивнер конструирует себе новую, улучшенную личность с помощью книги «Как завоевать друзей и влиять на людей» Дейла Карнеги. Стэнли, наоборот, чувствует, как что-то не дает ему обрести идеальную самость, что проявляется во время его попыток перевести поэму Микеланджело, откуда Гэддис и взял термин «личность способная на большее», – эта поэма также играет ключевую роль в «Агонии агапе». Бэзил Валентайн, цитируя «О непостоянстве наших поступков» Монтеня, говорит Уайатту: «Мы не меньше отличаемся от себя самих, чем от других»[259]259
259. Монтень М., Опыты. Том 2, пер. А. Бобовича, М.: Эксмо, 2003.
[Закрыть]. Эта фраза еще повторится в «Джей Ар» (486, неверно приписана Паскалю) и – при комичных обстоятельствах – Оскаром Кризом обо всех людях.
Неприятный юный герой «Джей Ар» завидует той версии себя, о которой читает в СМИ, – альтер-эго с бульдожьей хваткой махинатора в мире бизнеса, тогда как сам работает из телефонной будки. Джек Гиббс периодически меняет публичный образ, избегая встречи с истинным «я», тогда как у Томаса Эйгена нет желания искать свое творческое «я», а Эдвард Баст учится корректировать нереалистичную версию себя. Маккэндлесс в «Плотницкой готике» (еще один рупор Гэддиса, как Гиббс и Эйген) слушает издевки своего заклятого врага Лестера о различиях между тем, кто он есть, и тем, кем себя считает, – идеализированным героем его романа, еще больше идеализированным Лиз, которая находит его альтер-эго в персонаже Хилтона из «Потерянного горизонта», в отличии от Маккэндлесса, чувствующего «что он по-прежнему составляет частичку всего того, кем мог бы быть».
В «Его забаве» тема личности звучит с многочисленными изменениями, порой серьезными (в «Однажды в Энтитеме» раздвоение личности Томаса изображено в виде двух заместителей, которых он отправляет на войну и которые символизируют воюющие между собой половины страны), но чаще – комичными, как когда у Лили крадут сумочку и она оплакивает различие между ее стесненными финансовыми обстоятельствами и обстоятельствами ее «„я“-которое-может-больше»:
эта женщина украла мою сумочку и где-то там выдает себя за меня с моими кредитками и всем остальным воспользовалась моей кредиткой раньше чем я ее заблокировала и теперь все чеки с моей подписью недействительны, я не могу даже доказать свою личность а она покупает билеты на самолет она уже может быть в Париже будучи мной а я даже не знаю что там делаю пока не получу счет за туфли из кожи ящерицы которые я купила в каком-то магазине на Беверли-Хиллз куда всегда хотела попасть и это жутко.
И, конечно же, в случае Оскара лежит зияющая пропасть между тем, кто он есть – «цивилизованный человек!.. Возможно последний из оставшихся», и тем, кто он на самом деле, что часто упоминается в контексте того дела о наезде, которое его адвокат подытоживает как «тяжбу между тем кто ты есть и кем ты себя считаешь». Вообще-то Оскар и дает лучшую формулировку этой идеи, когда пишет о беглом рабе Джоне Генри: «Подвешенный, между тем кто он есть и кем никогда не будет».
Перебирая свои черновики в начале «Агонии агапе», герой-писатель натыкается на рекламу механического пианино с ножным насосом в Saturday Evening Post, обещающую немузыкантам «участие» в создании грандиозной музыки. «…Раскрыв неожиданный талант играть ногами, эту романтическую иллюзию участия, где самостоятельное исполнение Бетховена уничтожено технологией» звукозаписи, низводя его до роли пассивного потребителя, а не активного участника, и ослабив его отношение к творцу. Отсюда и название повести: участие напоминает «агапе, праздник любви в ранней религии, да». «Вот что утрачено, чего не найдешь в этих продуктах подражательных искусств, созданных для воспроизводства в огромных масштабах» на манер фильмов, где отдельные личности сливаются со «стадом оцепеневшим и молчащим при виде агонии секса и пушек…». Эта утрата – еще один пример «творческого „я“, убитого другим», в очередной раз цитируя заметки Гэддиса для «Распознаваний».
Внезапно писатель вспоминает: «О Боже, Боже, Боже, Chi m’a tolto a me stesso это Микеланджело, это из моей книги, Ch’a me fusse più presso O più di me potessi это в моей книге, кем у меня похищено „я“ которое могло больше…». Затем писатель переходит к теме механического пианино, но впредь то и дело возвращается к идее другого «я», находя в своих книгах и черновиках примеры от античных демонов/даймонов до современных клонов. Двадцать пять тысяч лет культуры и искусства вбирает в себя черная дыра энциклопедического ума автора, когда он размышляет над всеми метафорами альтернативных эго и пугающих Других, созданных писателями, философами, теологами, антропологами и психологами для описания идеи: «Это дикарь исполняет магический ритуальный танец кенгуру где он кенгуру, один становится другим», но не двойник, как в одноименной повести Достоевского, или две души из «Фауста» Гёте, что пытаются отделиться друг от друга. Это ближе к тому, как рассказчик из «Корректуры» Бернхарда сливается с мыслями Ройтхаймера. Это молодое «я», по-прежнему существующее внутри, а не внешний доппельгангер, как «Двойник» или австрийский плагиатор, предвосхитивший его мысли. Писатель ищет книгу «Греки и иррациональное» Е. Р. Доддса, где он читал о древнегреческой «вере в автономное существование души, или „я“, которое с помощью соответствующих техник может быть отделено от тела еще при жизни – „я“, которое старше, чем тело, и которое переживет его»[260]260
260. Доддс Е. Р., Греки и иррациональное, пер. А. Лебедева, М.: Московский философский фонд, 2000.
[Закрыть], и где читал об идее Пифагора о вечной душе, позже принятой христианскими теологами. Из того же источника он узнал: «Опасные даймоны с собственными жизнью и энергией это уже по Гомеру правильно? [да, они из «Илиады»] которые на самом деле не часть тебя раз ими нельзя управлять зато они могут вынудить тебя делать то чего ты иначе бы не делал и это мы еще не дошли до чревовещателей о которых знаем от Аристофана и Платона […]. Этот самый второй голос внутри с которым они вели беседы и предсказывали будущее хриплыми голосами из живота…». Представление об отделяемых «я» через свободные ассоциации приводит его к автоматонам, чудовищу Франкенштейна, диббукам, одержимости демонами, психофизиологической проблеме, работе психотерапевтов с вытесненным «я» и даже к Толстому, преследовавшему Тургенева как «какое-то чудовищное, какое-то отделяемое я, какой-то опасный даймон который не часть тебя раз им нельзя управлять зато он может вынудить делать то чего ты иначе бы [не делал…]»[261]261
261. Анализ этого феномена (с отсылками к Гёте и Достоевскому) см.: Feinberg Т. E., Altered Egos: How the Brain Creates the Self, New York: Oxford University Press, 2001.
[Закрыть].
Все это напоминает ему о половом влечении, о независимости тела от ума; в начале монолога писатель вспоминает, как «после анестезии в послеоперационной палате пытался поднять ногу и она вдруг подскочила сама собой», что навело на религиозную мысль о «теле как темнице души», ведущей жизнь ради удовольствия наперекор устремлениям «я», которое может больше. Он размышляет о клонах, о желании Гленна Гульда стать пианино так же, как дикарь становится кенгуру, о Вагнере и ницшеанском Другом, о Свенгали, учившим Трильби стать его Другим – его «я», которое может больше, в некогда популярном романе Дюморье. Писатель вспоминает даже Ролана Барта, когда тот следует за Флобером «в объятья смерти автора чьи намерения не имеют никакого отношения к смыслу текста который все равно неопределим, многомерное пространство где современный скриптор рождается с этим, этим отделяемым „я“ этим вторым внутренним голосом, предсказывающим будущее хриплым чревовещанием» – это кажется ему нелепым, будто живот-ясновидец[262]262
262. Даже без пренебрежительного упоминания «Смерти автора» Барта в статье «Старые враги с новыми лицами» (Old Foes with New Faces, ГВМ, 97) очевидно, что Гэддис, как и судья Криз, считает замечания французского теоретика «несерьезными». С другой стороны, определение текста из «Смерти автора» подходит «Агонии агапе»: «Многомерное пространство, где сочетаются и спорят друг с другом различные виды письма, ни один из которых не является исходным; текст соткан из цитат, отсылающих к тысячам культурных источников» (Барт Р., Избранные работы:Семиотика. Поэтика, пер. С. Зенкина, М.: РИПОЛ классик, 1994).
[Закрыть]. Осознавая, что стал своим собственным Другим, писатель до того путается в высказываниях и метафорах, что заявляет, будто купил дом не для себя, а для своего творческого «я»: «Этот Другой ради которого я покупал был выдуманным кенгуру». Причудливость некоторых кросс-культурных связей, напоминающих некоторые диковинные метафорические связи из «Распознаваний», показывает, что Гэддис не растерял чувство юмора, как и желание побаловаться безобидным каламбуром на предпоследней странице, в момент наивысшей серьезности: «Одна куколка говорит другой при виде бабочки, я бы такой наряд в жизни не нацепила».
Пары Толстой-Тургенев и Ницше-Вагнер, похоже, напоминают писателю об аналогичном «„я“-которое-может-больше» в его собственной жизни, которое, по всей видимости, и оказывается этим «ты», к кому в порыве эмоций обращается писатель в финале, и чьим прообразом, по предположению Джозефа Табби, является наставник Гэддиса Мартин Дворкин. (Вполне возможно, некоторые из этих «ты» обращены и к читателю, как в заключительной строчке «Джей Ар»: «Эй! Ты слушаешь?..» – чей отголосок встречается и здесь: «Ты меня слышишь? Слушай».) Однако в завершении повести писатель осознает, что Другой, кого он, как он считает, предал, – это кто-то еще.
Ближе к концу он возвращается к строкам Микеланджело и пытается их перевести:
O Dio, o Dio, кем у меня похищено «я» которое могло больше нет, нет не так заурядно это итальянская поэзия пятнадцатого, шестнадцатого ближе века, Кто ближе ко мне Или более могучий, да, более могучий, чем я, Оторвал меня от меня же. Оторвал меня! che poss’, что мне делать? я тебе скажу, che poss’ io! Верни его, кто бы там ни отнял этого Другого, оторвал ближайшего ко мне который мог больше…
Тут он понимает, что Другой – это его молодое «я», это его он предал. Цицерон придумал понятие «альтер-эго», под которым подразумевал «второе я, верного друга»[263]263
263. На самом деле считается, что первым это понятие ввел древнегреческий философ Зенон Китийский. – Прим. пер.
[Закрыть]. В «Письмах к Аттику» он пишет: «Я упрекаю себя намного больше, чем тебя, и если я упрекаю тебя, то только как мое альтер-эго; и я ищу кого-то, чтобы разделить вину»[264]264
264. Цицерон М. Т., Письма к Аттику, пер. В. Горенштейна, М.: Наука, 2008.
[Закрыть]. Но гэддисовский писатель чувствует, что предал этого верного друга: «С наступлением возраста нарушена давняя дружба между мной и мной, мои идеи и мнения сошлись с общественным мнением и стали его частью и, и да и неличность оглядывается на дерзкое самостоятельное „я“», которой он раньше был, на «дерзкую молодость», которой он обладал, на «гнев и силу и безграничное воодушевление», нужные для написания книги подобной «Распознаваниям» – книги, теперь ставшей его врагом. Он отстраняется от своей молодой версии, как от рилькеанского ангела, и понимает, что не сможет закончить книгу, ведь он уже не тот, кем когда-то был.
В довесок к аккуратной расстановке мадригала Микеланджело в виде формальной рамки, повторяющегося образа, и к традиционной структуре завязки-кульминации-развязки душераздирающее заключение – самое сильное указание, что «Агония агапе» в самом деле роман, а не «плохо завуалированная автобиографическая тирада». В конце писатель оказывается персонажем, отличным от Гэддиса, несмотря на почти идентичные взгляды и прошлое, и этого уже достаточно, чтобы протолкнуть «Агонию агапе» в категорию художественной литературы. Хотя после «Плотницкой готики» Гэддис ослабил свою жесткую позицию против публичности, не сказать, чтобы он ослабил творческую строгость или что его «идеи и мнения сошлись с общественным мнением», в чем себя обвиняет писатель; наоборот, они стали суровее, мрачнее, еще противоположнее публичным мнениям. В одном из последних интервью Гэддиса спросили, что он думает о своем первом романе:
Ужасно смешанные чувства. Словно возвращаешься в место из детства. Все знакомо, но все равно странно. Пару лет назад я был в Мадриде, где начал писать «Распознавания» в 1948-м. Я пытался найти небольшой пансион, где тогда жил, но не смог. Это меня сильно раздражало, пока я не понял, что ностальгировал не по конкретному месту, а по своей молодости. То же самое со мной происходит, когда я возвращаюсь к этой книге. Но в конце концов остается симпатия – если не к книге, то к молодому человеку, кем я когда-то был, и к намерениям, с которыми я приступал к этой книге[265]265
265. Scheck D., Das amerikanische Virus, unpublished translation by John Soutter.
[Закрыть].
Это далеко от признания книги «врагом», да и заявление писателя на втором часу монолога: «Я всю жизнь ошибался во всем все было подделкой и вымыслом, подвел всех кроме дочерей может» – совсем не похоже на Гэддиса, известного по письмам, интервью и личным разговорам. На него, как и на любого, находила неуверенность в себе, но в романе это чувство преувеличено, обработано. Возможно, в периоды сплина Гэддис и чувствовал, что «меня забыли оставили пылиться на полке с мертвыми белыми мужчинами из университетской учебной программы что мои награды забыты… [пытаюсь] скрывать неудачу во всем что обещал но оставил брошенным словно какая-то Torschlusspanik старой девы из-за того что она так и останется незамужней на полке», но это не соотносится с реальной жизнью Гэддиса в последние годы, когда печатались все его романы и готовились новые переводы, когда выходили новые книги и эссе о его творчестве, а немецкие читатели носили писателя на руках. В таких пассажах ранее накладывавшиеся друг на друга образы писателя-героя и автора слегка расходятся, вымышленный писатель паникует от воображаемых обвинений, что он всех предал, «что я предал даже себя из страха дальше влачить неумолимое бремя настоящего творца», а настоящий автор, судя по выдержанным ритму и стилю, пишет это спокойно. Драматичная арка повествования потребовала отклонения от автобиографии. Два слегка разделенных образа вновь сливаются воедино на последней странице, когда и писатель, и автор вспоминают «Молодость с ее беспечным ликованием когда все было возможно уступившая Старости где мы сейчас», но снова расходятся в заключительных строках о той Молодости: писатель ненавидит ее, автор – симпатизирует.
Естественно, это только домыслы; черновики Гэддиса указывают, что у него были другие планы на финал, и это затрудняет уверенный анализ опубликованной работы. Чувствуя стремительное приближение буквального конца, Гэддис закончил роман как мог. Мне вспоминается финал последнего романа его давнишнего друга Дэвида Марксона, тоже о старом одиноком писателе, окруженном обрывками культуры. За две страницы до конца протагонист Марксона пишет: «Als ick kan[266]266
266. Как могу (нидерл.). – Прим. пер.
[Закрыть]. Писатель ловит себя на том, что повторяет это несколько раз, хоть даже не знает, какой это язык – фламандский шестисотлетней давности? И неуверенный, почему его так зацепила эта фраза у Ван Эйка. «Вот и все, больше я не могу? Это все, что я оставил? Я не могу продолжать?» Спустя две страницы книга кончается словами «Als ick kan»[267]267
267. Markson D., The Last Novel, Emeryville, CA: Shoemaker & Hoard, 2007.
[Закрыть]. Если бы у Гэддиса остались источники, по которым он писал о Ван Эйке в «Распознаваниях», когда в нем еще жило «„я“-которое-могло-больше», у него могло бы возникнуть искушение закончить свой последний роман теми же словами.
«Агония агапе» вышла в 2002-м вместе со сборником «Гонка за второе место. Эссе и случайные сочинения», где рецензентам, оценивающим финальный роман Гэддиса, пригодилась статья о механическом пианино и механизации искусства. Большинство написали позитивные отзывы, хотя в отдельных случаях акцент смещался на общие достижения Гэддиса, а не на эту мрачную, запутанную повесть. Особую дурную славу приобрело эссе-рецензия Джонатана Франзена «Мистер Сложный» в New Yorker (и в следующем году переизданное в его сборнике эссе «Как быть одному» – How to be alone), где акцент смещен на его противоречивое отношении к Гэддису и сложной литературе, нежели на сами книги[268]268
268. См. подробное и умное возражение статье Франзена в рецензии Майкла Равича на «Агонию агапе» (Yale Review, April 2004).
[Закрыть]. Этот текст породил эссе Синтии Озик, Бена Маркуса и других, начав дебаты на тему сложности в литературе, что продолжаются и по сей день – и обычно не без упоминаний Гэддиса.
Не поспорить, что «Агония агапе» – его наименее впечатляющая и удовлетворяющая работа, «деревянная лачуга по сравнению с искусными особняками прошлого», как выразился Майкл Равич в рецензии, напоминая об архитектурных образах из «Плотницкой готики». Последний роман Гэддиса больше заслуживает метапрозовую характеристику из его же третьего: «Лоскутное одеяло задумок, заимствований, обманов, внутри мешанина из благих намерений будто последняя нелепая попытка сделать то что стоит делать пусть даже в таких мелких масштабах». И возможно, автор надеялся, что читатели отнесутся к нему так же, как Маккэндлесс – к своему роману: «Просто проклятые запоздалые мысли почему они тебя так смущают. Этот роман просто сноска, постскриптум…». Сноска, постскриптум к предыдущим вещам, – вот, пожалуй, лучший взгляд на «Агонию агапе»; но как эта преждевременная экспертиза недооценивала прочность «Плотницкой готики», так, возможно, и сейчас Гэддис оказался скроен лучше, чем думал.