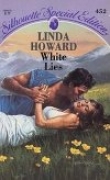Текст книги "Уильям Гэддис: искусство романа"
Автор книги: Стивен Мур
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц)
3
«Распознавания»: «Я», которое может больше
Хотя поиски Уайатта и находятся в центре «Распознаваний», сам он появляется лишь на половине страниц романа из 22 глав, и то в некоторых случаях – мимолетно. Как писал Гэддис в одной из заметок, «корпус романа – не целиком об Уайатте, он о других, а об Уайатте только в том смысле, что он – дух, который они потеряли». Как Камилла – дух, потерянный Уайаттом, – хранит «холодное бдение, ожидая», когда же Уайатт исправится, так и он относится к другим. «Я жду, – говорит он Валентайну о своей роли в их гипотетическом романе («метапрозовой версии „Распознаваний“»). – Где он? Слушай: он все время там. Никто не движется, но это отражает его, никто… не реагирует, кроме как с ним, никто не ненавидит, кроме как ненавидит с ним, ненавидит его, и любовь… никто из них не любит, но, любовь…». Здесь Уайатт запинается, осознавая отсутствие любви в своей жизни, но для других он воплощает то, что Валентайн называет «этот другой… это прекрасное «я»… которое может больше, чем они».
Все важные персонажи видят в Уайатте того, кем они могли бы стать: «„Я“-которое-может-больше, – возвращаясь к записям Гэддиса, – творческое „я“, но убитое другим: у Валентайна – разумом; у Брауна – материальной выгодой; у Отто – тщеславием и амбициями; у Стэнли – Церковью; у Ансельма – религией, и т. д. И т. п.» Подобно ангелу Рильке, с которым Уайатт несколько раз сравнивается, он представляет для этих персонажей «сущность, в которой преодолены ограничения и противоречия нынешней человеческой природы, сущность, в которой мысль и действие, проницательность и достижение, воля и возможность, реальность и идеал сплелись воедино»[109]109
109. Заметки Дж. Б. Лейшмана к «Дуинским элегиям» Райнера Марии Рильке (The Duino Elegies, New York: Norton, 1939). Этот вариант цитировал Гэддис.
[Закрыть]. Как говорилось ранее, Уайатт не ангел и ему трудно достичь рилькевского идеала, но у него хватает таланта, чтобы напоминать другим об их слабых сторонах. Отто, например, тонет в зависти и восхищении: «В смысле знать столько, сколько знаешь ты, наверняка… в смысле ты теперь уже правда можешь делать все, что хочешь, в смысле, ты не чувствуешь себя ограниченным тем внутри себя, чего не знаешь, в отличие от меня». «Как будто работала частичка меня, как будто там работала частичка меня», – вспоминает Бенни, бывший руководитель Уайатта. «И я не смог. Он мог, а я не смог». Это ощущение неудачи и неполноценности преследует большинство персонажей романа, доводя их до безумия, наркотиков и алкоголя, инертности, самоубийства или в лучшем случае того, что Торо называет жизнью в тихом отчаянии.
Эти персонажи служат комической отдушиной от уайаттовских угрюмо серьезных поисков искупления и подлинности. Возможно, Гэддис задумывал комедию нравов с тем же «несчастным остроумием», которое он приписывал Солу Беллоу[110]110
110. См. рецензию на «Чаще умирают от разбитого сердца», 1987 (ГВМ).
[Закрыть]: высмеивание жизни и претензий нью-йоркских интеллектуалов, писателей, модных гомосексуалов и различных подпевал, составляющих действующие лица романа. Однако свирепость сатиры, презрение, которым Гэддис окатывает почти каждого, выдают в нем сурового моралиста, не столько предлагающего читателю посмеяться над слабостями персонажей, сколько отпрянуть в ужасе и спросить в ошеломлении и возмущении: «Но почему ты делаешь то, что делаешь? Почему живешь жизнь, которую живешь?» Эта половина «Распознаваний» – не столько комедия, сколько трагедия нравов.
Гэддис не просто разоблачает богему; он драматизирует социологическое давление, вынуждающее людей надевать маски, менять «вещи, которым стоит быть, на вещи, которые стоит иметь», путать подлинник с подделкой и отвергать «откровение из-за страха приглядеться к породившим его мотивам». Эти мотивы и исследует Гэддис, весьма безжалостно превращая в самодостаточных персонажей тех, что казались карикатурами, мишенями для его сатирических уколов. «Какая малость из нас встречает чужую малость», – горюет Агнес Дей в своем предсмертном письме доктору Вайсгаллу, и как мало внимания уделяли этой интригующей галерее персонажей.
ОТТО
По гэддисовской «боп-версии» «Фауста», роль Вагнера для Уайатта-мага в начале романа играет Отто Пивнер, но в следующих актах он скорее комичный двойник, отражение «беглого художника» в кривом зеркале. Как шут на вторых ролях шекспировского сюжета, Отто служит нелепой копией Уайатта: подражает его манерам, крадет лучшие фразы, пародирует поиски как самого Уайатта, так и его прообразов. Их связывают десятки параллельных ситуаций: Отто порезал щеку и задает своему предполагаемому отцу тот же вопрос, что задает отцу и Уайатт, и тоже с раненой щекой; бармен окликает Отто, чтобы напомнить об оставленной газете ровно так же, как французский официант окликнул Уайатта; волосы Отто загораются, как часто снится Уайатту; последняя беседа Отто с Эстер так сильно повторяет последний разговор Уайатта с ней, что Эстер дает подсказки на предмет того, что говорить дальше; во время этой беседы и Уайатт, и Отто отмечают, оглядываясь вокруг, что ничего стоящего уже не сделать; последний сознательный поступок Отто – постучаться в церковь в поисках прибежища, точно так же делает Уайатт перед тем, как уйти из монастыря; в конце романа оба берут новые имена (Отто становится Гордоном, а Уайатт – Стивеном), и их последнее появление сопровождается звоном церковных колоколов. Это только мизер из параллелей, отголосков и пародий, разбросанных Гэддисом по тексту. Все это делает поступки Отто смутно узнаваемыми; это же ощущение не дает покоя читателям его сплагиаченной пьесы, чье название он, само собой, украл у Уайатта.
Но неуклюжий путь Отто вписан не только для смеха. Его проблемы с идентичностью и подлинностью – не просто мирские вариации более метафизических проблем Уайатта: они ближе к плоскости, в которой обитает большинство читателей, в отличие от утонченного слоя существования Уайатта. Так и его тщеславие всего лишь обычная версия глубокой застенчивости и самоанализа, присущих Уайатту, которого можно даже обвинить в теологическом тщеславии, когда он спрашивает у отца: «Это ради меня умер Христос?» По-своему, неловко, Отто приходит к тем же «распознаваниям», что и Уайатт, часто – через те же метафоры из живописи. В одном из наиболее значимых пассажей романа Отто говорит Эсме:
Как в одной истории, мне ее рассказал друг, я его раньше знал, история о поддельной картине. Поддельный Тициан, которого написали поверх другой старой картины, и когда поддельного Тициана соскребли, нашли какую-то старую никчемную картину – фальсификатор ее взял из-за старинного холста. Но потом что-то оказалось и под никчемной картиной, и ее соскоблили, и под ней нашли Тициана – настоящего Тициана, который там был все это время. Словно, когда фальсификатор работал, и не знал, что там оригинал, в смысле, не знал, что знал, но все-таки знало оно – в смысле, что-то знало. В смысле, понимаешь, о чем я? Что под этим есть оригинал, что настоящее… что-то все-таки есть, а на поверхности ты… если бы только можно было… понимаешь, о чем я?
В другой беседе с Эстер Отто использует те же метафоры о подделках, что выводили из себя Уайатта, причем в связке с глаголом-талисманом «распознавать»: «И этот, этот сумбур, ворошишь этот сумбур в поисках собственных чувств и пытаешься их спасти но уже поздно, даже их не узнаешь, когда они всплывают к поверхности, потому что они уже везде растрачены и, опошлены и эксплуатированы и разбросаны и растрачены где только можно, от тебя все требуют и ты все платишь и не можешь... И потом ни с того ни с сего тебя просят расплатиться золотом – а ты не можешь. Да, не можешь ничего не осталось, и не можешь».
Это только два случая из тех, когда Отто приближается в проницательности к Уайатту, но каждый раз он отступает «с отважным отказом того, кто отвергает откровение из-за страха приглядеться к породившим его мотивам». Полный пересмотр жизни, которым занимается Уайатт/Стивен, слишком кардинален для большинства людей, и все-таки даже Отто может быть готов к подобным переменам в конце романа. Узнав, что Джесси сбежала с его фальшивыми деньгами, Отто/Гордон реагирует на предписание доктора «придется начать все заново» тем, что срывает бинты и смеется, под «мягкий ветер с юга, и колокола, звонящие утренний Angelus[111]111
111. Angelus Domini – католическая молитва «Ангел Господень». – Прим. пер.
[Закрыть]», что намекает: он готов начать новую жизнь.
Но перед этим герой проходит свои круги ада. Впервые мы встречаем его в баре на Лексингтон-авеню, когда он пустым взглядом смотрит на то, что предстает символической триадой: «…На приколотую к стене долларовую банкноту, табличку с надписью Если везешь своего ОТЦА выпить, вези его сюда и собственное отражение в зеркале». Волнения о деньгах, отец и его собственный образ – вот животрепещущие вопросы, которыми задается Отто в романе, и нелепость обстоятельств, при которых вводится эта символическая триада, определит тон большинства его поступков. Только что перебравшийся в Нью-Йорк из Гарварда, с пустым кошельком, но полный тщеславия и амбиций, Отто входит в мир Уайатта и его жены с первой из множества своих выдумок. Подслушав пьяницу, орущего мужчине в костюме Санта-Клауса: «Эй, Пальяча, только не начинай распевать тут свою ладоннумобиле», Отто переиначивает историю для Эстер. Говорит, что «был на вечеринке на севере города, в гостях у какого-то драматурга, ушел, когда стало слишком шумно и какая-то женщина то и дело звала его Пальяччи». Эстер быстро угадывает в нем «заносчивого претенциозного мальчишку», но находит утешение в его внимании, поскольку Уайатт все глубже уходит в себя.
И все же скоро ее начинает раздражать его одержимость деньгами, и она тонко подмечает: «Кажется, будто для тебя их отсутствие – отражение твоей мужественности». На что Отто отвечает: «Но деньги, в смысле, к черту, в Нью-Йорке мужчина без денег и правда все равно что кастрированный». Позже Макс насмехается над ним: «У тебя и правда комплекс из-за денег, да, Отто, правда комплекс кастрации без них», – что Гэддис доводит до комического апофеоза, когда Отто впервые с ранних лет встречается с отцом. Паникуя из-за потерянного кошелька при попытках подцепить блондинку в баре, Отто «пощупал в нагрудном кармане, словно кошелек все это время был там, а его отсутствие – наваждение от колдовства; и быстро покосился на блондинку, как те средневековые инквизиторы, листая страницы Malleus Maleficarum, косились на ведьм, как будто бы лишавших мужчин детородных органов, когда узнавали, что „никогда ведьмами в действительности не отрываются эти органы, они лишь скрываются обманом чувств от лицезрения и осязания“»[112]112
112. Шпренгер Я., Инститорис Г., Молот ведьм, пер. С. Лозинского, СПб: Амфора, 2001.
[Закрыть]. Когда «отец» дарит ему «рождественский подарок» – на самом деле это фальшивомонетчик Фрэнк Синистерра передал 5 тысяч долларов в фальшивых двадцатках своему предполагаемому контакту, – Отто «прижимает пакет к гениталиям» и спешит к себе в номер, чтобы разбросать деньги по кровати со страстью пылкого любовника, «считая деньги, в разных позах». Эти деньги, конечно, ведут к краху: узнав, что это фальшивки, он бежит с ними из страны, получает настоящее ранение во время революции в Центральной Америке (большую часть книги он его симулировал) и находит освобождение в катарсическом смехе, только когда у него крадут эти проклятые деньги.
В поисках отца Отто так же безуспешен, как и в поиске богатства, и на самом деле он встречается с отцом, которого не видел с детства, по финансовым, а не сыновьим мотивам. Объяснений долгому отсутствию отца нет, и Отто трепещет перед перспективой встречи с мистером Пивнером. «Эту заковыку до сих пор было проще не трогать; и идут к черту Эдип и иже с ним. Пока что отец может быть любым, кого выберет сын». Незачем и говорить, что он выберет неправильно. Сидя в вестибюле отеля в ожидании и угадывая мистера Пивнера среди посетителей, Отто выбирает одного джентльмена. Позже он застанет его в постели с той блондинкой, которую сам надеялся подцепить, – женщиной, что позже поощрительно склонится в сторону мистера Пивнера: все это параллель эдиповского напряжения Уайатта в отношении к своему отцу. С диккенсовским пристрастием к совпадениям и ошибочной идентификации Гэддис вводит Фрэнка Синистерру в вестибюль, как раз когда мистера Пивнера уводят как подозреваемого в наркомании, и Синистерра с Отто совершают вполне понятную ошибку – с уморительным итогом. (В маленьком мирке Гэддиса Синистерра не только виноват в смерти Камиллы, но и является настоящим отцом Чеби Синистерры, мерзкого соперника Отто в ухаживаниях за Эсме – которая в тайне от них обоих безнадежно влюблена в Уайатта. Побыв временным отцом для Отто, позже Синистерра успеет побыть отцом и для Уайатта.) На следующий вечер мистер Пивнер, движимый искренним желанием воссоединиться с сыном, возвращается в отель и оказывается в уборной рядом с «человеком его роста, почти того же телосложения […] когда к нему повернулось лицо, взглянув налитыми кровью глазами в опустошении презрения». У мистера Пивнера вспыхивает надежда, но быстро гаснет без распознавания; скоро он найдет «суррогатного» сына в лице дружелюбного, но глуповатого Эдди Зефника.
Как и «Эдип и иже с ним», Отто ведет архетипический поиск, но, по словам Джона Сили, «сюжет этого эпизода напоминает комедию времен Реставрации» больше, чем духовные поиски Эдипа, Гамлета, Измаила, Стивена Дедала или, что важнее, Уайатта Гвайна. Мотивы поиска отца у Отто не имеют ничего общего с любовью, искуплением или духовным родством – они на самом деле не идут дальше надежд на щедрый рождественский подарок (желательно наличными) и рассказы патрицианского (если не царственного) отца о «его задушевных беседах с оперными звездами, артистами, продюсерами, за грудкой цесарки и вином». Точно так же многочисленные встречи Отто с зеркалами – это не мистические возможности раскрыть «тайны катоптрического причастия», как для Уайатта и Эсме, а тщетные попытки подготовить лицо ко встрече с теми, кого он надеется увидеть: «Улыбнулся себе в зеркале. Поднял бровь. Лучше. Увлажнил губы и подвернул верхнюю. Еще лучше. Улыбки, делавшей его лицо подобострастным, как не бывало. Нужно запомнить это выражение: левая бровь поднята, веки приопущены, губы влажные, приоткрытые, их уголки смотрят вниз. Лицо для Нью-Йорка».
По ходу сюжета все сильнее и сильнее запутываясь в паутине лжи, предательств и самообмана, которую Отто сам себе свил, зеркала фиксируют атаки на его дробящуюся личность. Заметив, что Эсме наконец повесила в квартире зеркало, он смотрит «в него, увидев свое лицо со срезанным подбородком». За пару часов до этого Отто сидел в баре, уставившись «прямо перед собой; но не видел своего лица из-за приклеенной на зеркало прямо над его воротником рекламы Сосиски и квашеная капуста 20 ¢». Когда он в следующий раз смотрит в барное зеркало, у него уходит «добрые полминуты, чтобы сообразить, что ни щетинистый подбородок, ни приплюснутый нос, ни оттопыренные уши, ни желтые глаза, в которые он уставился, не его». Пока Уайатт стремится к психической интеграции, Отто стремительно дезинтегрируется, и к середине романа его раздробленность начинает походить уже на шизофрению Эсме, когда «он отступил от своего отражения, вышедшего из зеркала над стойкой обретаться отдельно, и наблюдал, как оно идет через комнату к вестибюлю, готовый похвалить это пустое существо, если все пройдет как надо, и бросить матовым и нищим, если все сговорится против него» (Гэддис вернется к идее «отделяемого „я“» в «Агонии агапе»). Подобно сверхъестественному портрету в уайльдовском «Портрете Дориана Грея», зеркало здесь и всюду в «Распознаваниях» служит оккультным окном в душуи с безжалостной точностью фиксирует расщепление личности Отто. После трансформации в «Гордона» – идеальное «я»-которое-может-больше, что он искал в стольких зеркалах, – утрата личности у Отто подытоживается зримым отсутствием зеркал в любых новых окружениях, не считая перфорированного зеркала офтальмоскопа, с которым доктор Фелл заглядывает в пустые остекленевшие глаза Отто.
ЭСТЕР И ЭСМЕ
Уайатт и Отто связаны романтическим четырехугольником с двумя главными героинями романа: женой Уайатта Эстер и его натурщицей Эсме, которые терпят Отто только из-за безразличия к ним Уайатта. У обеих есть любовники(у Эстер – Эллери, у Эсме – Чеби), что еще больше доказывает бесполезность Отто, да и многие другие мужские персонажи, похоже, спали с Эстер или Эсме. Но распущенность женщин из Гринвич-Виллидж не особо заботит Гэддиса. Эстер и Эсме олицетворяют две традиционные формы спасения для мифического героя (спасения благодаря женщине), и то, что они не подходят на роль фигур анимы, только обостряет гэддисовскую критику этого предания. У них одинаковые инициалы и есть склонность к писательству, но они диаметрально противоположны: Эстер – рациональная, крепкая, амбициозная, пишет прозу, а Эсме – таинственная, нежная, бесцельная, сочиняет поэзию. Этот контраст еще больше заостряется особенностями стиля Гэддиса: первая сцена с Эстер в романе написана в сбалансированном, логически упорядоченном стиле Генри Джеймса – автора, которым восхищается Эстер; у Эсме аналогичная сцена разбита на две части, будто предвещая ее зачаточную шизофрению. Эта сцена написана в алогичном стиле внутреннего монолога, перебивающегося солипсическими вопросами и отрывками стихов, прозы и эзотерики. Тем не менее женщин объединяет неразделенная любовь к Уайатту и отчаяние от его утраты.
Из них Эстер более агрессивна. Интеллигентная женщина и во многом симпатичный персонаж, она слишком предана разуму, анализу, интеллектуальной сфере и социальному успеху, чтобы удовлетворить эмоциональные потребности погруженного в раздумья мужа. Ситуация осложняется тем, что Эстер не нравится быть женщиной и она становится «строго интеллектуальной, изучая прошлое с мужской безжалостностью», выражая свою неприязнь хищной, кастрирующей сексуальностью «в отчетливом требовании впитать удержанные от нее свойства». Слишком оторванная от женственности, она явно не может восполнить женский компонент, отсутствующий в психике Уайатта, а у него хватает своих забот, чтобы помогать ей найти себя. Соответственно, их брак становится этюдом во фрустрации, а их темпераменты красиво переданы эстеровским «рабством перед совершенством Моцарта, творчеством гения без мига колебаний или усилий, гения, которому противостояли постоянно героические усилия, порождающие музыку Бетховена, усилия не завершающиеся и не торжествующие до самого конца». Будучи слишком похожей на тетю Мэй схематическим взглядом на жизнь, Эстер теряет Уайатта – он выбирает ту, что больше похожа на его потерянную мать.

Уильям Гэддис, 1955 год, фотография на момент публикации «Распознаваний» (фото из личного архива Стивена Мура)
Эсме – Гретхен для Уайатта-Фауста – прислана Уайатту местным Мефистофелем, Ректаллом Брауном. Распутная маниакально-депрессивная шизофреничка с героиновой зависимостью, она тем не менее работает натурщицей, изображающей Деву Марию для религиозных подделок Уайатта («Только никаких следов уколов на руке Благовещения», – напоминает ему Браун), но и за пределами его студии ее постоянно сравнивают с картиной. В «Распознаваниях» в зеркалах и произведениях искусства можно найти обилие ключей к персонажам, и стоит отметить разницу между картинами, с которыми ассоциируются Эстер и Эсме. Будучи женат на Эстер, Уайатт реставрирует «американскую картину конца восемнадцатого века, над которой еще трудиться и трудиться, портрет женщины с крупными костями лица, но непримечательным носом, портрет, очень напоминавший Эстер». Позже, светя ультрафиолетом на отреставрированную картину, Уайатт видит другое, дориангреевское обличие души жены: «отреставрированные области на женском лице светились мертвым черным – лицо, тронутое неровной светотеневой рукой люэса и чумы, изъязвленные ткани под поверхностью, которая вернулась с прежней послушной безмятежностью в тот же миг, когда он перевел фиолетовый свет от нее на силуэт Эстер, которая вошла, заглянула ему через плечо и молча упала на пол». Этот запоминающийся момент, наполненный образами сифилиса и болезни, не только разоблачает сексуальное отвращение Уайатта к жене, но, что еще важнее, накладывает на него вину за ее дальнейший упадок – словно из-за симпатической магии его вуду-живописи.
Эсме же ассоциируется с уайаттовским незавершенным портретом Камиллы – другой девы «Распознаваний». Если душа Камиллы перешла в варварийскую обезьяну Геракла, то ее нынешняя реинкарнация видна в Эсме по ряду параллелей и отголосков: Эсме говорит, что у нее есть сын четырех лет – в этом возрасте Уайатт осознал, что утратил мать; у Эсме «взгляд с неуловимой тоской, но без ожидания» – эхо «неизменной, безответной тоски в выражении Камиллы на каминной полке в гостиной»; до попытки самоубийства Эсме носит византийские серьги Камиллы, у жизни которой был такой же кровавый исход, а после попытки идет «к ящику, словно что-то искала», подобно тому, как призрак Камиллы вернулся после смерти в швейную комнату, «словно что-то искал»; Эсме тоже становится «привидением» с лицом «хрупко доверительным в остроскулой осунувшейся девственности противоестественных теней», вернувшись к духовному состоянию девственницы, как призрачная мать Уайатта – до нее.
Хотя Эсме ассоциируется с самыми разными женскими символами спасения (помимо Девы Марии и Гретхен из «Фауста» – Беатриче у Данте, святая Роза Лимская, Сента из «Летучего Голландца», Сольвейг из «Пер Гюнта», Исида Луция, Клара Франциска Ассизского и даже дочь короля из «Короля-лягушонка» Братьев Гримм), периодически по ходу текста появляются ассоциации с суккубами и сиренами, и Уайатт о ней задумывается, к сожалению, только как об искусительнице. Взбунтовавшись против Брауна в роли Короля троллей, Уайатт видит в Эсме скорее ибсеновскую соблазнительную Женщину в зеленом, чем подобную матери Сольвейг, и бежит от ее предложения интимной связи ради службы в Церкви и возвращения к отцу [113]113
113. О том, как Гэддис использовал пьесу Ибсена, см. мою статью Peer Gynt and “The Recognitions”, Kuehl and Moore.
[Закрыть]. Учитывая тесное сходство Эсме и Камиллы, похоже, в проблемном разуме Уайатта отыгрывают свою роль и бессознательные страхи инцеста. Но после гибели в огне картины Stabat Mater, написанной по Камилле и Эсме, – в лице Эсме Уайатт нашел черты, необходимые для завершения старого портрета, – он осознает, как ошибся, отвергнув ту, которая могла дать ему самоотверженную любовь. Вернувшись в Нью-Йорк, чтобы разоблачить свои подделки и найти Эсме, Уайатт плохо справляется с первым и терпит неудачу во втором, после чего неохотно оставляет Эсме в последний раз и уезжает в Испанию, на поиски могилы матери и покаяния.
В какой-то степени у Эсме есть сходство с другой шизофреничкой в американской литературе – Николь из романа Ф. Скотта Фицджеральда «Ночь нежна». «Николь, неудавшаяся богиня, – писал о ней Лесли Фидлер, словно описывал и Эсме, – показана в романе шизофреничкой в попытке объяснить ее двойственную роль Светлой и Темной дамы, ее двух лиц – ангельского и дьявольского, нежной и оскаленной маски». Во время путешествия через океан после исчезновения Уайатта оба эти лица смотрят на Стэнли; днем он пытается обратить ее в католицизм, но ночью ее «симулякр» нападает на него, «нескромная в платье и развратная в наготе, многорукая, словно бешеная аватара из индуистской космологии […] пышногрудая и щеголявшая животом, конечности неотличимы, пока не привлекли его между собой, задушенного во влажном падении». Вечная жертва мужских фантазий, к концу романа Эсме все глубже впадает в безумие и религиозную манию. Ее невзаимная любовь к Уайатту доводит до угасания «так быстро, словно она… у нее не было воли жить», – скорбно заключит Стэнли, сообщая о ее фирбенковской смерти от «стафилококковой инфекции […] от поцелуя Святого-Петра-на-Лодке». Эсме – одна из самых странных, но запоминающихся героинь современной литературы, которая раскрывает абсурдность роли романтической искупительницы, навязанной стольким женским персонажам теми мужчинами, что предпочитают девственниц и шлюх любой более сложной женщине, находящейся посередине.