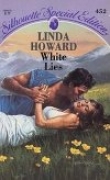Текст книги "Уильям Гэддис: искусство романа"
Автор книги: Стивен Мур
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц)
ЗАМЫСЕЛ
Вопрос о целях не менее опасен, чем вопрос о влиянии: некоторые теоретики утверждают, что авторский замысел неведом и/или нерелевантен, и предостерегают от допущения «интенционального заблуждения» – но слишком часто замысел Гэддиса понимали неверно, чтобы оставить его без рассмотрения. Эдвард Хоугланд в одном эссе предполагал, что «писателей можно классифицировать по многим критериям, и один из них – предпочитают ли они тему, которая их радует, или тему, которую они осуждают и желают растоптать иронией»[39]39
39. Hoagland E., The Courage of Turtles, New York: Random House, 1970.
[Закрыть]. Гэддис явно относится ко второму лагерю, к традиции ядовитой сатиры, питаемой нравственным негодованием, восходящим от вышеназванных американских писателей к августианским сатирикам восемнадцатого века, к Вольтеру, Бену Джонсону, к горечи сатиры Шекспира в «Троиле и Крессиде» и «Тимоне Афинском» (и даже к «Королю Лиру») и, наконец, таким римским сатирикам, как Ювенал и Персий. Тем не менее, начиная с первых романов, Гэддиса преследовали обвинения в нигилизме и пессимизме от тех, кто, как один рецензент «Распознаваний», считал, что его труд основан «лишь на узколобом и предвзятом взгляде, проекции личного недовольства»[40]40
40. Rugoff M., Review of The Recognitions, New York Herald Tribune, March 1955.
[Закрыть]. Подобные «узколобые и предвзятые взгляды» высказывали те, кто, похоже, не знал, что сатира прежде всего конструктивная, а не деструктивная писательская стратегия, связанная с донкихотской целью обновления общества, а не его разрушения. Например, Александр Поуп считал, что моральный долг сатирика – обнажать изъяны общества, чтобы их можно было исправить; аналогичный идеализм вдохновлял и тех русских писателей, которыми восхищался Гэддис. Сам он принадлежал к компании «благотворных убийц», причисленный к той Гилбертом Соррентино[41]41
41. Sorrentino G., Something Said, 1984; expanded edition, Normal, IL: Dalkey Archive Press, 2001.
[Закрыть], и его первые два романа можно как минимум в одном отношении трактовать как крестовые походы: «Распознавания» – против мошенничества и фальши всех видов (художественных, интеллектуальных, моральных и так далее), «Джей Ар» – против крайностей капитализма, новомодной педагогики, механизации и фарсовой идеи корпоративной «демократии».
Как и все сатирики, для достижения своих целей Гэддис обращается к юмору, побуждая читателя хохотать над претензиями тех, кого выставляет на посмешище. При этом комический элемент в гэддисовском творчестве постоянно недооценивался. Вместо этого чрезмерное значение придавалось его предполагаемому негативу, что только вредило романам. В 1981-м писатель ответил на это обвинение в интервью для Мирковица и Логан так, что стоит процитировать его слова целиком. На вопрос о том, считает ли он свои романы «апокалиптическими», Гэддис сказал:
Вы имеете в виду ожидание плохого конца? Не знаю. В нескольких рецензиях на «Джей Ар» говорилось, что в нем все негативно, плохо, творца пожирает бизнес-сообщество, но мне так не казалось, я видел это в позитивном свете. В обеих книгах указанное сообщество во многом символизирует реальность, нашу жизнь, с которой приходится иметь дело. Это внешняя потребность, а то, что делает творец, происходит из потребности внутренней. Столкновение внешней и внутренней потребностей и есть главный сюжет. У множества людей нет внутренней потребности – как и у Джей Ара. Ему одиннадцать лет, он неразвит, у него внутри ничего нет. Единственные ведомые ему ценности – те, что он видит вокруг: продвигайся, преуспевай, делай деньги и так далее. В конце, хоть он и потерял бизнес, и морально уничтожен, он все равно готов вернуться и ищет новые способы. Он ничему не научился. Тогда как Баст, композитор, вначале мечтавший написать в двадцать лет великую оперу, столкнувшись с реальностью, с материалистически-успешно-мусорным аспектом Америки, видит, что должен скорректировать свои запросы. Он на протяжении 700 страниц борется с этим миром, и его амбиции от большой оперы снижаются до кантаты, потом он убирает вокал ради сюиты, а в финале уже пытается написать соло для виолончели. Но, как он говорит в конце: «Я совершал чужие ошибки, а теперь буду совершать свои». То есть он в каком-то смысле очистился, прошел через чистилище материалистического безумия и говорит: «С меня хватит, теперь я буду делать, что хочу!» Я абсолютно не считаю это негативным посылом. Понимание, что эта нить позитива – все, на что можно надеяться; потому что мир – вовсе не дружелюбное место.
В «Распознаваниях» похожая тема. Когда начинается история Уайатта, он не гений, но очень талантливый художник. Однако ему не повезло с критиками, и он, разочарованный, занимается подделками – другими словами, связывается с материалистическим-денежным-мусорным миром[42]42
42. Примечательно, насколько похожий сценарий ожидал карьеру Гэддиса: ему тоже в начале не повезло с критиками, и он, разочаровавшись, обращается к рекламным и корпоративным текстам – «другими словами, связывается с материалистическим-денежным-мусорным миром».
[Закрыть]. Но выходит из этого и в конце готов начать сначала. В этом нет никакого негатива. Мы живем в мире негативных сил, но посыл в обеих книгах, на мой взгляд, очень позитивен. Это ускользает от большинства читателей, которые говорят, что никогда не читали ничего депрессивнее. Что ж, достаточно оглядеться: в мире хватает плохого, знаете ли. Люди спрашивают, почему я не пишу милые книги со счастливыми людьми. Но что тут скажешь о счастливых людях.
Это 1981-й, когда Гэддис только начинал «Плотницкую готику». Хотя ее тоже можно описать как крестовый поход против фундаментализма, сенсационалистской журналистики и глупости всех видов, обвинения в пессимизме «Плотницкой готики», как и всех последующих работ, в некоторой степени оправданы. Позитивный посыл в последних трех романах попросту отсутствует, хотя и (снова цитируя рецензию Элдриджа на «Джей Ар»)гэддисовское «знание человечного и разумного всегда чувствуется за его изображением того, как далеко мы ушли от человечности и разума». Вскоре после выхода «Плотницкой готики» у него спросили: «Если бы ваше творчество имело позитивный социальный/политический эффект, каким бы вы хотели его видеть?» Гэддис ответил: «Очевидно, полной противоположностью того, что изображается в моем творчестве» (Интервью в Беркли). Однако его собственное мировоззрение напоминает взгляды Маккэндлесса, читающего о своей судьбе в книге, снятой с полки («Подражатели» Найпола): «Человек, полагаю, борется, лишь когда надеется, когда имеет собственное представление о порядке, когда уверенно ощущает некую связь меж землей, по которой ходит, и самим собой. У меня же было представление о беспорядке, который не под силу исправить ни одному человеку». Представление о порядке поддерживало Гэддиса на протяжении первых двух карнавалов беспорядка, но последние три романа отражают такое же мрачное представление о беспорядке, как у Поупа в конце «Дунсиады», – то, что, по словам рассказчика меллвиловского «Писца Бартлби», «проистекает от сознания, что ты бессилен излечить слишком далеко зашедший недуг» [43]43
43. Мелвилл Г., Писец Бартлби, в: Мелвилл Г., Моби Дик, или Белый кит. Повести, пер. М. Лорие, М.: АСТ, 2004.
[Закрыть].
Вместе взятые пять романов Гэддиса – одно из самых пытливых критических исследований «в чем суть Америки», эта фраза повторяется у него регулярно, начиная с «Джей Ар». Гэддис, как и Готорн, и Мелвилл до него, ведущий современный представитель в американской литературе тех, кого Лесли Фидлер называл «трагическими гуманистами»: писателем, «чей долг говорить „Нет!“, опровергать легковесные принципы, которыми живет большинство, и разоблачать тьму жизни, которую люди намеренно избегают. Для трагических Гуманистов функция искусства – не утешать или поддерживать, еще меньше – развлекать, а тревожить, рассказывая не всегда приятную правду»[44]44
44. Fiedler L., Love and Death in the American Novel, rev. edn., 1966; Normal, IL: Dalkey Archive Press, 1998.
[Закрыть]. Как и Твен в последние годы, Гэддис продолжал развлекать, пока его пессимизм укоренялся все глубже, но теперь перестал играть роль крестоносца из речи судьи Криза в предпоследнем романе: «Художник появляется среди нас не как носитель idées reçues[45]45
45. Idées reçues – конвенциональная мудрость (фр.). – Прим. пер.
[Закрыть], приемлющий искусство как украшение или религиозное утешение, увековеченное в сентиментальных открытках, а скорее как эстетический эквивалент того, кто „не мир пришел принести, но меч“».
2
«Распознавания»: миф, магия и метафора
«Распознавания», роман длиной сразу в три-четыре обычных, – это несколько книг в одной: социальная сатира, путешествие пилигрима, анатомия подделки, роман взросления и роман художника (не говоря уже о романе с ключом), философский роман и даже детектив. Повествование тоже ведется от разных персонажей и в разных стилях. Уайатт, возможно, говорит от лица Гэддиса, когда хвастается своей последней подделкой: «Нет единой перспективы, как объектив камеры, через который мы сейчас все смотрим, называя реализмом, а есть… я могу сделать пять, шесть или десять… фламандский художник, если хотел, брал двадцать перспектив, и даже маленькую картину не охватить единым взглядом, своей жалкой парой глаз». Читатель, впервые берущийся за «Распознавания», сталкивается с аналогичным вызовом. «Распознавания», охватывая три континента и три десятилетия, исследуя 4000 лет истории культуры, говоря на полдюжине языков и обращаясь к таким разнообразным областям знаний, как алхимия, колдовство, история искусства, мумификация, история медицины, агиография, мифология, антропология, астрономия и метафизика, угрожают изнурить нерасторопного читателя, которому захочется воскликнуть вместе с Уайаттом: «Но дисциплина, деталь, это просто… иногда это накопление невозможно выдержать».
«Как же ты амбициозен!» – отвечает Эстер, его жена, и амбицией Гэддиса в первом романе было как минимум раскопать самое основание западной цивилизации, пролить суровый свет сатиры на истоки ее религии, социальных строев, эпистемологий, сексуальных идеологий и видов искусства. Для этого он создал протагониста, чье тяжелое принятие своего культурного/религиозного наследия и достижение психической целостности напоминают о той ухабистой дороге, по которой к этой иллюзорной цели брела сама цивилизация. Онтогенез вторит филогенезу, и в колебаниях и тяготах Уайатта Гвайна мы видим микрокосм макрокосмических конфликтов, проходящих сквозь всю историю: патриархат и матриархат, Бога и маммону, религию и оккультизм, требования сообщества и императив личности.
«Самый чуткий человек, хотя и не самый нормальный, – писал Стивен Спендер о Консуле Малкольма Лаури, – может стать наиболее показательным образом распада, который затрагивает других людей так, как они и не задумываются»[46]46
46. Lowry M., Under the Volcano, New York: Lippincott, 1965.
[Закрыть]. И в «Распознаваниях», и в «У подножия вулкана» речь идет о распаде ценностей, нравственности, стандартов. Роман Гэддиса в основном рассказывает о личной интеграции посреди вот этой коллективной дезинтеграции; о личности в обществе, которое ускоренно теряет себя. В очевидном контрасте с уймой других персонажей «Распознаваний», безразличных к распаду ценностей (а то и служащих его причиной), Уайатт терзается личными и этическими вопросами, для остальных – умозрительными. «Границы добра и зла надо определить заново, перерисовать, – поддразнивает его Эстер его же словами, – вот чем сейчас обязан заниматься человек, да?» Но Уайатт настаивает: «Это нравственное действие, это не просто разговор и… слова, нравственность – это не просто теории и идеи, единственный путь к реальности – это нравственное чувство».
Уайатт ищет реальность преимущественно на метафизическом уровне. В основе всех религий и оккультных традиций вера в другую, высшую реальность, превыше чувственной реальности, и Уайатт, как и любой истинный мистик, алхимик и маг до него, ищет окно в это трансцендентное состояние, где внезапно «все вдруг освободилось в одно узнавание, действительно освободилось в реальность, которую мы никогда не видим». По традиции эту иную реальность (а ее «нечасто можно видеть свободно, даже почти никогда, может, всего раз семь в жизни») буквально представляют в виде заоблачных небес и подземного ада. Но Уайатт не меньше мелвилловского Ахава верит, что все видимые объекты – просто картонные маски, и книга показывает его путь через институциональную религию и жалкую театральность оккультизма, мимо миров, завоеванных и классифицированных самонадеянными учеными, к безвременному состоянию за гранью досягаемости тех, кто сделал из Бога науку или из науки – бога. Это невыразимое состояние не поддается описанию и объясняет в некоторой степени странность финальных появлений Уайатта и его загадочных высказываний; как сказал Кафка Максу Броду: «Тебе не описать спасение, им нужно жить» [47]47
47. Реакция Кафки на «Воскресение» Толстого; цитируется по биографии Кафки авторства Рональда Хаймана (Kafka: A Biography, New York: Oxford University Press, 1982).
[Закрыть].
Все это необходимо обозначить с самого начала, чтобы разобраться в сложной матрице аллюзий, отсылок, иконографии и повторяющихся образов. Ведь, хоть роман и затрагивает бренные вопросы о месте художника в современном мире (тот аспект «Распознаваний», что привлек почти все внимание критиков), в более широком плане это энциклопедический обзор многообразия религиозного опыта. В определенном смысле всех главных персонажей можно распределить по трем группам: тех, кто «переживает, или скоро переживет, или по самой меньшей мере доблестно не подпускает к себе религиозный опыт», и большинство подпадает под третью категорию. Роман переполнен религиозными и мифическими параллелями и пародиями рангом от возвышенных до кощунственных. Мало того, что в «Распознаваниях» активно используется основная палитра мифологии – образы Солнца и Луны, спуск в ад, мотивы смерти и возрождения, так и само символическое путешествие Уайатта из духовной тьмы к просвещению вторит (благодаря цитатам и аллюзиям) пути таких метафизических странников, как Одиссей, Летучий Голландец, Фауст и Пер Гюнт. О масштабах поглощенности Гэддиса религией говорит уже разнообразие источников романа: теологический труд четвертого века (который ошибочно приписывают святому Клименту и от которого «Распознавания» получили свое название), новозаветные апокрифы, «Книга мучеников» Фокса, «Молот ведьм» Крамера и Шпренгера, «Псалтирь паломников», «Архитектура, мистицизм и миф» Летаби, «Золотая ветвь» Фрэзера, «Митраизм» Фитиан-Адамса, «Магия и религия» Лэнга, «Предшественники и враги христианства» Легга, «Магия, миф и мораль» Конибера, «Средневековые и современные чудеса и святые» Марша, «От ритуала к романтике» Уэстон, «Физический феномен мистицизма» Саммерса, «Белая богиня» Грейвса, «Колдовство» Хьюза и исследование атеизма в книге Сальтуса «Анатомия отрицания». Помимо них, в книге больше сотни цитат из Библии и упоминаний почти всех важных религиозных и оккультных традиций: «Древнеегипетская Книга мертвых», практики друидов, писания ранних Отцов Церкви, Коран, легенды о Кришне и Будде, размышления гностиков, митраистские гимны, «Духовные упражнения» святого Игнатия, герметическая алхимия, жития святых объемом на целый календарь, христианская наука, гипотезы Форта, магические числа, молитвенные трости индейцев зуни, обряды отлучения (как католические, так и еврейские) и даже призывы Сатаны [48]48
48. Список всех источников Гэддиса можно найти в моем Reader’s Guide to William Gaddis’s “The Recognitions” (1982), а также с дополнительными материалами – на веб-сайте Gaddis Annotations. Возможно, первоначально обогатить повествования научными отсылками и аллюзиями Гэддиса вдохновили примечания Т. С. Элиота к «Бесплодной земле», где названы несколько тех же книг (Фрэзер, Уэстон).
[Закрыть].
Из-за всего этого некоторые рецензенты жаловались, что роман «окутан мистикой» и полон «языческого мумбо-юмбо»[49]49
49. См. раздел о «клише эрудиции» в: Green J., Fire the Bastards!, 1962. Rpt. with an introduction by Steven Moore, Normal, IL: Dalkey Archive Press, 1992.
[Закрыть]. Однако Гэддис не просто разбрасывается эзотерическими терминами; религия, подобно искусству, подвержена упадку и подделке, и одержимость Уайатта настоящим искусством неразрывно связана с его одержимостью настоящим религиозным опытом. И там, и там нужно отличать подлинное от поддельного. Институциональная религия не рассматривается в романе всерьез, она отметается сходу, как неумелая подделка или плохо напечатанная репродукция. Эсме говорит Отто о словах Уайатта, «что святые были подделками Христа, а Христос – подделкой Бога», и наиболее традиционные формы религии в романе нещадно высмеяны. (Здесь, конечно, пути Гэддиса с Элиотом расходятся, хотя в своей общей увлеченности религией они совпадают.) Взамен Уайатт находит в мифе, магии и мистицизме более настоящую религиозную традицию – «религиозную в плане преданности, обожания, почитания божества, пока религию не усложнили системы этики и морали и она не стала болезненным недугом для того самого, что когда-топревозносила». Это отношение скорее ближе к Паунду в поздних «Кантос», чем к Элиоту в «Четырех квартетах».
Но роман не призывает отойти от рациональной религии к иррациональному мистицизму или отбросить четки и взять буддистский молитвенный барабан. В «Распознаваниях» хватает сверхъестественного, но в основном огромная сеть отсылок к мифам, религии и оккультизму используется в психологических целях. Карл Юнг в подобных духовных традициях нашел подтверждение для своей теории индивидуации, и известное обращение Гэддиса к «Интеграции личности» Юнга – этому философскому комментарию к алхимическому символизму – позволяет читателю трактовать «дикий конфликт» Уайатта как поиск той самой психической целостности, в которой Юнг видел центр всех мистических традиций. С теориями Юнга в качестве нити Ариадны читатели проберутся по гэддисовскому лабиринту магии и мифа к итогу сколь удивительному, столь и просвещающему; возможно, даже позволяющему «Распознаваниям» работать как эвристическому, символическому тексту в традиции алхимических трактатов, а самому Гэддису – сменить Мелвилла на месте «наследника протестантской традиции Новой Англии, пародирующего с поразительным провинциальным пылом старые знаковые рассуждения Коттона Мэзера и Джонатана Эдвардса»[50]50
50. Beaver H., Introduction to Melville’s Moby-Dick, New York: Penguin, 1972.
[Закрыть].
Гэддис добивается всего этого, рассказывая о карьере Уайатта в двух параллельных планах – реалистическом и мифологическом. В реалистическом говорится об «одиноком маленьком мальчике, которого расстраивают глупые люди». В раннем возрасте потеряв мать, Уайатт воспитывается в Новой Англии отстраненным отцом и – в первую очередь – суровой тетей-кальвинисткой, не поощряющей его талант к рисованию, чтобы он выбрал карьеру священнослужителя. Уайатт ответственно занимается последним, втайне практикуя первое, и после года в школе богословия сбегает в Европу изучать живопись. Безразличный к преобладающей моде в мире искусства 1930-х, Уайатт работает в традиции фламандских художников позднего средневековья, но допускает неприятную встречу с продажным критиком, которая отбивает у него всю охоту к живописи. Погружаясь в бесплодный брак и скучную работу чертежника в Нью-Йорке, Уайатт прожигает свой художественный талант, пока галерист Ректалл Браун, найдя его в глубоком отчаянии, не искушает молодого человека подделывать картины фламандцев – их подлинность будет подтверждать в художественных журналах его партнер Бэзил Валентайн, и все трое получат долю. Но позже Уайатт из-за нарастающего чувства вины и уверенности в вечном проклятии решает отказаться от подделок и продолжить учиться для служения церкви – впрочем, этот отчаянный шаг проваливается, когда он возвращается домой и находит отца в невменяемом состоянии. Он вырывается из банды фальсификаторов, только когда становится свидетелем смерти Брауна и причиной смерти Валентайна (по крайней мере, как ему кажется), после чего улетает в Испанию, где похоронена его мать. Скитаясь по Испании и Северной Африке, он попадает в монастырь в Эстремадуре, где наконец может освободиться от чувства вины, одиночества и депрессии, копившихся у него с детства. Возможно, он вернется к живописи или просто к своей испанской возлюбленной, чтобы растить их ребенка, – это остается за рамками истории, когда Уайатт, теперь под именем Стивен (как изначально намеревалась назвать его мать), возобновляет путешествие под звон монастырских колоколов[51]51
51. Я был с Гэддисом в 1985-м, когда его спросили, как произносится фамилия Gwyon, и он ответил, что до этого никогда не задумывался об этом и не произносил ее вслух. В интервью 1988 года он произносит «Гвайн» – одним слогом, рифмующимся с wine («вино»), хотя валлийская фамилия, скорее всего, должна произноситься «Гвин» (см. Современную фамилию «Гвинн»).
[Закрыть].
Но в мифологическом плане путь Уайатта принимает несколько форм: он – адепт герметической алхимии, фаустовская фигура, современный святой, жрец древнего культа-ритуала Белой богини и ее Сына, архетип Вечного жида/Летучего Голландца, персонаж жертвоприношения королевского сына, Христос/Данте/Орфей в преисподней – даже новогодний Робин-малиновка, что должен убить своего отца Королька. В этом Гэддис и правда напоминает Джойса: «постоянно выдерживая параллель между современностью и античностью», Джойс, по словам Элиота, нашел «способ взять под контроль, упорядочить, наделить формой и значением необозримую панораму пустоты и анархии, каковой является современная история»[52]52
52. Элиот Т. С., «Улисс», порядок и миф, пер. Ю. Комова, Иностранная литература, 1988, № 12.
[Закрыть]. Гэддис следует тому же мифическому методу с не менее интригующими результатами.
МАСКИ И ЗЕРКАЛА
«Даже Камилле нравились маскарады, – начинаются „Распознавания“, – безобидные, когда маски могут быть сброшены в критический момент, что мнит себя реальностью». Но Гэддиса в основном заботят опасные маскарады, где маска выдает себя за реальность так долго, что «реальность», как отмечал Набоков, уже требует извиняющихся кавычек. «Как какой-то маскарад да – восклицает Хершел в сцене первой вечеринки. – Я чувствую себя таким голым, а ты? среди всех этих людей в страшных масках. Помнишь? де Мопассан, Ги де Мопассан конечно же, писал той русской: „Я маскируюсь среди масок“». Хершел, впрочем, один из немногих в романе может распознать маску; остальные так привыкли к своим, что только случайный взгляд в зеркало напоминает им о себе.
Маски и зеркала доминируют в символике романа. Им свойственно то психологическое значение, о котором писал Юнг в «Интеграции личности»: «Тот, кто смотрит в зеркало вод, видит прежде всего собственное отражение. Идущий к самому себе рискует с самим собой встретиться. Зеркало не льстит, оно верно отображает то лицо, которое мы никогда не показываем миру, скрывая его за Персоной, за актерской личиной. Зеркало указывает на наше подлинное лицо»[53]53
53. Юнг К. Г., Об архетипах бессознательного, в: Юнг К. Г., Архетип и символ, пер. А. Руткевича. М.: Ренессанс, 1991.
[Закрыть]. Уайатта, «того нам знакомого и весьма сомнительного созерцателя зеркал», на протяжении всего романа заботят «тайны катоптрического причастия», и он избегает встречи с самим собой, о которой предупреждал Юнг. Тогда как для других зеркало служит простым подтверждением желаемого, Уайатту оно показывает истинное «я», стать которым ему не по силам – отчасти из-за неразрешенных семейных конфликтов. «Это зеркала со страшными воспоминаниями, – говорит Эсме о зеркалах в мастерской Уайатта, – и они знают, знают, и рассказывают ему страшные вещи и потом запирают его в себе».
Самые ужасные вещи, рассказанные ему зеркалами, – это обвинения в том, что он опозорил мать и хочет убить отца. Первое обвинение Уайатт болезненно осознает и признает; разговаривая о лице Камиллы на сделанной им подделке Stabat Mater[54]54
54. Скорбящая мать (лат.). – Прим. пер.
[Закрыть], Уайатт соглашается с интерпретацией Валентайна: «Да, укор! Именно, понимаешь?» Однако эдипов конфликт возникает только при внимательном изучении птичьей символики романа – он спрятан в тексте так же глубоко, как и в подсознании Уайатта. Из книг Роберта Грейвса Гэддис узнал, что «судя по британскому фольклору, красногрудый Робин-малиновка, как Дух Нового Года, выходит с березовым прутом убить своего предшественника, королька золотоголового, Духа Старого Года, который прячется в плюще. […] Говорят, Робин-малиновка „убил своего отца“, естественно, из-за его красной грудки»[55]55
55. Грейвс Р., Белая богиня, пер. В. Ахтырской. М.: Иностранка, 2015
[Закрыть]. В другом месте Грейвс называет валлийскую Арианрод (одну из его белых богинь) «матерью обыкновенного Священного Младенца-рыбы Далана, который, убив обыкновенного Королька (как это делает новогодний Робин-малиновка в день святого Стефана), становится Хлевом Хлау Гафесом», валлийским героем, с которым Уайатт ассоциирует себя. «Меткость маленького Хлева Хлау заслужила похвалу его матери Арианрод, потому что, подобно Новогоднему Робину, alias Белину, он пронзил стрелой своего отца Королька, то есть Брана, которому была посвящена птица королек, „между сухожилием и костью“ ноги», наподобие римского ритуала распятия[56]56
56. Там же, стр. 261. Когда Уайатт осматривает мертвого Ректалла Брауна, он хватает его оголенную лодыжку, пытаясь нащупать пульс, и бормочет: «Да, вот где убили королька, вот где его распяли…». «Он был таким добрым и отеческим» – говорит Уайатт ранее в приступе пьяной сентиментальности, указывая, что Браун тоже участвует в его эдиповой драме.
[Закрыть].
Уайатт ассоциируется с малиновкой как через Хлева Хлау, так и благодаря своему первому произведению – грубому рисунку малиновки, который резко раскритиковала тетя Мэй. Мальчик убил королька не на день Святого Стефана – хотя то, что убил он его камнем, напоминает избиение камнями того протомученика, в честь которого хотели назвать Уайатта, – и, что примечательно, в день рождения своей матери. Не в силах признаться в «убийстве» из-за чувства вины, он не может сдержаться во время горячки пару лет спустя, – и его ошарашенный отец отвечает, демонстрируя антропологические познания из «Золотой ветви» Фрэзера, чем обозначает свою осведомленность о символическом смысле этого акта отцеубийства. Когда уже повзрослевший Уайатт возвращается к отцу в II.3 за пару дней до Рождества, он видит королька, и тот напоминает ему о его проступке:
Я выйду, как первые христиане на Рождество, чтобы найти и убить королька, да, когда королек был королем, помнишь, ты мне рассказывал… Когда королек был королем, повторил он, переводя дыхание, – на Рождество.
Королек улетел, когда он отвернулся от окна и подошел, вперив горящие зеленые глаза в Гвайна. – Король, да, повторил он, – когда король убит и съеден, это причастие. Это причастие.
Глаза Уайатта горели зеленым пламенем в детстве, когда он впервые признался в убийстве королька. Это же повторилось, когда он вернулся домой спустя годы (второе пришествие, как это интерпретирует глубоко верующая служанка Джанет), этот признак ярости следует за угрожающей цитатой Уайатта из Матфея 10:21: «И восстанут дети на родителей, и умертвят их». Гнев на преподобного Гвайна, похоже, возник из неотчетливого подозрения Уайатта, что отец каким-то образом в ответе за смерть матери. Мальчик только знает, что отец отправился в Испанию вместе с матерью, а вернулся один. И хотя повзрослевший Уайатт узнает об «испанском деле» (как отец называет произошедшее), это подозрение присоединяется к остальным ужасам, таящимся в зеркале.
Еще Уайатт действует в целях самообороны. Преподобный Гвайн размышляет над главой «Принесение в жертву сына правителя» из «Золотой ветви» Фрэзера, а тетя Мэй упорно навязывает Уайатту религию, основанную на принесении в жертву отцом своего единственного сына. (Отцовскую угрозу символизирует опасная бритва, которую Уайатт забирает у отца, когда уезжает в Европу; Эстер расценивает это как символ кастрации, и позже Ансельм украдет ее именно для этого.) В последний раз подсознательные страхи смерти и/или кастрации от рук отца возникают, когда преподобный Гвайн грозит Уайатту сделать его жрецом Митры, в которого теперь уверовал обезумевший священник: «Да, от моих рук, – сказал Гвайн, ровно глядя на него, – ты должен умереть от рук Pater Patratus[57]57
57. Pater Patratus – звание в римской жреческой коллегии фециалов. – Прим. пер.
[Закрыть], как все адепты». Уайатт сбегает, но не без новой вины. Позже, рассказывая Валентайну о поездке домой, он говорит: «Я упал в снег, убивая корольков»; а бросив безумного отца, Уайатт может быть косвенно виноват в его тюремном заключении и последующем распятии в II.9 – прямо как малиновка Хлев Хлау символически распял отца-королька.
Повторяющиеся отсылки к конфликту малиновки и королька, убийству короля («Мой отец был королем», – говорит Уайатт/Стефан под конец романа), различным мифам о «боге убитом, съеденном и воскрешенном», художественное использование лица Гвайна для ранней картины – имитации картины Герарда Давида «Сдирание кожи с продажного судьи» в стиле Мемлинга и символизм убийства отца в день рождения матери – все это указывает на классический случай эдипова комплекса. Наконец, «съев» своего отца в III.5 – прах преподобного Гвайна послали в испанский монастырь и случайно запекли в хлебе, – Уайатт завершает жертвоприношение. Когда он не обращает внимания, что нарисованная голова отца падает на землю, конфликт разрешается, а кошмарные голоса из зеркала наконец замолкают.
Фрэзер дополняет рассказ о суевериях, связанных с зеркалами (чем пользовался Гэддис), такими же суевериями о портретах: так, они «содержат в себе душу изображенного лица»[58]58
58. Фрэзер Д., Золотая ветвь, пер. М. Рыклина, М.: Академический проект, 2017.
[Закрыть]. Лица (если не души) большей части важных персонажей либо запечатлены на холсте, либо сравниваются с картинами. С преподобного Гвайна, как отмечалось выше, сдирают кожу в облике продажного судьи на ученической картине Уайатта; Эстер напоминает «портрет женщины с крупными костями лица, но непримечательным носом», который реставрирует ее муж; над нелепым портретом Ректалла Брауна постоянно насмехаются; Ансельм и Стэнли напоминают репродукцию Кете Кольвиц, на которой двое заключенных слушают музыку; Эсме не только «думает, что сама и есть картина. Картина маслом, на которую и дохнуть нельзя», но и позирует, как Дева Мария для уайаттовских подделок, а сам Уайатт принимает роль распятого Христа: Сын, оплакиваемый Матерью.
«Похоже, подобные картины имеют эффект психологической магии для пациента, – пишет Юнг о подопечном, который тоже пользовался живописью для достижения индивидуации. «Потому что выраженное через рисование способно исправить некоторые подсознательные детали и обрисовать остальные вокруг него, что в этом плане для него похоже на магию, только над собой»[59]59
59. Юнг К. Г., Психология и алхимия, пер. С. Удовика, М.: АСТ, 2008.
[Закрыть]. Сознательные и эстетические конфликты Уайатта с искусством уже рассматривались в критике[60]60
60. В особенности см. статьи To Soar in Atonement: Art as Expatiation in Gaddis’s “The Recognitions” Джозефа С. Салеми и Flemish Art and Wyatt’s Quest for Redemption in William Gaddis’s “The Recognitions” Кристофера Найта. Обе переизданы в In Recognition of William Gaddis Кюля и Мура, как и первая глава Hints and Guesses Найта.
[Закрыть], но для дальнейшего понимания его бессознательного конфликта и важности появлений матери в картинах сына необходимо разобрать другой мифический символ.

Уильям Гэддис в Испании, фотография 1950 года, времен работы над «Распознаваниями» (фото из личного архива Стивена Мура)