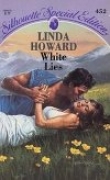Текст книги "Уильям Гэддис: искусство романа"
Автор книги: Стивен Мур
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 21 страниц)
ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО ЗАДУМОК, ЗАИМСТВОВАНИЙ, ОБМАНОВ
Более важное значение названия раскрывается в конце книги. В неловкий момент последнего разговора с Лиз Маккэндлесс рад возможности обсудить нейтральную тему – архитектуру дома в стиле плотницкой готики:
– А дом да, дом. Он так построен да, он построен чтобы на него смотрели снаружи такой, такой был стиль, заговорил он, резко спасенный от неуверенности, всплывая к поверхности – да, у них были книги о стилях, у деревенских архитекторов и плотников здесь все вторичное да, эти грандиозные викторианские особняки со множеством комнат и огромной высотой и куполами и чудесным замысловатым литьем. Вдохновлялись средневековой готикой но у бедных работяг ничего не было, ни камней ни кованого железа. Только старые простые надежные материалы, древесина да молотки да пилы да собственная неуклюжая изобретательность свели все оставшиеся от мастеров грандиозные фантазии до человеческого масштаба […] лоскутное одеяло задумок, заимствований, обманов, внутри мешанина из благих намерений будто последняя нелепая попытка сделать то что стоит делать пусть даже в таких мелких масштабах…
Если отбросить самоуничижительный тон – все-таки Гэддис не «деревенский архитектор» с лишь «неуклюжей изобретательностью», – это с легкостью послужит заодно и описанием самой «Плотницкой готики». Гэддис нашел «простые надежные старые материалы» в том, что назвал одному из интервьюеров «скрепами» традиционной литературы, и поставил перед собой задачу: «То есть скрепы в виде расшатанного брака, обязательной измены, запертой комнаты, таинственного незнакомца, старшего мужчины и молодой женщины, – взять все это и заставить работать». В дополнение к этим основным скрепам сюжет зависит от скреп определенных конвенций. «Лоскутное одеяло задумок, заимствований, обманов» Гэддиса объединяет под одной крышей целый ряд жанров: готический роман, апокалипсис, любовную романтику, упражнения в метапрозе, колониальный роман, политический триллер, документальный реализм, историю ветеранов и то, что Рой Р. Мейл называет «замкнутой» литературой, а также элементы греческой трагедии и диккенсовской социальной сатиры. Каждый жанр – комната, втиснутая в дом произведения, маленькое изобретение (только по сравнению с первыми двумя романами) большой изобретательности.
Как говорит Маккэндлесс, дома в стиле плотницкой готики задумывались так, чтобы смотреть на них снаружи, и, следовательно, проектировались с упором на внешнюю симметрию, даже если получались такие обманы: «Над парными окнами так близко, будто выходят из одной комнаты, но на самом деле из ближайших концов двух разных, и обе толком не обставлены, пустой книжный шкаф да просевший диван в одной и в другой выпотрошенный шезлонг в волютах французской претенциозности с раскинутым в непотревоженной пыли на полу золотым бархатом с тех самых пор, как она там была, может три-четыре раза за все время проживания в этом доме…». (Отметим, как точно это отражает отношения Пола и Лиз: живущие под одной крышей, они тем не менее разделены стеной разногласий, его интеллектуальная несостоятельность и похоть переданы в виде пустого книжного шкафа и просевшего дивана, ее денежное происхождение и претензия на культурность разоблачены шезлонгом, – оба «толком не обставлены» ни культурой, ни вкусом, ни образованием.) Роман соответствует строгим аристотелевским единствам: действие разворачивается в едином хронотопе, судя по внутренним указаниям, – в октябре-ноябре 1983 года[190]190
190. Единственной нестыковкой в хронологии романа можно считать газетный заголовок у Лиз на странице 28, который в действительности находился на главной странице газеты New York Tmes 25 июля 1980 года, а не 1983-го. Но в «Его забаве» Гэддис задним числом указывает, что события романа произошли в 1985 году (см. Следующую главу).
[Закрыть]. Семь глав романа уравновешены в почти идеальной симметрии: действие первой происходит на закате, последней – на восходе; вторая и шестая начинаются с того, что Лиз поднимается на холм у реки; конец третьей словесными повторами связан с началом пятой; центральная глава, четвертая, повествует о Хэллоуине и включает долгий разговор Маккэндлесса и Лестера, обеспечивая большую часть исторического фона для современных событий в остальном романе – назовем это центральным отоплением гэддисовской «Готики».
Готический роман – это, безусловно, самый очевидный жанр Гэддиса в «Плотницкой готике», адаптированный в наибольшем количестве его сценических свойств: изолированный «особняк», запертая комната, «дева» в опасности, таинственный незнакомец и даже колдовское время года, позволяющее отсылать к призракам Хэллоуина и дому с привидениями. Взгляд воина-масая на обложке журнала следует за Полом так же жутко, как движущиеся глаза на старом портрете, а Лиз в нечестивые часы между Днем всех святых и Днем поминовения видит во сне предсказание смерти. Будучи пародией на старые готические романы, «Плотницкая готика» также включает длинные цитаты из «Джейн Эйр» – пародии Шарлотты Бронте на еще более старые готические романы[191]191
191. Как я отметил в первой главе, «Джейн Эйр» – вынужденная замена «Потерянного горизонта» Хилтона, но по всем отсылкам, уже включенным в «Плотницкую готику», очевидно, что Гэддис планировал написать пародию на готический роман задолго до того, как столкнулся с этой проблемой. См. «Письма», где он заявляет о предпочтении «хилтоновской» версии своего романа.
[Закрыть].
Готический антураж не был чем-то новым для Гэддиса. Главы «Распознаваний» о Новой Англии тоже поскрипывают от готических механизмов: священник-еретик, штудирующий странные тома забытых преданий, сумасшедшая прислуга, сверхъестественные статуи, призраки, нависшая над пустынным пейзажем мрачная атмосфера, и то же притяжение/отторжение, что чувствовали предыдущие поколения творцов готики к итальянизированному католицизму. Не нов и готический стиль в американской литературе. Лесли Фидлер в книге «Любовь и смерть в американском романе» провел огромную работу, чтобы продемонстрировать, что готика – наиболее характерная форма классической американской литературы. Вслед за недолгим затишьем после призраков Джеймса и Уортон этот жанр в современной американской литературе разошелся в двух направлениях: южная готика Фолкнера, О’Коннор и раннего Капоте; и «супермаркетовая готика», которую остроумно охарактеризовал Александр Теру (в своем прекрасном готическом романе «Кот Дарконвилля») как «конечно же, жанр худу, халтуры и гиперестезии, где на популярной суперобложке всегда изображался ветхий особняк в лунном свете и стоящая перед ним испуганная красавица с распущенными волосами в ночнушке, не знающая, куда ей деваться»[192]192
192. Theroux A., Darconville’s Cat, Garden City, NY: Doubleday, 1981.
[Закрыть]. У новоанглийской готической традиции Готорна и Мелвилла маловато последователей среди серьезных современных писателей, не считая Джуну Барнс, раннего Хоукса, кое-чего из Пинчона и случайных аномалий (вроде «Доктора Сакса» Керуака или «Чудища Хоклайнов» Бротигана), хотя в последние годы жанр так называемой Новой готики влил в старый остов свежую кровь.
Зачем Гэддису возрождать этот устаревший жанр в технологичных 1980-х? Отчасти из-за самого вызова поработать с исчерпавшим себя жанром (как в целом это любят Барт, Кувер, Соррентино и Воллманн и как конкретно с готикой это сделала Джойс Кэрол Оутс), но в основном потому, что готические «символы и значения», как указывает Фидлер, «основаны на осознании духовной изоляции индивида в обществе, где все общественные системы ценностей рухнули или превратились в бессмысленные клише». Физическая изоляция Лиз и интеллектуальная изоляция Маккэндлесса подчеркивают, до какой степени они оба утратили ту связь между собой и миром, о которой Маккэндлесс читает в романе В. С. Найпола (цитируется в конце моей первой главы). Со всей неугомонностью Джейн Эйр, но без ее независимости, Лиз – преследуемая дева в готической мелодраме: «Если чувствуешь себя гвоздем все вокруг кажется молотком», – признается она Маккэндлессу, переворачивая его же высказывание о фундаменталистах. У Лиз, психологически замурованной в башне плотницкой готики, выбор между Полом и Маккэндлессом сводится к тому, чтобы «быть пленником чужих надежд [… или] быть пленником чужого отчаяния». В конце концов Лиз и погибает в этой тюрьме наперекор счастливому концу (или возвращению к нормальности) большинства готических произведений.
У Маккэндлесса много общего с традиционным готическим героем-злодеем – смесью Фауста, Дон Жуана и Вечного жида. Все они, как утверждает Фидлер, представляют «одинокого человека (самого писателя!), бросающего вызов нравам буржуазного общества, раскрывая людям очевидный „секрет“, что принципы, по которым они живут, – это архаические пережитки, лишенные смысла и силы». Маккэндлесс считает, что христианство – это именно такой архаичный пережиток, но его попытки разоблачить нескрываемые христианские секреты милитаризма, женоненавистничества и суеверия потерпели неудачу. Когда его призвали давать показания на суде над креационистами в Смэковере, аналогичном тому, что проходил в Арканзасе в декабре 1981 года, он узнал, что фундаменталисты не просто невежественны (несведущи), но к тому же глупы (враждебны знаниям) и наследуют антиинтеллектуальной традиции в Америке, о которой писал Ричард Хофштадтер. Маккэндлесс – своего рода интеллектуальный герой, но в то же время злодей. Он надеется привести свой дом в порядок, как рассказчик Элиота в конце «Бесплодной земли», но ему удается лишь сеять смуту и хаос. Он несет косвенную ответственность не только за смерть Билли, но и не меньше любого другого – за ядерную войну, которая нависает на последних страницах романа. Зная о рудниках, он утаивает эту информацию – отчасти потому, что ему не поверят, отчасти из-за желания готического злодея увидеть, как коррумпированная цивилизация горит в огне. Лиз бросает ему именно это обвинение во время своей самой длинной и мощной речи:
Она поставила стакан, – чтобы смотреть как они отправятся на небо будто дым в этой самой печи все глупые, невежественные, взлетели от взрывов в облака а там никого, никакого вознесения ничего просто чтобы они все исчезли это на самом деле ты, правда же. Что это ты хочешь апокалипсис, Армагеддон чтобы погасло солнце и море стало кровью ждут не дождутся нет, это же ты ждешь не дождешься! Сера и огонь и твой Разлом как в день когда это произошло на самом деле потому что они, потому что ты презираешь их, не глупость нет, их надежды потому что у тебя нет своих, потому что у тебя не осталось своих.
Ссылки на Апокалипсис и Армагеддон ближе к концу романа указывают на пересечение готики с другим жанром – апокалипсисом. Готика развилась из позднесредневековой романтики, а апокалипсис восходит к более древним религиозным писаниям и мифографии, говоря нам о том странном факте, что космическая катастрофа была страхом и надеждой почти каждого общества – страхом вымирания, каким бы заслуженным оно ни было, и надеждой на очищение, еще одним шансом начать заново. Писатель использует литературный апокалипсис для осуждения общества – это еретическое желание разрушить то, что создал Бог. Бог сказал «Да будет свет»; апокалиптический писатель, подобно Мелвиллу в конце «Маскарада», свет гасит.
В отличие от современной литературы других стран, у американской есть сильная, почти навязчивая апокалиптическая традиция. Первый «бестселлер» в ней – длинная поэма Майкла Вигглсворта «Судный день» (The Day of Doom, 1662), а один из первых американских романов, лихорадочный «Ормонд» Чарльза Брокдена Брауна (Ormond, 1799), изображает апокалиптическую Филадельфию. С тех пор большинство наших крупных романистов адаптировали этот жанр: Готорн, Мелвилл, Твен, Фолкнер, Уэст, О’Коннор, а из современников Гэддиса – Эллисон, Барт, Болдуин, Берроуз, Пинчон, Воннегут, Кувер, Элкин, Марксон, Маккарти и Делилло. Соблазнительно разделить их на два традиционных апокалиптических лагеря – оптимистичный и отчаявшийся, но многие писатели демонстрируют оба настроя: «Моби Дик» оптимистичен (Измаил выживает в катастрофе), а «Маскарад» – отчаянный (за этим маскарадом не следует ничего).
Как и Мелвилл, Гэддис написал оба варианта: Стэнли сочиняет Die irae, Уилли говорит о «доктрине последних вещей», а Куветли предупреждает гостей вечеринки Брауна: «Мы только в прошлом году вступили в период последнего горя». «Распознавания» – это безусловно апокалипсис, но, поскольку Уайатт выжил в культурном коллапсе, который уничтожает остальных персонажей, роман можно назвать обнадеживающим – отсюда отречение Гэддиса от апокалиптических намерений в интервью, процитированном в конце первой главы. Но в «Плотницкой готике» оба апокалипсиса противопоставлены друг другу: Уде и его последователи явно рассчитывают на оптимистичный апокалипсис, чтобы насладиться «пикником на облаках в космическом веке», в то время как остальные лихорадочно обращаются к нашему «Справочнику по выживанию» и, следовательно, интерпретируют все признаки культурного упадка через призму Книги Откровения. Маккэндлесс интерпретирует эти признаки в отчаявшемся апокалиптическом характере твеновского «Таинственного незнакомца» и других его поздних произведений. И все же Маккэндлесс – сам таинственный незнакомец с нигилистическим взглядом, такой же отчаявшийся, как дьявол Твена. Христианское прочтение «Плотницкой готики» разоблачит в Маккэндлессе антихриста романа, сеющего отчаяние и беспорядок всюду, куда бы он ни пошел. (Читатели-христиане могут даже найти соответствия между семью главами романа и семью печатями в Откровении.) Хотя признаки и интерпретирующие контексты, в которые мы их помещаем, – тоже темы романа, именно они относятся к стилистическим «обманкам» «Плотницкой готики» и не должны рассматриваться всерьез.
И Маккэндлесса, и Уде можно считать частично ответственными за буквальный апокалипсис в конце романа – «10 000 ДЕМО-БОМБ У ПОБЕРЕЖЬЯ АФРИКИ ВОЕННЫЕ НОВОСТИ, ФОТОГРАФИИ НА СТРАНИЦЕ 2», но единственный грех Маккэндлесса – это грех упущения, а у Уде – более фатальный «грех допущения». Как Тод Хакетт в «Дне саранчи» Натанаэла Уэста(с ним у «Плотницкой готики» тональное сходство), Гэддис представляет фундаменталистское «неистовство с уважением, сознавая его страшную анархическую силу, сознавая, что у них хватит пороха разрушить цивилизацию»[193]193
193. Уэст Н., День саранчи, пер. В. Голышева, СПб: ИД Ивана Лимбаха, 2001.
[Закрыть]. Хотя сами американские фундаменталисты кажутся неспособными на большее, чем закрывать клиники для абортов, переписывать учебники и изымать нежелательные книги из школьных библиотек, на протяжении романа они ассоциируются с правыми политиками, чей параноидальный стиль политики, как назвал его Хофштадтер, действительно может помочь воплотить их апокалиптические чаяния. Фундаментализм или параноидальная политика характерны не только для Америки; как утверждает Маккэндлесс в разговоре с Билли:
Величайший источник гнева есть страх, величайший источник ненависти есть гнев и величайший источник всего этого вместе взятого есть безмозглая явленная религия куда ни глянь, сикхи убивают индуистов, индуисты убивают мусульман, друзы убивают маронитов, евреи убивают арабов, арабы убивают христиан а христиане убивают друг друга может в этом и есть наша единственная надежда. Берешь порожденную первородным грехом ненависть к себе обращаешь против своих соседей и может достаточно сект вырежет друг друга от Лондондерри до Чандигарха чтобы покончить со всей этой проклятой чушью…
Все это только обострилось за тридцать лет с момента публикации романа. Миру и роману для противодействия ненависти и полемике нужна любовь или как минимум романтический сюжет. Но и там и там возможности для любви ограничены.

Уильям Гэддис и Стивен Мур, 1987 год (фото из личного архива Стивена Мура)
Рабочим названием «Плотницкой готики» Гэддиса было «То время года. Любовный роман» и, подобно «готике» в финальном названии, у «любовного романа» тоже много значений. Как жанр он имеет много общего с готикой; по сути, готика в значительной степени – это любовный роман, доведенный до опасной крайности. Однако в нем больше внимания уделяется живописным, идиллическим и более традиционным формам любви. (В готике любовь ближе к похоти или извращению.) Готика и любовный роман «претендуют на определенную свободу» от таких ограничений реализма, как жизненность и достоверность, писал Готорн в знаменитом предисловии к своему «Дому о семи фронтонах» – еще одной сказке с готическим домом и тяжелым семейным наследием, и Гэддис всегда претендовал на эту свободу.
«Плотницкая готика» демонстрирует равнодушие любовного романа к строгому реализму: как и в «Джей Ар», события развиваются неправдоподобно быстро; в многочисленные совпадения невозможно поверить; чрезмерно выделен негатив, неуместный в реалистическом романе. Когда Пол открывает газету, «не опрокинув бутылку», рассказчик обращает внимание на это редкое событие, потому что в других местах никто не может взять ничего, не сметя какой-нибудь стакан, стоящий поблизости; никто не может ничего приготовить, не пережарив; никто не может включить радио без того, чтобы услышать неприятную новость; чеки задерживаются, а счета приходят быстро; легковые и грузовые автомобили постоянно ломаются, автобусы стоят в пробках; часы, газеты, даже словарные определения ненадежны; «Плотницкую готику» терроризирует закон Мерфи, когда все, что может пойти не так, идет не так – и обычно в самый неподходящий момент. Готорн настаивает, что автор любовного романа «может управлять атмосферой таким образом, чтобы выявить или смягчить свет, углубить и обогатить тени картины», и Гэддис занимается последним так яростно, что «Плотницкая готика» присоединяется к «Последнему повороту на Бруклин» Селби и «Небесным изменениям» Соррентино как один из самых мрачных романов современной американской художественной литературы. Даже юмор здесь – и тот черный.
Лишь недолгие отношения Маккэндлесса и Лиз привносят свет в роман. В них Гэддис переходит от готорновского любовного романа к арлекиновскому, пуская в ход все клише из учебника стилей: скучающая домохозяйка-дебютантка, мужчина старше с экзотическим прошлым, неизбежная супружеская измена, возрождение упомянутой дебютантки после ночи в объятьях мужчины, отчего она вздыхает и говорит без доли иронии: «Поразительно быть живой, правда…». Есть даже предложение увезти ее в дальние страны и исполненное чувства долга решение остаться с мужем, хотя зачем, сформулировать она не может; вторя Стелле в «Трамвае „Желание“» Уильямса, Лиз может только сказать: «Просто, я не знаю. Что-то происходит…».
Гэддис оправдывает эти клише, осуществляя над ними гораздо более строгий художественный контроль, чем обычно, тщательно интегрирует их в структуру образов и литературных аллюзий романа. Каждый жанр, адаптируемый Гэддисом, опирается на классический текст: готика – на «Джейн Эйр», апокалипсис – на Книгу Откровения (самый цитируемый библейский текст в романе), а рабочее название произведению дал любовный романс – в виде шекспировского сонета:
То время года видишь ты во мне,
Когда один-другой багряный лист
От холода трепещет в вышине —
На хорах, где умолк веселый свист.
Во мне ты видишь тот вечерний час,
Когда поблек на западе закат
И купол неба, отнятый у нас,
Подобьем смерти – сумраком объят.
Во мне ты видишь блеск того огня,
Который гаснет в пепле прошлых дней,
И то, что жизнью было для меня,
Могилою становится моей.
Ты видишь все. Но близостью конца
Теснее наши связаны сердца![194]194
194. Шекспир У., Сонеты, пер. С. Маршака, М.: АСТ, 2022.
[Закрыть]
Когда Лиз вторит заключительному куплету сонета, сказав Маккэндлессу в конце романа: «Кажется я любила тебя когда поняла что больше никогда тебя не увижу», она бессознательно завершает серию отсылок к сонету, которая начинается с первой страницы. На самом деле сонет описывает многое из романа: осенняя и преимущественно ночная обстановка, повторяющиеся упоминания голых веток и желтых листьев за окном и камина – холодного, пока не прибывает Маккэндлесс, чтобы разжечь его, и, конечно, отношения между мужчиной и его молодой возлюбленной. Большую часть образов романа также можно найти в сонете. В тех редких случаях, когда персонажи Гэддиса замолкают, диалоги уступают место роскошным описаниям умирающего пейзажа, подражающим своим узловатым строением переплетению лоз, ветвям и опавшей листве и столь же красочным, как и та природа, о которой они рассказывают.
О метафорическом сопоставлении осени и позднего среднего возраста (из первого четверостишия-катрена) в научной манере говорит Маккэндлесс, цитирующий несколько строк из сонета на стр. 177:
Все эти великолепные краски на листве когда осенью разрушается хлорофилл, когда белки в молекулах хлорофилла разрушаются на аминокислоты уходящие в стебли и корни. Наверное таки с людьми в старости, белки разрушаются быстрее чем их можно заменить и потом, что ж и потом понятно, раз белки являются основными элементами в любых живых клетках вся система начинает разлаг…
Спустя страницу Маккэндлесс подхватывает образ заката из второго катрена:
Наконец осознаешь что не можешь оставить мир лучше чем его принял а можешь только постараться не оставить хуже но они тебя не простят, собираются гурьбой в конце дня как на закат в Ки-Уэсте если когда-нибудь видела? Все туда съезжаются на закат, смотрят как солнце падает словно ведро с кровью и хлопают-ликуют как только оно пропадает, тебя спроваживают с проклятым ликованием и только и рады что больше не увидят.
Но солнце, на которое она подняла глаза, уже пропало, ни следа в матовом небе, и с ним пропал и незаконченный день, оставив только зябкость, знобившую ее тело.
Блестяще дирижируя образами, Гэддис сочетает дословность разговорной обстановки и метафоры из семьдесят третьего сонета с отголоском Откровения, который Лиз подхватит позже в том же разговоре («Апокалипсис, Армагеддон чтобы погасло солнце и море стало кровью»): все это приводит к символическому сопоставлению разложения органического (листья, свет, люди) с культурным и предполагает, что фундаментализм – это злокачественная, но не противоестественная опухоль в теле политики, ускоряющая неизбежный процесс. Первой это заметила Синтия Озик: «Мистер Гэддис работает не столько с «темой» (его темы просты), сколько с теорией организма и заболевания. Мир в «Плотницкой готике» – это ядовитый организм, а человечество гибнет из-за самого себя»[195]195
195. Озик С., Подделки и каменные истины, пер. Д. Авазова, 2017 // Pollen press (сайт). См. Использование Робинсоном Джефферсом образа органического разложения для описания упадка Америки в стихотворении «Сияй, гибнущая республика» (1924, перевод М. Зенкевича), которое Гэддис прочитал во время работы над «Плотницкой готикой». Оннедолго подумывал взять из этого стихотворения фразу «сгущаясь до империи» в качестве названия для третьего романа. (Все альтернативные названия, которые я упоминаю, – из нашего разговора в августе 1984 года. Гэддис сказал, что стихотворение Джефферса ему прислали; это не его личная находка.)
[Закрыть]. Маккэндлессу «не очень нравится стареть», как позже скажет его первая жена, и не очень нравится наблюдать за распадом цивилизации, но, кроме как яриться из-за затухающего света, он мало что может поделать, чтобы остановить то или другое.
Поскольку сонет Шекспира – своего рода поэма об обольщении, слова «смерть» и «истекать», вероятно, несут в себе вторичное, елизаветинское значение оргазма. Если так, то у этого тропа есть аналог в «Плотницкой готике», где описание Лиз после секса повторяется для описания ее положения в момент смерти. Ее смерть, конечно, нарушает параллели с сонетом, а также с готикой и любовным романом, но она сходится с образом горлицы с первой страницы книги. Глядя, как соседские мальчишки играют мертвой горлицей в бейсбол, «этакий линяющий облачком с каждым ударом помятый волан», Лиз отворачивается, впервые – со зловещим намеком – переводя дыхание. На протяжении всего романа Лиз тесно связана с горлицами и сама похожа на потрепанный волан, буквально – в своих отношениях с Полом, образно – мечась между Билли и Маккэндлессом. Снова преодолевая опасности клише, Гэддис наделяет Лиз всеми символическими качествами голубки (мирность, невинность, мягкость) – она даже плачет, как горлица. Символизм не требует пояснений, но Гэддису снова удается заставить клише работать: когда эта «милая птичка» издает перед смертью «задушенный плач», даже читатель, ожесточенный дикой иронией современной литературы, должен почувствовать, что мир и невинность покинули эту планету навсегда. Воинствующие христиане из романа обращаются с голубем Святого Духа не лучше, а Лиз, погибая в символическом возрасте тридцати трех лет, даже приобретает сходство с принесенным в жертву богом, которому фундаменталисты, по их заявлениям, поклоняются.
Большинство других жанров, занимающих комнаты в творческом доме Гэддиса, можно рассмотреть бегло. Одна сцена, небольшой состав актеров, опоры на посыльных (письма и телефон) и приверженность аристотелевским единствам наделяют «Плотницкую готику» формальным устройством греческой драмы – предмета, который когда-то преподавал Маккэндлесс. Как в адаптации О’Нила или Элиота, в романе Гэддиса есть мрачное наследие отцовской вины, постоянные зверства за кулисами и даже свои Фурии – соседские дети, ухмыляющиеся в окна Лиз. Критик Фредерик Буш нашел несколько параллелей с «Холодным домом» Диккенса – и вполне оправданно. К этой параллели подталкивают гэддисовские инстинкты социального крестоносца, а также диккенсовские имена здешних грязных манипуляторов (Снеддигер, Граймс, Штумпп, Крукшенк, Гриссом, Лопотс). В частности, Гэддис разделяет веру Диккенса в то, что роман – это инструмент, который может улучшить общество, и в то, что семейные ссоры могут быть символом крупных социальных раздоров. Гэддис доходит до того, что поправляет фон Клаузевица: «…Война это не политика другими средствами а семья другими средствами». Африканские эпизоды, о которых сообщают из вторых рук, напоминают романы об англичанах и американцах за границей, начиная с «Сердца тьмы» Конрада и нескольких книг Форстера и Во и заканчивая более поздними романами Грэма Грина, Энтони Берджесса и Поля Теру, не говоря уже о многонациональных политических триллерах более коммерческих романистов. Также «Плотницкая готика» является хрестоматийным образцом «замкнутой» литературы – жанра о визите таинственного незнакомца в закрытое сообщество и вызванном им моральном опустошении, воплощенном в таких книгах, как «Писец Бартлби» Мелвилла и «Человек, который совратил Гедлиберг» Твена[196]196
196. См.: Male R., Enter Mysterious Stranger: American Cloistral Fiction, Norman: University of Oklahoma Press, 1979.
[Закрыть].
Куда интереснее вклад Гэддиса в жанр литературы о войне во Вьетнаме. О службе Пола во Вьетнаме упоминается лишь эпизодически, но, собрав воедино подсказки, можно реконструировать его опыт – хоть и только отделив «официальную» правду от того, что произошло на самом деле. Каким-то образом ему удалось получить звание младшего лейтенанта, к большому презрению его приемного отца. Тот, как сообщается, сказал Полу, «что ему повезло черт подери отправиться туда офицером потому что рядового из него не получится». Командуя взводом 25-й пехотной дивизии «Молния», он быстро отдалился от подчиненных: «Вся эта армейская хрень про черномазых из Кливленда и Детройта в его никчемном взводе как он их там гонял чтобы показать выучку белого офицера-южанина». Когда он сдал своего помощника, чернокожего девятнадцатилетнего парня по имени Чиггер, за употребление героина, Чиггер «фрэгнул» его, то есть забросил гранату под кровать Пола в казарме неженатых офицеров. Его спас Чик, его связист, и армия скрыла инцидент, обвинив во всем вражеского лазутчика – на этой же версии позже настаивает Пол. Его увольняют в том же звании, в каком он пришел, что свидетельствует о его некомпетентности. Как указывает в другом месте Маккэндлесс, офицеры рады войне из-за «шанса забраться повыше, армия мирного времени сидят там по двадцать лет не дослуживаясь и до полковника но в боях первая звездочка так близка что они слюной исходят». От Пола беременеет его местная любовница, «это был мальчик», узнает он в конце романа.
Пол воспользовался фальшивой репутацией «великого раненого героя», чтобы попасть на работу в «Воракерс Консолидированный Резерв», но и годы спустя, когда начинается роман, его все еще преследуют ужасные воспоминания о Вьетнаме: пулеметный огонь, чуть не разбившийся вертолет и последствия фрэггинга. «Знаешь сколько я сам пролежал? Сколько недель пролежал с осколками в пузе глядя как плазма бежит по трубкам везде, где их смогли в меня запихнуть? Ногами пошевелить не мог даже не знал на месте ли они вообще, чертов медик сломал иглу у меня прямо в руке ее привязали ни шевельнуть ни пощупать внизу, боялся пощупать не оторвало ли мне яйца, яйца Лиз! Мне было двадцать два!» Когда в конце романа на Пола нападает черный девятнадцатилетний грабитель, он видит в его глазах ту же ненависть, что и в глазах Чиггера, и убивает его, потому как «нас не учили драться, нас учили только убивать».
Уже к 1985 году появилось заметное литературное направление, посвященное сложностям, с которыми ветераны Вьетнама вынуждены приспосабливаться к обществу.
Ветеранам Гэддиса (Чику, Врату Раю и Полу) приходится ненамного лучше. Но Гэддис снова разрушает клише и изображает Пола виноватым в своих трудностях. Он не только навлек на себя фрэггинг, но в каком-то смысле присоединился к врагу – не к вьетконговцам, а к Воракерсу, Адольфу, Граймсу и другим воротилам. «Черт подери Билли послушай! Те же самые сукины дети сослали меня во Вьетнам!» Его жажда престижа и денег так сильна, что Пол охотно переступает через возмущение и встраивается в ту самую структуру власти, которая чуть его не убила, заодно поступаясь и сочувствием, какое мог бы заслужить за пережитые во Вьетнаме тяготы.
Основная отправная точка Гэддиса, хоть и неназванная в романе, – это блестящие «Репортажи» Майкла Герра (1977): импрессионистский отчет о двух годах (1967–1968), когда Герр освещал войну во Вьетнаме для Esquire, и упражнение по спасению «беспримесной» информации от официальной дезинформации и капризов памяти. Гэддис позаимствовал из книги Герра один случай («не было такого сэр»)[197]197
197. Herr M., Dispatches, New York: Knopf, 1977.
[Закрыть], и, возможно, нашел там ряд других своих вьетнамских подробностей: улица Ту-До, мешок с ушами Друкера, непристойный разговор Пола по телефону с Чиком и военный жаргон (сапер, деревня, «старик», казарма для женатых офицеров). Что важнее, в «Репортажах», как и в романе Гэддиса, исследуется разрыв между «правдой» и тем, что происходит на самом деле, в частности патологическая верность Пентагона официальной правде, не имеющей под собой реальной основы. Ссылки на Вьетнам в «Плотницкой готике» служат мрачным напоминанием о том, что эта тема – не абстрактная эпистемологическая задача, а то, после чего осталось «130 000 погибших, покалеченных и пропавших без вести американцев» (ГВМ, 55).
Наконец, отметим еще одного писателя, у которого Гэддис брал взаймы для «Плотницкой готики»: это сам автор «Распознаваний» и «Джей Ар». Ричард Порье однажды охарактеризовал второй роман Пинчона, «Выкрикивается лот 49», как «более доступный только потому, что он намного короче первого („V.“) и похож на некий не вошедший в него, но особенно яркий отрывок»[198]198
198. Poirier R., Review of Gravity’s Rainbow, Saturday Review of the Arts, March 1973.
[Закрыть]. На первый взгляд, короткая и доступная «Плотницкая готика» может выглядеть как особенно яркая глава «Джей Ар»; и действительно, один рецензент даже сказал, что «основной сюжет взят со страниц 96–103 „Джей Ар“; замените Лиз, Воракерса и Бута на Эми, Кейтса и Жубера, смените регион с Гандии на что-нибудь около Южной Африки – и готово. Даже имена Уде и Тикелл пришли из „Джей Ар“»[199]199
199. Al J Sperone, Mr. Gaddis Builds His Dream House, Village Voice, August 1985.
[Закрыть]. Конечно, между тремя романами есть важные тональные различия, но тем не менее в «Плотницкой готике» можно услышать и другие отголоски предыдущих двух: Лиз, возможно, читала «Распознавания», поскольку упоминает эпизод, когда Арни Мунк напился и сложил свою одежду в холодильник, и замечание преподобного Гвайна о «неотвратимой пунктуальности случайности», которое встречается во всех пяти романах Гэддиса. В третьем романе он вернулся к некоторым источникам первого: к четырнадцатому изданию Британской энциклопедии – ради Битвы при Креси, к «Псалтирю паломников» – для двух воинственных гимнов, к конкордансу Крудена – для библейских цитат и к «Четырем квартетам» Элиота – как минимум ради одной строчки («вернуть то, что было утрачено, найдено и утрачено снова», из «Ист-Коукера»). Даже в романе Маккэндлесса слышатся отголоски сюжетных ходов «Распознаваний», особенно в решении главного героя Фрэнка Кинкеда «жить целеустремленно» – той же клятве Торо, которую дает Стивен. Из «Джей Ар» Гэддис в дополнение к именам, перечисленным выше, позаимствовал «Пифийскую горнодобычу». Еще автор намекает на связь между Джей Аром и Полом Бутом, когда Адольф пренебрежительно говорит о последнем, что он разбирается в финансах «не больше сопливого шестиклассника».