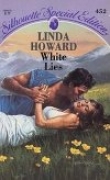Текст книги "Уильям Гэддис: искусство романа"
Автор книги: Стивен Мур
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)
Многое из этого – не более чем перекрестные ссылки, какие бывают в романах Фолкнера, Барта или Соррентино. На отношения «Плотницкой готики» с ее огромными предшественниками, кажется, намекает Маккэндлесс в разговоре о собственном романе: «Просто проклятые запоздалые мысли почему они тебя так смущают, – спрашивает он Лестера. – Этот роман просто сноска, постскриптум». То, что «этот роман» может относиться к обеим книгам, и тот факт, что эти строки встречаются в реальном романе о воображаемом романе вымышленного персонажа, напоминающего реального автора, наводят на мысли о смутном статусе литературы, стирают тонкую грань между правдой и тем, что происходит на самом деле, предлагая тонкие линии, которые кажутся правдивее от того, что они не происходили никогда. Онтология всех вымыслов – литературных, религиозных, патриотических и личных – выступает одной из основных задач Гэддиса в «Плотницкой готике» и делает этот роман не просто сноской, постскриптумом к его ранней мегапрозе, а виртуозным упражнением в прозе с приставкой «мета».
«ВОТ И ВСЕ, ЧТО ОНА НАПИСАЛА»[200]200
200. That’s All She Wrote – идиома со смыслом «вот и все», здесь обыгрывается буквальное прочтение. – Прим. пер.
[Закрыть]
Природа и создание вымысла – повторяющаяся тема в диалогах, составляющих основную часть «Плотницкой готики», начиная от довольно примитивного представления Пола о литературном вымысле и заканчивая более утонченными нападками Маккэндлесса на такие «выдумки», как религия, оккультные верования и этноцентризм. Использование Гэддисом художественной литературы для исследования статуса вымысла характерно для метапрозы – жанра, где литературные произведения напоминают о том, что они – литературные произведения, и где выставляется напоказ искусственность искусства[201]201
201. Я в долгу перед Сарой Лоузен и ее информативной и остроумной работой Notes on Metafiction: Every Essay Has a Title, in: Postmodern Fiction:A Bio-Bibliographical Guide, ed. Larry McCaffery, Westport, CT: Greenwood Press, 1986. См. также ее эссе о Гэддисе в этой же книге.
[Закрыть]. Хотя «Плотницкая готика» намного реалистичнее образцовой метапрозы вроде «У Плыли-Две-Птицы» Фланна О’Брайена или «Маллиган Стью» Соррентино, она в полной мере пользуется ресурсами жанра, чтобы прояснить отличия двусмысленности от абсолютизма (и ее предпочтительность) и предупредить об опасностях путаницы вымысла и факта.
Новый университетский словарь Уэбстера (8-е изд.), который Гэддис ругает за неточность каждый раз, когда с ним сверяется Лиз, дает три определения «вымысла», и каждое подробно проиллюстрировано в «Плотницкой готике». На самом деле на эту тему разыгрывается так много вариаций, что полезно прибегнуть к студенческой стратегии рассуждать прямо на основе определений из словаря, тем более что в них мог заглядывать и Гэддис.
ПЕРВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ: А: нечто выдуманное или притворное; пример: вымышленная история <отличить факт от ~> B: литературный вымысел(в виде романов или рассказов) <автор ~>
Гэддис всегда показывает писателей за работой: в «Распознаваниях» он рассказывает о попытках Отто написать пьесу, Эсме – сочинять поэзию, а Уилли обсуждает свой незавершенный труд – метапрозаическую версию самих «Распознаваний». В «Джей Ар» и Томас Эйген, и Джек Гиббс работают над рукописями и читают из них отрывки. В «Плотницкой готике» есть два писателя, но произведения обоих стирают словарное различие между фактами и вымыслом. Лестер высмеивает роман Маккэндлесса отчасти потому, что тот так точно следует фактам из африканского опыта автора, что не заслуживает называться «вымыслом». Похоже, все, что «выдумал» Маккэндлесс, – клеветнические обвинения, романтическое самовозвеличивание и напыщенная риторика (везде). Точно так же незавершенный труд Лиз начинается как автобиографические мечтания, но после появления Маккэндлесса (и после того, как она украла строчку из «Потерянного горизонта» Хилтона) начинает походить на дневник вплоть до момента, где ее «вымышленное» повествование неотличимо от слов самого рассказчика.
Переиначивая определение Уэбстера, это факты, притворяющиеся вымыслом, но, возможно, и необходимая жертва того, «что происходит на самом деле», ради «правды», – то есть переживаний авторов, а не строгого перечисления фактов. Вот почему Лиз возражает против фантастической идеи установить зеркало на Альфе Центавра, чтобы увидеть в телескоп то, «что происходило на самом деле» в ее жизни: «Но тогда увидишь только внешнее». Незаинтересованная в эстетической дистанции, Лиз считает, что субъективное восприятие опыта писателем важнее объективных фактов, что и пытается донести до Маккэндлесса, предпочитающего технический подход: «Я говорю о тебе, о том что знаешь ты и больше не знает никто потому что в этом же и есть суть литературы нет? Я не писатель миссис Бут а я имею в виду многие могут писать обо всем этом, о кузнечиках и эволюции и окаменелостях имею в виду но о том что знаешь только ты вот что я имею в виду». Маккэндлесс возражает: «Может как раз от этого и хочется сбежать», вторя позиции Элиота[202]202
202. 202 В «Традиции и индивидуальном таланте» Элиот пишет: «Поэзия – это не свободное излияние эмоций, а бегство от эмоции, это не выражение индивидуальности, а бегство от индивидуальности. Но, разумеется, лишь те, кто обладает индивидуальностью и эмоциями, знают, что такое желание освободиться от них в поэзии» (пер. Т. Красавченко).
[Закрыть]. До этого он возразил Лиз, сказав, что слишком многие писатели «думают если с ними что-то случилось то это интересно потому что случилось именно с ними».
Эти эстетические дебаты о субъективности против объективности и легитимности автобиографических мотивов в художественной прозе начались еще в «Распознаваниях», где Ханна возмущалась насчет картины Макса: «Ему пора бы запомнить, что важно не только пережить опыт, но и знать, как с этим опытом обращаться». В третьем романе Гэддис расширяет территорию дискуссии, показывая, как опирающийся на собственную биографию писатель может спутать создание вымысла с созданием себя при помощи вымысла, как актер пользуется гримом для создания новой личности, даже новой жизни. Для Лиз вымысел – это «хоть какая-то надежда на восстановленный порядок, даже в самом прошлом в лохмотьях, переписанном, исправленном, на поверку с самого начала сфабрикованном, чтобы переупорядочить все невероятности, что могло быть». Писательство дает Лиз доступ к той себе, что Билли называет ее «настоящей тайной личностью» – личностью, которую Уайатт старается найти в своих поисках индивидуации, и личностью, утраченной Лиз «двадцать, двадцать пять лет назад когда все еще, когда все еще было таким каким и должно быть». Будучи Биббс для брата, Лиз – для мужа, миссис Бут – для Маккэндлесса, «рыжей» – для Лестера, она сопротивляется фрагментации своей идентичности, настаивая: «Мое имя мое имя Элизабет», и заикающееся колебание подчеркивает, как ей трудно спасать имя своего истинного «я» от мужчин в ее жизни[203]203
203. В рецензии на роман Джеймс Перрин Уоррен обозначил этот момент иначе: «То, как они ее называют, отражает их отношение: Билли нужна сестра, навсегда запертая в детстве; Полу – секретарша; Маккэндлессу – прелюбодейка; и Элизабет нужна Элизабет».
[Закрыть]. Неудивительно, что она пишет в тайне; ее рукопись, спрятанная в ящике стола, – метонимия ее тайного «я», спрятанного так далеко от мужа, что он оцепенеет, когда после смерти Лиз наткнется на текст, написанный «почерком, который он знал не более чем по хлеб, лук, молоко, курица?» Ее неспособность писать аналогична ее неспособности жить, что и отражено в названии, которое Гэддис недолгое время рассматривал для романа: «Вот и все, что она написала».
Хотя Маккэндлесс завершил и опубликовал роман, он вышел под псевдонимом; это, наряду с вердиктом Лестера («дрянной»), предполагает, что роману не хватает честности и целостности, к которым автор стремится в жизни. Во впечатляющей апологии он объясняет, что жизнь человека – это своего рода вымысел, который надо создавать так же тщательно, как произведение искусства:
Значение имело только то что я выжил потому что поклялся запомнить что произошло на самом деле, что никогда не оглянусь назад с каким-нибудь романтическим взглядом просто потому что был тогда молодым дураком но что я это сделал. Я это сделал и я выжил, и так было впредь и может это самое сложное, сложнее чем когда в судный день тебя втягивает в облака на встречу с Господом или когда возвращаешься с Великим Имамом потому что эта выдумка (курсив мой – С. М.) только твоя собственная, потому что ты потратил на нее всю жизнь, то кто ты есть и кем был когда было возможно все, когда как ты сказала все еще было таким каким и должно быть как бы мы при первой же возможности ни извратили и потом придумали себе в оправдание новое прошлое.
Если выдумка Маккэндлесса действительно дрянная, то это потому, что ему не удалось сконструировать ее с той же яростной целостностью, с какой он сконструировал «выдумку» самого себя. Подобно хемингуэевскому Фредерику Генри, Маккэндлесс приветствует «факты в защите от ничего не значащих красивых слов», но из цитат Лестера складывается впечатление, что в литературе он предпочел красивые слова. Хорошим прообразом можно считать Робинсона Джефферса – замкнутого современника Хемингуэя, чьи стихи «Мудрецы в час тяжелый» иногда цитирует Маккэндлесс. Джефферсу удалось привнести в свою жизнь такую же яростную честность, как и в свое творчество, – синтез, к которому Маккэндлесс, видимо, стремится, но которого ему не хватает. Если рукопись Лиз – это метонимия ее жизни, то метонимия Маккэндлесса – его кабинет, пыльная, затянутая паутиной, прокуренная комната с книгами и бумагами, где он постоянно пытается прибраться, но наводит еще больше путаницы и беспорядка. Одинокий, без друзей, отдалившийся от сына и бывших жен, он продается ЦРУ за 16 тысяч долларов и в последний раз появляется перед отъездом в тропики, где собственное местонахождение можно определить только по симптомам своей болезни. И снова неудача в искусстве – неудача в жизни.
ВТОРОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ: допущение возможности факта, независимо от истинности <юр.>
Маккэндлесс утверждал бы, что религии и метафизические системы – это возможности (в лучшем случае), принимаемые последователями за факты, чья приверженность этим вымыслам – это пародия на стремление художника к постоянству в искусстве:
нет-нет-нет, голос успокаивал, как рука по ее спине, это все из той же вечной чуши, отсюда рождается вся эта чушь про воскрешение, переселение душ, рай, карму вся проклятая дребедень. – Это просто страх сказал он, – думаешь три четверти этой страны правда верят что Иисус жив на небесах? а две трети что он их билет в вечную жизнь? […] это просто паника при мысли о небытии так что в другой жизни присоединиться к тем же мормонским жене и семье чтобы вернуться всем вместе на судный день, вернуться с Великим Имамом, вернуться в виде Далай-Ламы и выбрать себе родителей в какой-нибудь тибетской навозной куче, вернуться чем угодно – псом, комаром, это лучше чем вообще не вернуться, та же паника куда ни глянь, любая безумная выдумка лишь бы продержаться ночь и чем больше притянута за уши тем лучше, как угодно уклониться от единственного совершенно неизбежного в жизни […] отчаянные выдумки вроде бессмертной души и этих проклятых младенцев которые носятся вокруг и требуют родиться, или родиться заново…
Здесь Маккэндлесс дважды использует слово «выдумка» во втором значении по Вебстеру, как и в некоторых других местах: «Говоришь об их глубоких религиозных умозаключениях и вот кто они есть, заключенные в какой-то бестолковой выдумке пожизненно без права на помилование и они хотят чтобы в этой тюрьме с ними оказались все остальные». Принципиальное отличие состоит в том, что литературные и юридические вымыслы вымыслами и признаются; религиозные – нет. Фундаменталисты, по мнению персонажа, подобны плохим читателям, которые сначала принимают вымысел за факт, а затем навязывают другим свое буквальное и ошибочное прочтение – если придется, то и под дулом пистолета. Мало того, что фундаменталисты «сами подрывают ее [Библии] авторитет принимая каждое слово буквально больше чем может надеяться любой воинствующий атеист», – возмущается он (имея в виду непонимание метафор и символизма), но они даже не признают противоречий в Библии, которые заметил бы любой внимательный читатель. Таким образом, статус вымысла и обоснованность интерпретации становятся для литературоведов не просто умозрительными вопросами; когда преобладает фундаменталистское неверное толкование священных вымыслов, которому помогают политики, неверно толкующие свои конституции, всем выдумкам положит конец ядерный апокалипсис.
Весь мир – это текст, намекает Гэддис, а все мужчины и женщины – просто читатели. В «Плотницкой готике» листья дерева за половину предложения успевают стать листьями книги, а простыни, все еще влажные от секса Лиз и Маккэндлесса, в следующем абзаце становятся листами бумаги, влажными от чернил, описывающих события. Герои Гэддиса вынуждены читать окружающий мир, несмотря на неразборчивость «текста». Часы ошибаются, газеты врут, словарь неточен, даже слова путают: Лиз и мадам Сократ спотыкаются о французские омонимы sale и salle (32; ср.c путаницей между sale и salé в Р., 943), ее сбивают с толку два значения слова «морг», а рассеянно прослушав по радио новости о «героической операции Береговой охраны», на следующий день Лиз озадачивается из-за людей, которых «героически спасла передовая охрана». Путаницу вызывают даже отдельные буквы – Пол думает, что Билли не знает, как произносится слово «Будда». Двусмысленность преследует самые простые слова.
Самый блестящий образ капризов толкования у Гэддиса – отсылка к дублону Мелвилла, прибитому Ахавом к грот-мачте «Пекода». Чтобы дать рассеянной Лиз «общую картину» религиозных и политических осложнений, в которые он влез, Пол рисует схему с различными группами и их взаимоотношениями. Первым после Пола эту схему толкует рассказчик – с юмористическими замечаниями о фигурах, нарисованных тупым карандашом Пола (администрация президента – это «что-то смутно фаллическое»), жестокими социальными выпадами (черные – это «пятно без связи со всем остальным») и причудливым наблюдением, что «страницу помрачил град стрел [Пола], как небеса в день битвы при Креси». Когда на рисунок натыкается Маккэндлесс, он видит только детские каракули, как и сперва Лестер. Но, взглянув снова, Лестер понимает, что это и правда похоже на битву при Креси, хотя ему приходится подкорректировать фигуры на рисунке – как критику, который втискивает кубик своего тезиса в круглое отверстие текста. Этот пример не только предвосхищает воинственные результаты картеля «Тикелл-Уде-Граймс» (их Армагеддон обещает стать последним в истории применением огневой мощи, тогда как битва при Креси была первым) и обнажает ребячливость происходящего, но и подчеркивает опасность толкований, грозящую всем персонажам: ни один из них не видит «общую картину» (даже Пол, автор рисунка), но каждый считает правильным свое толкование текста. Притча для критиков.
Да и сам текст Гэддиса тут же породил противоречивые прочтения; ничего удивительного, раз в нем минимум семь типов двусмысленности, хотя некоторые трактовки все же застают врасплох. Большинству обозревателей роман показался дико пессимистичным, но один критик считал, что Гэддис «ясно обозначает свой оптимизм на поверхности. Книга заканчивается без точки, что указывает на продолжение. Это намекает на реинкарнацию, хотя бы в виде мухи»[204]204
204. Toney R., San Francisco Review of Books, хотя в остальном его рецензия, как и рецензия на «Джей Ар» в том же журнале (февраль 1976), вполне проницательна.
[Закрыть]. Без комментариев. Не один рецензент обвинил Маккэндлесса в сумасшествии. На этот счет есть пара дразнящих намеков, но его «безумие» – очередная обманка в архитектурном стиле плотницкой готики. К выводу о сумасшествии можно прийти, если вспомнить слова миссис Маккэндлесс о том, что ее бывший муж лежал в больнице, в совокупности с насмешливым вопросом Лестера «Как ты там раньше заявлял лучше бутылка передо мной чем передняя лоботомия откуда ты это взял, это тоже сказал кто-то другой верно потому что себе ты сделал как раз лоботомию». Но эта остроумная фраза – всего лишь шутка певца Тома Уэйтса из 1970-х годов, так что обвинение Лестера строго метафорично; там же он продолжает: «Цифры по раку легких прямо перед тобой как те факты что смотрят в лицо приматам обожравшимся книгой Бытия а ты отвечаешь что это просто статистическая параллель и закуриваешь еще одну». Гэддис понимает (даже если этого не понимает Маккэндлесс), что выбор между правдой и тем, что происходит на самом деле, не так легко сделать, как прикидывается Маккэндлесс; это больше зависит от инстинкта цепляться за то, что Маккэндлесс позже критически назовет «любой безумной выдумкой лишь бы продержаться ночь и чем больше притянута за уши тем лучше, как угодно уклониться от единственного совершенно неизбежного в жизни». Столкнувшись с неизбежностью смерти, Маккэндлесс впадает в панику так же, как и любой фундаменталист, но вряд ли это признак безумия; разговоры о лоботомии и сумасшествии не должны вводить в заблуждение, будто Маккэндлесс лежал в больнице из-за чего-то серьезнее малярии. А еще один критик предположил, что Пол и Эди сговорились, чтобы убить Лиз![205]205
205. Thielemans J., Intricacies of Plot: Some Preliminary Remarks to William Gaddis’s Carpenter’s Gothic. In Studies in Honour of Rene Derolez, ed.A. M. Simon-Vandenbergen, Ghent: Seminarie voor Engelse en Oud-Germaanse Taalkunde, 1987.
[Закрыть] Хотя и существует вопрос, кто звонит в момент ее смерти – ведь и Пол, и Маккэндлесс звонят только по особому коду, бросая трубку и перезванивая, но нет никаких сомнений, что Лиз была одна, когда упала и ударилась головой о кухонный стол. Но вы только взгляните, как я сам сопротивляюсь двусмысленности и настаиваю на уверенности; от этого непросто отучиться[206]206
206. Так много читателей и критиков не поняли причин смерти Лиз, что в следующем романе Гэддис разъяснил устами персонажа, что он имел в виду; см. «Его забава», стр. 381–382.
[Закрыть].
ТРЕТЬЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ: акт симуляции или создания с помощью воображения
А эта деятельность проявляется в «Плотницкой готике»и в созидательном, и в деструктивном ключе; как для самореализации, так и для самообмана. На одном полюсе – «параноидальная сентиментальная выдумка» американского Юга или «полезная выдумка» африканских масаев, которые оправдывают кражу скота у других племен «древней верой в то, что весь скот в мире принадлежит им». На другом полюсе – такие вымыслы, как «Сердце тьмы», повесть, которую Маккэндлесс считает «отличной вещью», хотя Лиз приписывает ее Фолкнеру и путает с «Уйди во тьму» Стайрона и «Мудрецами в час тяжелый» Джефферса. Персонажи Гэддиса в основном злоупотребляют выдумками и чаще симулируют, чем создают что-то стоящее. Но сам Гэддис столкнулся с теми же проблемами при написании этого романа и преодолел их, «Плотницкая готика» является примером правильного использования вымысла и достигает идеала, изложенного в заключительных строках стихотворения Джефферса – тех, что Маккэндлесс не цитирует; возможно, потому, что его создатель зарезервировал их для себя:
Ах, кузнечики,
Смерть – это жестокий жаворонок:
Но умереть, создав нечто более достойное столетий,
Чем кости и плоть – это способность отбросить слабость свою.
Горы – лишь мертвый камень, люди
Восхищаются ими или же их ненавидят за их высоту, их молчание дерзкое,
Но хладнокровьем подобным может похвастаться далеко не каждый из мертвецов[207]207
207. Джефферс Р., Мудрецы в час тяжелый, пер. Ю. Иванова // сетевая публикация.
[Закрыть].
Плотницкая готика Маккэндлесса простояла девяносто лет, хвастается он; «Плотницкая готика» Гэддиса должна простоять как минимум столько же.
7
«Его забава»: Идеи порядка
Когда в 1986 году Гэддиса спросили, чем бы он занялся, если бы не писательством, он ответил: «Правом»[208]208
208. Don’t Everybody Talk at Once! (The Esquire Literary Survey), Esquire, August 1986.
[Закрыть]. Ранее в том году ему подарили собрание из восьмидесяти четырех томов «Американской юриспруденции» и «Дела и материалы по теме гражданских правонарушений» Уильяма Проссера, и его очаровали «картины разума, языка и строгих рассуждений, что вызывались совершенно незначительным» событием, дело за делом («Письма»). В этих книгах по юриспруденции Гэддис нашел вдохновение и тему для своего следующего романа, опубликованного спустя семь с половиной лет под названием «Его забава». Это и самая мрачная, и самая смешная его работа, заключительная речь на тему «в чем суть Америки» и суровый вердикт не столько правовой системе, сколько неорганизованным людям, мешающим закону установить «мало-мальский порядок»[209]209
209. Все цитаты взяты из американского и британского изданий (оканчивающихся на странице 586). Когда издательство Scribner издало книгу в мягкой обложке, количество страниц уменьшили до 509 ради экономии бумаги.
[Закрыть].
Это важное различие. Да, «юридическая сатира» – это точное краткое описание романа (и он является одним из лучших представителей жанра, которым восхищались среди прочих и многие юристы за точное отображение их профессионального жаргона и манер), но Гэддис подчеркивает злоупотребление законом лишь в качестве одного из симптомов упадка Соединенных Штатов, начавшегося, как следует из романа, когда страну разорвала Гражданская война – она играет в «Забаве» важную роль, высвечивая худших из людей: оппортунистов, спекулянтов, баронов-разбойников, грязных политиков, лицемерных евангелистов, ad nauseum[210]210
210. До тошноты (лат.). – Прим. пер.
[Закрыть]. А также скользких юристов, но в «Его забаве» они скорее инструмент для преступлений против ценностей цивилизации, нежели сами преступники. В книге есть и хорошие юристы, но по-настоящему Гэддис восхищается выдающимися представителями этой профессии в традициях Лернеда Хэнда, Бенджамина Кардозо и в особенности Оливера Уэнделла Холмса. Подобного судью Гэддис делает героем и своего романа. Несмотря на тему права, «Забава» не имеет ничего общего с популярными юридическими романами вроде книг Джона Гришэма. Здесь нет сцен в зале суда: Гэддиса не волнует судебная драма, ему интересно, как право может в одних людях выводить наружу все худшее, а других увлекать вечными философскими вопросами о том, как лучше всего прожить жизнь.
Справедливость, порядок, деньги и право: все эти существительные появляются на первой же странице романа и вместе образуют его направления компаса. Как и в «Джей Ар», первая страница «Забавы», подобно оперной увертюре, заявляет эти темы (на самом деле на первой странице появляется и слово «опера»), но справедливость, порядок и право – это не синонимы и не все столпы романа. Недостающая тема, отсутствующая на первой странице, но возникающая позже – это, проще говоря, что такое «хорошо», и этот вопрос занимает совсем немногих в данном мизантропическом произведении.
Действие происходит между сентябрем и декабрем 1990 года, по большей части – в огромном ветхом доме в поселении Джорджика, в Уэйнскотте (Лонг-Айленд)[211]211
211. Юридический документ, появившийся примерно спустя месяц после начала действия в романе, датирован 30 сентября 1990 года, но этому противоречит более ранний документ, где 30 сентября указано как дата инцидента из начала романа, а также газетная статья, тоже от 30 сентября, но выходящая через несколько недель. Как и в «Джей Ар», Гэддис сжимает события романа в нереалистично короткий промежуток времени, чтобы сохранить драматическое напряжение, но эти хронологические нестыковки выглядят недосмотром. Город Уэйнскотт не называется напрямую, но описанный в романе дом во всех деталях идентичен тому, где во время работы над книгой Гэддис проживал со своей партнершей Мюриэль Оксенберг Мёрфи (владелицей дома, ей же посвящен роман).
[Закрыть]. Повествование усложняют несколько судебных дел с участием главных героев, и мы немало приобретем от их распутывания, как и в случае с переплетенными сюжетными линиями «Джей Ар».