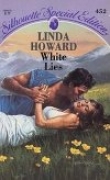Текст книги "Уильям Гэддис: искусство романа"
Автор книги: Стивен Мур
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц)
Из-за этого женоненавистнического страха Уайатт сбегает от близости с Эсме и возвращается в патриархальный мир своего отца, только чтобы обнаружить, что тот сошел с ума. И все же Уайатт получает ценный совет от двух людей на грани безумия. «Неладное, – говорит ему Городской плотник, – надо упрощать»[80]80
80. Это, конечно, отголоски Торо: см. «Уолден», глава 2. Чарльз Бэннинг считает, что Городской плотник – «жуткая «реинкарнация» Торо». Для понимания роли Торо в творчестве Гэддиса см. эссе Тайри, указанное в библиографии.
[Закрыть]. А когда Уайатт спрашивает у стигматизированной служанки Джанет, что такое проклятье, та отвечает просто: «Это жизнь без любви». Прокручивая эти слова в голове, Уайатт садится на поезд в Нью-Йорк, чтобы разоблачить свои подделки и принять любовь Эсме, надеясь, что и то и другое поможет избежать проклятия и обрести спасение.
Впрочем, его злой ангел издевается над мыслью о том, что спасение можно обрести в женщине:
Бэзил Валентайн повернулся и рассмеялся ему в лицо. – Право, право мой дорогой друг. Нет сказал он, сжимая перед собой серую перчатку. – «Темный жар» в конце второго акта, верно? дуэт с Сентой, верно?.. «тот жар, нет, то жажда лишь найти покой», а! «Что обещает ангел мне такой»[81]81
81. Искаженная цитата из «Летучего Голландца», пер. Ю. Полежаева. – Прим. пер.
[Закрыть], поет твой Летучий Голландец, а? Святые небеса! и их уносит волной на небеса, или как там было? Право! и та глупость, что ты носил с собой в последнюю нашу встречу, это “I min Tro…”[82]82
82. «В надежде [моей]…», Ибсен Г., Пер Гюнт в: Ибсен Г., Пер Гюнт. Драмы, пер. А. И П. Ганзенов, Эксмо, 2011. – Прим. пер.
[Закрыть] и так далее, это где он был самим собою? и твоя Сольвейг отвечает в моей вере? в моей надежде? в моей,… святые небеса! Да ты романтик, верно же! Если говоришь все это всерьез? а потом что, и жили они долго и счастливо?
Эта важная концепция женщины как спасения введена еще во второй главе, в первом описании жены Уайатта Эстер: «И все же, как у других влюбленных женщин, изначальной ее целью было спасение, итоговой привилегией – искупление; и, как большинство женщин, она ждала, чтобы сперва, перед вступлением в брак, он хорошенько проклялся, веря, как, возможно, принято у женщин, что если спасти его сейчас, то ему уже никогда не понадобится искупляться». Концепция поддерживается в сравнении Камиллы и Эсме с католической Девой Марией – западным архетипом спасения благодаря женщине; даже в III.3 Уайатт хочет возложить надежды на свое спасение на Пастору и их возможную дочь.
Хотя и следуя предостережению Пелагия не полагаться чересчур на Христа ради собственного спасения, Уайатт верит в еще более романтическую идею – полагаться на женщину: эту опасность описал Дени де Ружмон в «Любви и Западном мире», очередном источнике Гэддиса. В конце книги Уайатт/Стивен, похоже, осознает, что женское обещание искупления так же иллюзорно, как и обещание вечной любви от русалки тоскующим по дому морякам. И то, и то ведет к разрушению и потере себя – или как минимум к потере независимости и самодостаточности, за которые ратует Торо, чью книгу Уайатт постоянно носит с собой. Вагнеровский Летучий Голландец и ибсеновский Пер Гюнт гибнут, как только находят спасение в женских объятиях. «Да, женщины, – говорил Уайатт ранее в беседе с Фуллером, – ты можешь поверить в женщин…». И, видимо, соглашается, что «женщины приводят нас в мир, вот их и держишься». Но платой не должна быть индивидуальность, независимость, которым обычно угрожает женщина, чей деструктивный/бессознательный аспект в романе символизирует русалка. Нечастое, но психологически точное применение образа русалки укрепляет отождествление моря с бессознательным и сильнее определяет для Уайатта роль женщины в его «путешествии, берущем начало на дне морском».
Как упоминалось ранее, «пелагийская атмосфера» поддерживается на протяжении всего романа не только морскими образами, но и десятками сравнений земли с морем либо действий на земле с действиями в океане, под ним и на нем. И, как мы уже видели, море не только сравнивается с небом, но и преднамеренно путается и с небом, и с сушей, что и дает нам символическое равенство «океан = земля = небо = океан». (Гэддис продолжит следовать похожему «смешению миров» в «Его забаве», о чем мы поговорим далее.) Намеренно путая землю и небо с морем, Гэддис придает почти всем действиям Уайатта атрибуты морского путешествия. Что примечательно, путешествия по океану самого Уайатта не описаны, только других персонажей. Таким образом, символическая природа его путешествия преобладает над реальной. Хотя он и отправляется куда-то буквально, роман – это история его психологического путешествия, подобного путешествиям Пера Гюнта, Одиссея, Летучего Голландца, Вечного жида по всему свету, Фауста – к Матерям, а Данте, Христа и Орфея – в ад: путешествие сквозь бессознательные, но доминирующие элементы его психики.
Из этого мы видим, что роман пронизан широкой сетью символов матери, порожденных психическим опустошением из-за ранней разлуки Уайатта с его собственной матерью(и, как заверили бы Роберт Грейвс и некоторые антропологи, с исторической параллелью на порабощение матриархальных религий и чувствительность патриархальных) и последующей вины за то, что он опозорил ее своими подделками. Море, земля, луна, ночь, небо, ад – все это женские символы, сговорившиеся против Уайатта. Грейвс, чья «Белая богиня» оказала на Гэддиса огромное влияние, утверждает, что мужчина существует в женской вселенной, а значит, должен чтить вечную женственность (как называл ее Гёте), а не бунтовать с бесплодной маскулинной рациональностью. (Под «рациональностью» и Грейвс, и Гэддис подразумевают «мышление по предписанным направлениям без мысли о чувстве»[83]83
83. Graves R., Difficult Questions, Easy Answers,Garden City, NY: Doubleday, 1971.
[Закрыть].) Уайатт погружен в мир женских символов, но большую часть жизни отрицает его. Однако «Распознавания» – не просто история о мужчине с материнским комплексом. Скорее это столкновение с женским началом и его разрешение в более общей борьбе за то, что Юнг называл «интеграцией личности». И здесь мы сталкиваемся с руководящей метафорой всего романа, opus alchymicum[84]84
84. Opus alchymicum – алхимический труд (лат.). – Прим. пер.
[Закрыть], достаточно важной (и незнакомой большинству читателей), чтобы потребовать подробного рассмотрения.
МЫ ГОВОРИЛИ ОБ АЛХИМИИ
При первом прочтении «Распознаваний» тему алхимии, если и вспомнят, то отнесут, скорее всего, к общему попурри эзотерики, распределенному по всему роману и легко забывающемуся. Еще могут смутно припомниться две страницы об алхимии, но редкий читатель сумеет рассказать, что на них было. Однако после того как мы нашли все отсылки и определили источники Гэддиса, становится ясна важная роль алхимии. Она как в объединении мифических/символических элементов со справочным материалом этого энциклопедического произведения, так и в формировании духовного «сюжета» в дополнение (и обоснование) к основному.
Уже доказано, во многом благодаря обширным исследованиям швейцарского психолога Карла Густава Юнга, что алхимиков интересовало не просто открытие химического ключа для превращения сырья в золото, то есть философского камня. Конечно, было предостаточно доверчивых душ, растративших жизнь и удачу в лабораториях, но Юнг показал, что алхимия – своеобразный (еретический) христианский мистицизм. Как и «Духовные упражнения» Игнатия Лойолы (а их читает Бэзил Валентайн на странице 330), алхимические шаги к поискам философского камня – не столько лабораторные процедуры, сколько медитативные упражнения, расширяющие рамки католической догмы, – а, следовательно, еретические. Юнг нашел параллель между алхимическими процедурами и тем, что он называет «процессом индивидуации» (эта фраза мелькает в унизительном контексте на 108-ой странице «Распознаваний»), и Гэддис использует алхимическую традицию именно в этом смысле. Юнг пишет: «То, что выражает символизм алхимии, составляет […] целую проблему развития личности, так называемый процесс индивидуации», – и Гэддис счел алхимию полезной (хотя и эзотерической) расширенной метафорой для описания развития личности Уайатта[85]85
85. Юнг К. Г., Психология и алхимия, пер. С. Удовика, М.: АСТ, 2008. В дальнейшем будет цитироваться это издание, ранее известное как «Интеграция личности», так как оно считается наиболее полным и доступным.
[Закрыть].
Алхимический мотив вводится с первой же страницы[86]86
86. В действительности самая первая алхимическая аллюзия – на титульной странице первого и большинства последующих изданий (вплоть до издания от Dalkey Archive). Это древний и распространенный символ opus alchymicum – уроборос, дракон, пожирающий собственный хвост.
[Закрыть]. Это эпиграф из второй части «Фауста» Гёте, взятый из «лабораторной» сцены, где Вагнер создает в алхимической лаборатории Гомункула. Эта первая из множества отсылок к «Фаусту» важна по ряду причин, в том числе – потому что Юнг считал «Фауста» «последним и наиболее значительным алхимическим трудом»[87]87
87. Юнг К. Г., Психология переноса, пер. С. Медкова, М.: Медков, 2020. Это прочтение «Фауста» встречается во всех работах Юнга об алхимии.
[Закрыть]. Рональд Д. Грей в работе «Алхимик Гёте» только частично соглашается с Юнгом в том, что вторая половина Фауста – «поэтическая репрезентация алхимической работы»[88]88
88. Gray R., Goethe the Alchemist, Cambridge: Cambridge University Press, 1952.
[Закрыть], но Гэддису явно нравилось расширять концепцию Уайатта как фаустовского персонажа. Уже на первой сотне страниц «Распознаваний» встречается ряд других отсылок к алхимии: это одна из тем, с которыми преподобный Гвайн знакомит сына; несколько книг на его столе – «Философумена», «Пистис София», Коптский трактат из Бруцианского Кодекса, Rosarium Philosophorum – это алхимические трактаты или труды, связанные Юнгом с алхимией. Вторая глава заканчивается намеком на то, что Уайатт идет по стопам Раймунда Луллия, «одной из выдающихся личностей в истории алхимии», но именно в третьей начинаются основные отсылки к «Фаусту»: в I.3 заключается фаустовский договор Уайатта с «дьяволом» – и начинается его карьера «адепта» алхимии.
То, что алхимия занимает мысли Уайатта, очевидно по книгам, которые он читает. Среди алхимических исследований в его библиотеке есть опровержение Роберта Бойля «Химик-скептик», «Химия в Средние века» Бертло, анонимные Turba Philosophorum и «Тайна золотого цветка», «Проблематика алхимии и мистицизма» Зильберера, «Прометей и Эпиметей» Шпиттелера (хоть и не алхимический трактат, но упоминался в этом контексте Юнгом) и Cantilena Riplaei, датированная пятнадцатым веком. То, что он обсуждал эту тему с Отто (Вагнер для Фауста-Уайатта), очевидно из того, что Отто повторяет его слова: «Да но, в смысле, сегодня мы говорили об алхимии, и о таинствах, которые, об искуплении материи, и что это не просто создание золота, попытки создать настоящее золото, но что материя… Материя, он сказал, материя была роскошью, нашей великой роскошью, и что материя, в смысле искупление…»[89]89
89. Поэтому Уайатт и говорит о Брауне: «Какой ты был роскошью!» (на стр. 684 и в других местах); символически Браун = материя, на что и указывает его имя (Brown – «коричневый», то есть цвет фекалий). – Прим. пер.
[Закрыть]. Спустя две страницы после этого неуклюжего пересказа читатель находит мини-эссе об алхимии, которое начинается со списка нескольких практиков, хотя очевидно, что Отто в понимании духовной природы алхимии ушел не дальше среднестатистического человека. В кратком рассказе о том, почему алхимия не выжила в современном материалистическом мире, подводится следующий итог: «Стоило химии утвердиться в положении истинного и законного сына и наследника, как алхимии дали от ворот поворот, будто пьяному родителю, чтобы плелся себе, лепеча фантазии все более и более редким ушам, менее и менее впечатляющим отщепенцев одиночества».
Один отщепенец одиночества, для кого алхимия больше, чем фантазия, – это Уайатт. Его отказ от традиционной учебы ради алхимии и магии находится в параллели со вступительным монологом Фауста (а тот, в свою очередь, в параллели с самим молодым Гёте[90]90
90. Gray R., Goethe the Alchemist.
[Закрыть]). Из-за распада брака, растраченных на не приносящей удовлетворения работе годах, творческого застоя, чувства вины, депрессии, кошмаров и одиночества Уайатт впадает в состояние, которое алхимики называют «нигредо». Согласно Юнгу: «Nigredo, или чернота – это начальное состояние, либо присущее с начала свойство prima materia, хаоса или massa confusa, либо, в противном случае, производимое разделением (solutio, separatio, divisio, putrefactio) элементов». В другом месте Юнг сравнивает это состояние с первобытным конфликтом человека с его «тенью»[91]91
91. В «Распознаваниях» встречаются образы тени, которые явно произрастают из этого концепта и/или его фольклорных эквивалентов (см. еврейский йецер гара, Р., II.2). Юнг ассоциирует тень с анимой.
[Закрыть], то есть темными элементами бессознательного: «Конфронтация с тенью вначале порождает неподвижное равновесие: застой, препятствующий нравственным решениям и делающий убеждения недейственными или даже невозможными. Все подвергается сомнению, из-за чего алхимики и назвали это состояние nigredo, tenebrositas (затененностью), хаосом, меланхолией. В действительности magnum opus должен начинаться именно отсюда, потому что почти невозможно ответить на вопрос, как противостоять реальности в таком разорванном и разделенном состоянии»[92]92
92. Юнг К. Г., Mysterium coniunctionis. Таинство воссоединения, пер. А. Спектора, М.: Харвест, 2003.
[Закрыть]. В него-то и впал Уайатт в I.3. «Отчаяние как начало», пересказывает Эстер слова Уайатта, и именно отсюда должен начаться процесс психического самоочищения.
Намекнув на алхимическую параллель в I.3, дальше Гэддис упоминает о ней лишь вскользь. Например, на вечеринке у Макса Хершел распространяет слух, будто Уайатт в своей подвальной мастерской на Горацио-стрит «вовлекся в международную организацию поддельщиков, отливает там золото, из обрезков ногтей…» – юмористическая аллюзия на необычные ингредиенты некоторых алхимических рецептов. На первой встрече с Бэзилом Валентайном Уайатт отмечает: «Я знаю ваше имя. Пытаюсь вспомнить, откуда», – но вспоминает только потом: «„Триумфальная колесница антимония“. Теперь я вспомнил твое имя, Василий Валентин, – алхимик, следивший, как его свиньи тучнеют на корме с сурьмой, верно […] ты пробовал то же на постящихся истощенных монахах – и они все скончались […] Так это и прозвали антимонием – анафемой монахам…». (Двумя страницами ранее Уайатт назвал себя с Валентайном «алхимиком и жрецом».) Последняя прямая отсылка к алхимии появляется на странице 639, где музыка на рождественской вечеринке Эстер смешивается «с дымом и неуместными ароматами в ощутимое присутствие – пар от очистки над печью, у которой алхимик ждал с терпением длиною в жизнь…».
В своих заметках Гэддис отчетливо обозначил, какую роль алхимия играет в романе: «Сначала – идеал. Затем – столкновение с реальностью; и хаос, и смерть. Затем – воскрешение, когда то и другое, действуя вместе, достигают искупления. Уайатт, выходит, алхимик; ближе параллели нет»[93]93
93. Koenig P., Splinters from the Yew Tree, курсив Гэддиса.
[Закрыть]. Идеал молодого Уайатта – великое искусство; Ректалл Браун – «столкновение с реальностью»[94]94
94. «Он не понимает реальность, – говорит Валентайн о спутнике. – Реальность – это Ректалл Браун [...] Совсем другое» (Р.).
[Закрыть]; «хаосом» можно метко описать карьеру Уайатта в подделках, закончившуюся символической смертью в море в III.4. Все эти стадии имеют аналоги в алхимическом opus, и по этой причине Джон Леверенс приходит к выводу: «Роман Гэддиса явно и неявно алхимический по теме, структуре и лейтмотиву»[95]95
95. Gaddis Anagnorisis, Kuehl and Moore. Для «Распознаваний» opus alchumicum – то же, что «Одиссея» Гомера для «Улисса» Джойса, руководящая структурная метафора, но не такая формальная и строгая, чтобы ограничивать охват романа.
[Закрыть]. Когда мы видим Уайатта/Стивена в последний раз, подразумевается, что он нашел правильное равновесие между «идеалом» и «реальностью»; его ассимиляция этих двух состояний подчеркнута в перепалке с Лади во время инцидента с пойманной птицей, когда Лади считает птиц вдалеке (то есть идеал) прекрасными, но сторонится близкого контакта[96]96
96. Лади последним переживает страшный опыт из-за белых птиц: внезапно упавшая белая птица становится причиной несчастного случая с Отто, а самолет друга Отто, Эда Фисли, терпит крушение после столкновения с целой стаей. Белые птицы фигурируют во многих образах, включая зеркальное отражение обрывков письма Уайатта, разлетающихся, «как горстка вспугнутых в небо белых птиц», и обратное ему «белые птицы, не найдя ничего, вспугнутые треском, взлетели вместе, прочь, словно обрывки письма, пущенные по ветру».
[Закрыть].
Стоит напомнить, что общий знаменатель лунного/ночного/морского символизма в «Распознаваниях» – это психомифологическое столкновение с анимой. «Пока nigredo будет проявляться, будет преобладать черная женщина», как говорилось в одном анонимном алхимическом трактате[97]97
97. Liber Alze, цитата из «Таинства воссоединения» Юнга.
[Закрыть]. В подобных работах в целом много женских образов (воссоединение противоположностей, цель алхимии, чаще всего сравнивалось с воссоединением мужчины и женщины, что породило достаточно пошлые образы) – и особенно материнских, появившихся из идеи духовного перерождения. Показательный пример можно найти в алхимических сочинениях, упомянутых в самих «Распознаваниях», например в Cantilena Riplaei, Rosarium Philosophorum и Turba Philosophorum: везде (по словам Юнга) алхимические операции приравниваются к христианскому искуплению через образ матери. Сходство алхимической и христианской идеи перерождения очевидно и преднамеренно; так, Юнг пишет о сэре Джордже Рипли, авторе Cantilena: «Учитывая, что автор не лжец, а ученый каноник, трудно предположить, что он забыл об аналогиях с фундаментальными идеями христианской доктрины». Действительно, большинство отрывков из Нового Завета о важности духовного перерождения, процитированных в «Распознаваниях», в особенности о Никодиме и необходимости «отложить ветхого человека», можно обнаружить и в алхимических трактатах. Снова и сноваи в алхимии, и в религии, и в мифологии, и в современной психологии мы видим потребность возвращения к матери, встречи с женским началом. Гэддис вложил столько отсылок к этой идее из такого обилия различных источников, что мы понимаем: в легкомысленном замечании Хершела, что все проблемы Уайатта произрастают из «то ли отцовского комплекса, то ли материнского комплекса – чего-то вульгарного», больше истины, чем может показаться. И как похоже на Гэддиса – зарыть ключ к личности Уайатта среди страниц пустой болтовни, которую так же легко пропустить мимо ушей, как не заметить выброшенный на улицу бриллиант в «Прометее и Эпиметее» Шпиттелера[98]98
98. На эту сцену из эпоса Шпиттелера 1881 года три раза ссылается Юнг в «Психологии и алхимии».
[Закрыть].
Практически все образы столкновения с анимой – ночь, спуск в ад, луна, море, путешествие, имеют свои аналоги в символическом языке алхимии. Связь ночи с состоянием нигредо очевидна по названию, и уже не удивляет, что нигредо (или mortificatio) в алхимической литературе порой сравнивали со спуском в ад. (Юнг приводит несколько примеров и относит их к классической идее катабазиса.) После мужского и женского наиболее известные символы противоположностей, чья взаимосвязь способна породить духовное золото, – это Солнце и Луна. Гэддис приводит в пример алхимика «Михаэля Майера, видевшего в золоте образ солнца, сплетенного в земле бесчисленными круговращениями, – тогда, когда солнце еще принимали за образ Бога» (адаптировано из Юнга). Леверенс отмечает: «Фундаментальная алхимическая предпосылка заключается в том, что все металлы созревают до чистейшего золота», – вот еще одна метафора процесса, который представлялся и как путь совершенства к Царству Божьему, и как путешествие через семь небес гностицизма, и как аристотелевская энтелехия, и как идеал, воплощенный в Ангеле Рильке, и как юнговская интеграция личности. Алхимики наделяли и Луну разными ролями и свойствами; Юнг противопоставляет мужское/солнечное сознание женскому/лунному, и легко понять влечение Уайатта к последнему, потребность в нем: «Его (бессознательного) свет – это «мягкий» лунный свет, который соединяет вещи в большей степени, нежели разъединяет их. В отличие от сурового, ослепительного света дня, этот свет не выставляет объекты в их безжалостной разобщенности и разделенности, но смешивает в обманчивом мерцании близкое и далекое, магически трансформируя малое в большое, высокое – в низкое, смягчая все цвета и превращая их в синеватую дымку, незаметно делая ночной пейзаж чем-то единым». «Отдельность, вот что пошло не так, ты поймешь… – признается Уайатт в конце романа, достигнув лунного сознания. – Все удерживается от всего остального…» Цель Уайатта, как и у алхимика, воссоединение и синтез психических противоположностей, и Гэддис следом за писателями-алхимиками показывает путь к интеграции с помощью образов Солнца и Луны, за которыми находятся множество противоположностей, борющихся за объединение в психике Уайатта: преподобный Гвайн/Камилла; Солнце/Луна; sol (золото)/luna (серебро); Логос/Эрос; христианство/язычество, сознательное (рациональность)/бессознательное (иррациональность); разум/интуиция; разделение/объединение; активность/пассивность; интеллект/эмоции; день/ночь[99]99
99. «От Индии до берегов Атлантического океана, – говорит нам один из источников Гэддиса, – хоть и во множестве различных форм описано одно таинство Дня и Ночи, и одно таинство фатальной борьбы между ними происходит внутри человека», Denis de Rougemont, Love in the Western World, trans. Montgomery Belgion. New York: Harcourt, Brace, 1940.
[Закрыть]; и так далее.
Как утверждает Юнг, море тоже считается известным образом в алхимических текстах, иногда символизируя prima materia («основа для приготовления философского золота»), а иногда нигредо, но всегда – «символ коллективного бессознательного, потому что бездонные пучины скрыты под его поверхностью». Арислей, один из участников диалога Turba Philosophorum, в другом месте «рассказывает о своих приключениях с Rex marinus [морской царь], в чьем царстве ничего не процветает и ничего не порождается. Более того, там нет философов. Лишь подобное сочетается с подобным, поэтому не существует размножения». Эти «бесплодные земли» моря упоминаются и в другой алхимической литературе и параллельны миру «Распознаваний» (объясняя «пелагийскую атмосферу») с его бесплодием, гомосексуальностью и заметным отсутствием философов. (Фауст тоже становится правителем морского царства.) Но океан – и средство очищения, восстановления. Гомункул из «Фауста» решает соединиться с океаном, чем символизирует слияние мужского и женского и завершает свой поиск «материальности»[100]100
100. См. Комментарии к этой сцене от Сайруса Хэмлина в издании «Фауста» от Norton Critical (New York; Norton, 1976).
[Закрыть], ровно как и Уайатт – Гомункул Гэддиса в его «боп-версии» «Фауста» – достигает цели, символически утонув в море во время столкновения с женским началом[101]101
101. Как указывалось ранее, Эсме, пересекая море со Стэнли, путает Уайатта с утонувшим матросом; ранее, в госпитале Беллвью, она улыбнулась, «будто предсказывая смерть от падающих столбов, смерть в море», предсказывая реальную смерть Стэнли и символическую смерть Уайатта.
[Закрыть].
Наконец, уже неудивительно, что в поиске метафор алхимики сравнивали свой труд со странствием. Эта сторона opus alchymicum называлась peregrinatio и чаще всего ассоциируется с сочинениями Михаэля Майера со сто тридцать первой страницы «Распознаваний», который «представлял opus как странствия или одиссею, подобно путешествию аргонавтов за aurum vellus (Золотым руном), столь излюбленным алхимиками. Эта тема фигурирует в названии многих трактатов». У Майера, как и у Уайатта, «цель его путешествия – достижение этой целостности»; случайно или нет, но четвертую и финальную стадию путешествия Майера – стадию, что Юнг ассоциирует с бессознательным, представляет Африка, и точно так же Северная Африка – последний континент, который Уайатт посещает перед тем, как осесть в Испании.
То, что Гэддис предпочел главным двигателем темы искупления алхимию вместо религии, может поначалу показаться мракобесным. Но, как подтвердят бесчисленные уничижительные замечания в сторону христианства в романе, Гэддис чувствует, что церковь потеряла свою исконную цель и деградировала в не более чем дисциплинированное суеверие. Таким образом, христианство относится к церковному духу, как химия – к алхимии: современный прогресс искоренил истинное значение духовности. Джек Грин указывает, что в «Распознаваниях» «считается очевидным, что языческая религия и алхимия превосходят современную религиозность и химию смыслом, значением, эмоциональной страстью»[102]102
102. Green J., Fire the Bastards!, 1962; Rpt. with an introduction by Steven Moore, Normal, IL: Dalkey Archive Press, 1992.
[Закрыть]. И в поисках спасения Уайатт обращается к алхимии, а не христианству. Важное различие между ними в том, что алхимия показывает «человека одновременно и как нуждающегося в искуплении, и как искупителя». В понимании Юнга это означает: «Первая формулировка христианская, вторая – алхимическая. В первом случае человек уступает необходимость своего спасения автономной божественной фигуре и предоставляет ей процесс искупления […] во втором – человек берет на себя обязанность нести искупительный opus», что возвращает и к Пелагию – приверженцу активного участия в своем спасении, и к идее самодостаточности Торо/Эмерсона, которую воплощает Уайатт (и которую Эстер путает с эгоизмом).
Бэзил Валентайн сказал бы «Уилли, что спасение – совсем не то практическое исследование, каким было» в Средние века, но Гэддис, очевидно, нашел подходящее спасение – пусть даже секуляризированное, в виде интеграции личности, которая и служит темой его романа[103]103
103. Словно опровергая Валентайна, Гэддис цитирует в «Распознаваниях» и другие сочинения XX века о спасении: «Четыре квартета» Элиота, «Острие бритвы» Моэма, «Слепец в Газе» Хаксли, «Вечное милосердие» Мейсфилда и «О причудах кардинала Пирелли» – остроумную пародию Фирбенка на поиск спасения.
[Закрыть], а в алхимии – ближайшую параллель с работой во имя искупления. Наиболее успешная форма секуляризации спасения в «Распознаваниях» – искупительная сила искусства. Спасение через любовь женщины или к ней в лучшем случае представляет собой устаревшее, двойственное средство поиска искупления, – тут Гэддис приводит в пример такие произведения девятнадцатого века, как «Летучий Голландец» и «Пер Гюнт». Но создание неподдельного произведения искусства похоже освобождает от любой двойственности. «Творческий процесс – это труд художника во имя собственного искупления», – заявляет Гэддис в своих записках, и по этой причине искусство в «Распознаваниях» наделено религиозной важностью.
Юнг пишет, что «истинная алхимия никогда не была бизнесом или карьерой, это был подлинный opus, который достигался скромным самоотверженным трудом», и отношение алхимиков к их труду напоминает, по мнению Гэддиса, отношение настоящего художника – к искусству. Истинные алхимики «не уставали от наслаждения новинками искусства – та вера, писания и добродетельность были наиболее важными требованиями для алхимического процесса»[104]104
104. Зильберер Г., Проблематика алхимии и мистицизма (Problems of Mysticism and Its Symbolism, trans. Smith Ely Jelliffe, New York: Moffat, Yard, 1917). Цитируется по переводу издания от «Клуб Касталия». Книга упоминалась в «Распознаваниях», но Гэддис, скорее всего, ее не читал, взяв только название из «Психологии и алхимии» Юнга, как и в случае с некоторыми эзотерическими названиями в романе.
[Закрыть], и сам Уайатт цитирует изречение «Amor perfectissimus»[105]105
105. Самая совершенная любовь (лат.). – Прим. пер.
[Закрыть]. Согласно Юнгу, это термин алхимика Морьена, который он использовал для описания правильного отношения адептов к труду. В «Распознаваниях» единственными творцами с таким отношением к своему искусству оказываются Стэнли и, что странно, Фрэнк Синистерра. Отношение же Уайатта следует рассмотреть внимательней. Он настолько одержим правильным взглядом на творчество, что, похоже, забывает, что создает подделки. Более того, он хвастается перед Брауном, как сильно он вошел в образ художника XV века:
И… и любой стук в дверь может быть от инспекторов золота – придут проверять, не скверными ли материалами я пользуюсь, я… я старший художник в Гильдии, во Фландрии, понимаешь? а если придут и узнают, что я не пользуюсь… золотом, то уничтожат мои скверные материалы и оштрафуют меня, […] потому что я дал клятву Гильдии – не ради критиков, экспертов или… тебя, ты имеешь ко мне отношения не больше, чем если б был моим потомком, никакого отношения, и ты… клятва Гильдии, пользоваться чистыми материалами, трудиться пред Богом…
Уайатт подчеркивает важность чистых материалов, особенно золота; алхимики тоже предостерегали от плохих материалов. «Все ошибки в искусстве происходят оттого, что не берется подобающее вещество», – пишет автор Rosarium Philosophorum. Юнг одобряет Ричарда Английского, алхимика XIII века, который «отвергает всю мерзость, что избирали алхимики для своей работы, как то: яичную скорлупу, волосы, кровь рыжеволосого человека, василисков, червей, травы и человеческие экскременты. „Что человек засеет, то и пожнет – если он посеет мерзость, то получит мерзость“».
С алхимической точки зрения на роман, золото имеет особое значение и часто используется как символ подлинности. Заметив поддельную картину Босха (Валентайн отправил обратно в Европу оригинал, который Уайатт продал Брауну), Уайатт впадает в отчаяние: «Копировать копию? с этого я начинал? […] а если золота и не было? […] а если того, что я подделывал, и не существует?» Его единственное оправдание подделок – надлежащее отношение к работе и некое «мистическое приобщение» к художникам, с чьими подлинниками он работал, что утратило бы всю силу, если бы он просто копировал произведения. Поэтому Уайатт чувствует спасительное облегчение, узнав, что копировал именно оригинал Босха, которым владел его отец, и восклицает: «Слава Богу, золото для подделки все-таки было!» в дальнейшем Гэддис определит это как «ключ к книге, если он вообще есть» («Письма»).
В редкий момент саморефлексии даже Отто использовал золото как символ подлинности:
– и этот, этот сумбур, ворошишь этот сумбур в поисках собственных чувств и пытаешься их спасти но уже поздно, даже их не узнаешь, когда они всплывают к поверхности, потому что они уже везде растрачены и, опошлены и эксплуатированы и разбросаны и растрачены где только можно, от тебя все требуют и ты все платишь и не можешь... И потом ни с того ни с сего тебя просят расплатиться золотом – а ты не можешь. Да, не можешь ничего не осталось, и не можешь.
«Где тебя просили расплатиться золотом?» – тихо спрашивает Эстер, не зная о его отношениях с Эсме. Распознавания, которых требует название романа, – это золотые оригиналы, спрятанные за фальшивым искусством, фальшивой религией и, в случае Отто, фальшивыми чувствами.
Несмотря на хорошие материалы, надлежащее отношение и стремление к золоту подлинности, Уайатт большую часть романа создает всего лишь фальшивки. Алхимики и фальшивомонетчики находятся на одном круге ада Данте (см. песни 29–30, помещенные в современный контекст в «Распознаваниях»), и все доводы и оправдания Уайатта в итоге вянут перед безжалостным упреком, который он чувствует, глядя на портрет матери. Обесчестив ее смерть, он наконец понимает, что обязан разоблачить свои подделки – но Валентайн и сожжение картин перекрывают ему этот путь спасения. Тогда Уайатт отправляется в Испанию, чтобы примириться с анимой и смиренно переосмыслить свою эстетику.
«Не следует забывать, – напоминает нам Юнг, – что прикасаясь к аниме, мы прикасаемся к психическим фактам, которые ранее были недоступны, ибо всегда находились «за пределами» психической сферы в форме проекций»[106]106
106. Юнг К. Г., Архетипы и коллективное бессознательное, пер. А. Чечиной, М.: АСТ, 2019.
[Закрыть]. В гэддисовской матрице символов женского начала представлены все возможные формы проекции тех свойств, что Уайатт так долго к себе не подпускает: эмоциональность, интуиция, нежность, даже иррациональность. Ранее в романе Эстер часто жалуется на отсутствие эмоций у Уайатта и его строгую приверженность интеллектуальной сфере. «Я бы хотела, чтобы ты вышел из себя, – в какой-то момент говорит она, – или что угодно, потому что эта… эта сдержанность, эта поза, этот контроль, который ты для себя выработал, Уайатт, они уже нечеловеческие». Единственное, что его воодушевляет – это цыганская музыка, но даже в ней он восхищается «гордостью страданий» и «самодостаточностью», «точностью страданий» и «изысканным нюансом личного». Жалуясь на его холодную рациональную реакцию на пылкую сюиту № 1 до мажор Баха, она говорит Отто: «Да но это не по-человечески… […]. Так жить нельзя». Отто в ответ утешает: «Он не может вечно продолжать, вот так».
Он и не может. Уайатт сам понимает – что-то не так, чего-то, что символизируется утратой матери, не хватает. Неосязаемое присутствие Камиллы во всем романе представляет собой соблазн иррационального, необходимость в балансе разума и эмоций, причин и эмоций. Важно, что единственное драматическое изображение Камиллы в книге – флэшбек, когда друг-археолог преподобного Гвайна предложил ей пару византийских сережек, «не зная, что она выбежит с золотыми кольцами в кулаках, и удивившись (хотя не удивился Гвайн), когда она ворвалась с диким блеском в глазах и с золотыми сережками в ушах, залитыми кровью». Брак с Камиллой был попыткой Гвайна примирить разум и эмоции; он передает это наследие сыну, подарив ее серьги на память, но, как и свои чувства, Уайатт хранит их в шкатулке. (Серьги – символ матери, как бритва – символ отца; но при этом серьги как золотые круги символизируют подлинность и полноценность, а бритва – кастрацию и покорность христианским принципам, см. Анекдот о святом Вульфстане.) Эсме находит серьги и надевает их, но Уайатт к тому моменту уже отверг ее. Только на последней странице он понимает их важность; намереваясь передать их своей дочери. Тем самым он демонстрирует нам распознавание эмоций в себе, и в особенности – самой сильной и свободной эмоции из всех: любви[107]107
107. Стивен/Уайатт говорит Лади: «Теперь они меня ждут», – видимо, имея в виду Пастору и ее еще не рожденного ребенка. «Ее серьги, сказал он, – вот для чего они» (900; ср. С ребенком из эпиграфа к этой главе). См. Кёнига для понимания изначального замысла Гэддиса в отношении дочери (Kuehl and Moore, 24–25), и ср. Р., 127 для понимания давнего желания Уайатта иметь дочь.
[Закрыть]. Но не сентиментальной любви романтиков, не похоти сенсуалистов. В любви, что обретает Уайатт, больше не эроса, а агапе: милосердия, внимания, заботы. «Милосердие – это испытание», – ранее признавался Уайатт, но к этому испытанию он психологически подготовился только к концу романа. Важно отметить, что девиз Августина, который выбирает Уайатт, звучит как „Dilige et quod vis fac“ («Люби – и делай, что хочешь»), а не более популярная версия „Amo et fac quod vis“; то есть Уайатт предпочел глагол со смыслом «почитать и заботиться», а не глагол со смыслом «любить страстно»[108]108
108. Оба выражения – из Оксфордского словаря цитат, возможного источника Гэддиса.
[Закрыть]. Этот тип любви восхваляется у Элиота в «Четырех квартетах»; для Уайатта он означает новое начало, не конец, ведь, как утверждает Элиот, этот вид любви не перестает быть испытанием.