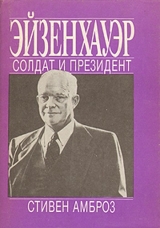
Текст книги "Эйзенхауэр. Солдат и Президент"
Автор книги: Стивен Амброз
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 51 страниц)
Давление на него все больше усиливалось. Пол Хоффман, который вызывал восхищение Эйзенхауэра, писал ему 5 декабря: "Хотите вы того или нет, но вам придется считаться с тем фактом, что вы единственный сегодня, кто способен: 1) спасти Республиканскую партию, 2) установить в Соединенных Штатах вместо царящей ныне атмосферы страха и ненависти атмосферу доброжелательства и уверенности, 3) повести страну по дороге к миру"*58. Клей, Робинсон и множество других, к кому Эйзенхауэр испытывал чувство уважения, засыпали его подобными письмами. Олдрич прислал ему результаты опроса, проведенного в Техасе, говорившие о том, что в этом штате он одержит легкую победу.
Подобная перспектива – все, что ему нужно сделать, это сказать "да", и он может стать президентом, а будучи президентом, может спасти страну – заставляла его не отвергать усилий, предпринимавшихся сторонниками. И еще убеждение, что "президентство – это такая вещь, которой никогда не следует домогаться, но от которой никогда не следует отказываться"*59.
Наконец, 8 декабря настал, как говорит Эйзенхауэр, критический момент. Лодж передал ему, что он просто должен вернуться в США и сделать заявление о своем участии в выборах, иначе "все усилия напрасны". Эйзенхауэр ответил немедленно и – отрицательно. Мое включение в предсъездовскую суматоху, сказал он, "будет означать неисполнение воинского долга – чуть ли не нарушение присяги"*60. По этой причине усилия, "которые вы и ваши ближайшие политические соратники теперь предпринимаете, должны, следуя логике, быть прекращены". Он хотел, чтобы Лодж объявил: поскольку те, кто поддерживает Эйзенхауэра, пришли к заключению, что его выдвижение невозможно без его личного активного участия, а "мне невозможно в моем положении командующего участвовать" в избирательной кампании, организация "Граждане за Эйзенхауэра" должна быть распущена. В дневнике, подчеркнув эти выводы, он написал: "Ура!"*61 С политикой было покончено – или так ему казалось.
Однако выйти из игры было не так просто. Убеждать его прилетел Стассен. Клей прислал большое письмо, фактически обвиняя Эйзенхауэра в нарушении слова, которое он им дал в аэропорту Лагуардиа: "...если группа сможет доказать, что это ваш долг, вы вернетесь домой по их совету"*62.
Прилетели Клифф Робертс и Билл Робинсон. Он сказал им, что "действительно, без дураков, испытывает нечто среднее между отвращением и гадливостью", что его "больше интересует успех его (НАТО) миссии, чем идея стать президентом". Но потом он снизошел до них, дал оценку политической ситуации, как он ее видит, и свой прогноз ее развития.
Есть резон, сказал он, ему оставаться на своем посту и не выступать с политическими заявлениями. Во-первых, его успех в Европе это sine qua поп (непременное условие.– Пер.) успеха попытки стать президентом. Он не может заявить о своих притязаниях до заседания Совета НАТО в Лиссабоне в конце февраля или до своего выступления с годовым отчетом в апреле. Затем, «ищущий никогда не будет столь популярен, как нашедший. Людям нравится тот, кто умеет сделать то, что им, как они думают, не по силам». Его неучастие в предсъездовской борьбе будет гарантией, что он не замешан ни в каких сделках, не давал никаких обязательств. Вернись он в Штаты и начни кампанию, ему пришлось бы ввязаться в жаркие споры по разным острым вопросам, и он «потеряет больше сторонников, чем приобретет». Далее, его оппоненты станут нападать на него откровеннее и грубее, чем они позволяют это себе сейчас, пока он главнокомандующий НАТО. Избегая дебатов с Тафтом, он, возможно, предотвратит раскол в партии и ожесточенное личное их соперничество.
Аргументы были весомые и убедили его друзей. Робинсон пришел к заключению, что, "пожалуй, оставаясь в Европе, можно приобрести больше, чем потерять"*63.
Робинсон изложил Лоджу доводы Эйзенхауэра против возвращения домой и объявления его принадлежности к Республиканской партии. Лоджа они не убедили. Да, позиция генерала, согласился он, поможет победить на всеобщих выборах, но не на съезде партии. Заботой Лоджа было обеспечить поддержку делегатов, но он не мог склонить их на сторону человека, который даже не признается, что он республиканец. Лодж решил разрубить узел. 6 января 1952 года он объявил, что вносит Эйзенхауэра в список от республиканцев на предварительных выборах в штате Нью-Хэмпшир. На вопросы репортеров Лодж отвечал, что Эйзенхауэр конечно же республиканец, что он примет свое выдвижение, если таковое состоится, и что генерал сам подтвердит это его заявление.
Эйзенхауэр был в ярости. Выходка Лоджа, сказал он Робертсу, "неприятно поразила меня"*64. Он послал разносное письмо Клею, а затем сделал весьма сдержанное заявление. Он не подтверждал прямо слова Лоджа о том, что он республиканец, но признавал, что голосовал все же за эту партию. Он не сказал, что примет свое выдвижение съездом республиканцев, но все же признал, что Лодж со своими союзниками имели право "в будущем июле возложить на меня долг, который превзойдет обязательство, лежащее на мне сегодня". Он не одобрил деятельности "Граждан за Эйзенхауэра", хотя добавил, что все американцы свободны "объединяться в поисках общности взглядов". Он завершил обещанием: "Ни при каких обстоятельствах не попрошу я освободить меня от занимаемого ныне поста, чтобы добиваться выдвижения на политический пост, и не приму участия в... предсъездовской работе"*65.
Но события продолжали нести его в другом направлении. 21 января Трумэн представил на утверждение Конгресса проект бюджета с четырнадцатимиллиардным дефицитом, и Эйзенхауэр диктует яростный протест, занявший в его дневнике восемь страниц. 8 февраля Герберт Гувер, Тафт и шестнадцать других видных республиканцев выступили с совместным заявлением, где настаивали на том, что "американские войска нужно возвратить домой" из Европы. Эйзенхауэру трудно было решить, какое из двух зол меньше – опасность банкротства страны или ее изоляция, но он чувствовал, что обязан предотвратить и то, и другое.
Но было еще и давление со стороны тех, кто его любил и нуждался в нем. Он, безусловно, желал, чтобы на него оказывали такое давление. Друзья и политики не уставали повторять, как американский народ жаждет видеть его во главе государства, и 11 февраля он получил волнующее свидетельство того, насколько они правы. Жаклин Кокрэн, знаменитый авиатор и супруга финансиста Флойда
Одлума, прилетела в Париж, привезя с собой двухчасовой фильм о митинге в поддержку Эйзенхауэра, состоявшемся в Мэдисон-сквер-гарден в полночь, после матча по боксу. Митинг был тщательно организован друзьями Эйзенхауэра и "Гражданами...". Несмотря на то что городские власти (все, конечно, демократы) не оказали им – по словам Кокрэн – ни малейшего содействия, собралось около пятнадцати тысяч человек. Фильм запечатлел толпу, поющую в унисон: "Мы хотим Айка! Мы хотим Айка!" – размахивающую флагами и плакатами с надписями: "Я люблю Айка". Эйзенхауэр и Мейми смотрели фильм у себя в гостиной и были глубоко взволнованы.
По окончании фильма Эйзенхауэр предложил Кокрэн выпить. Когда они подняли бокалы, она выпалила: "За президента!" Позже Кокрэн вспоминала: "Я была первой, кто сказал ему такое, и у него слезы хлынули из глаз... Они просто бежали по его лицу, он был так потрясен... А потом он начал рассказывать о своей матери, об отце и всей семье, но больше о матери, и говорил целый час".
Кокрэн сказала ему: он должен заявить о своем согласии баллотироваться и непременно возвращаться в США, "я заявляю вам со всей определенностью, что, если вы не сделаете заявления, кандидатом станет Тафт". Эйзенхауэр попросил ее возвратиться в Нью-Йорк и передать Клею, что ждет его для разговора, и добавил: "Можете сказать Биллу Андерсону, что я намерен выставить свою кандидатуру"*66.
11 марта 1952 года Эйзенхауэр обошел Тафта и Стассена на предварительных выборах в штате Нью-Хэмпшир, собрав 50% голосов против их 38% и 7% соответственно. Спустя неделю в штате Миннесота имя Эйзенхауэра вписали в бюллетень 108 692 человека, а Стассена в его родном штате – 129 076 (Тафт не принимал участия). Поскольку Стассен приватно заверил Эйзенхауэра в своей поддержке на съезде, можно было приплюсовать и его голоса. Прогнозы подтверждались.
Он был совершенно счастлив. Роберт Андерсон, сорокадвухлетний юрист, политик и финансист из штата Техас, прилетевший в Париж для консультации с кандидатом о Федеральной резервной системе, нашел Эйзенхауэра "работающим до изнеможения", чтобы успеть завершить все дела в НАТО и подготовиться к избирательной кампании*67. Эйзенхауэр собирался вступать в сражение не для того, чтобы терпеть поражение. Как-то он сказал Робинсону: "Если я когда-нибудь ввяжусь в эту драку, то буду бить сплеча и бить до тех пор, пока окончательно не добью противника"*68. Он был готов к тому, чтобы начать "бить", хотя еще не был готов объявить об этом. Джорджу Слоуну из автомобильной компании "Крайслер" он говорил так: "Преждевременное израсходование боеприпасов в сражении означает неминуемое поражение – все должно быть рассчитано так, чтобы давление на противника постоянно усиливалось, и, когда оно достигнет максимального, это будет момент победы"*69. Как частное лицо он писал пространные письма друзьям-помощникам с жалобами на высокие налоги и чиновный аппарат; он рассчитывал, что друзья будут распространять их. Он регулярно тайно встречался с видными политиками-республиканцами. Он заверил техасцев, что он на их стороне, а не на стороне федерального правительства в вопросе о спорной нефти. Врачей уверил, что категорически против огосударствления медицины. Писал большие дружеские письма Дрю Пирсону с рассуждениями о противостоянии христианства коммунизму. Завязал переписку с губернаторами-республиканцами.
Он продолжал вооружаться, готовясь к сражению. Попросил экспертов подготовить материалы по ипотечным делам, по субсидиям фермерам, муниципальному жилью и великому множеству других вопросов. Обратился с просьбой к Джону Фостеру Даллесу представить ему доклад по проблемам взаимоотношений с русскими. Герб Браунелл прибыл в Париж сообщить Эйзенхауэру, что, благодаря стараниям Дьюи, нью-йоркская делегация твердо стоит за генерала, и то же самое он обещает со стороны других делегаций Восточного побережья. Они обсудили механику предвыборной борьбы, план действий, речи, платформы, организационные меры и такие вещи, как вопросы социального обеспечения, расовых отношений и бюджета.
Теперь он был настоящим кандидатом, без всяких побочных обязанностей. Его сторонники обрушились на него с советами, что говорить по тому или иному вопросу. Советы частенько были циничными. "Похоже, что необходимо обходить какие-то из возникающих вопросов, – писал он Милтону. – Думаю, я чувствую разницу между убеждениями человека и тем, что он считает политически целесообразным"*70. Политикам хотелось, чтобы Эйзенхауэр "занял свою позицию". Он сопротивлялся. "Откровенно говоря, – признавался он Клею, – я не считаю ни расовые, ни трудовые отношения столь уж важными. И я не верю, что конфликты, возникшие на этой почве, могут быть разрешены суровым законодательством или заявлением, сделанным на пресс-конференции"*71.
Стоило ему высказаться по тому или иному поводу, и он попадал в неприятное положение. Когда стало известно его протехасское заявление, встревоженный Лодж написал ему: позиция Эйзенхауэра повредит ему в северо-восточных штатах, следует отказаться от явной поддержки требований Техаса. Эйзенхауэр ответил: "Вынужден заметить, что я верю в то, во что верю". Он пояснил, что первоначальный договор между Техасом и Соединенными Штатами отдавал спорную нефть Техасу, что, как он полагает, исчерпывает тему. Он добавил, что не намерен "приспосабливать свои мнения и убеждения к узкой прорези ящика для избирательских бюллетеней"*72.
Эйзенхауэр пребывал в мрачном настроении от всех этих противоречивых советов, от всего того, что Браунелл рассказал ему о тяжести избирательной кампании, когда приходится отбивать атаки, которые Тафт и его люди предпринимают против Эйзенхауэра, опровергать лживые обвинения в его адрес, которые то прекращаются, то возникают вновь. "Скоро я возвращусь домой, – писал он Клиффу Робертсу 19 мая, – и первый раз в жизни я просто в ужасе от того, что мне нужно возвращаться в свою собственную страну"*73.
Почему ж он тогда собирался возвращаться? Из всех доводов, которые ему приводили, чтобы побудить к возвращению, три были решающими. Первый – что это его долг; и выставил этот довод его брат Милтон. Милтон был против его ухода в политику, поскольку этим он ставил под угрозу свою репутацию и место в истории, не говоря уже о том, что придется жертвовать личной жизнью. Но когда Милтон говорил Дуайту, что, если тот не вступит в борьбу, народ вынужден будет выбирать между Тафтом и Трумэном и что перед лицом такого бедствия любая жертва оправданна, Дуайт вынужден был с ним согласиться. Второй – мандат оказанного ему доверия; и женщина, которая ясно показала ему, что он обладает этим мандатом, была Жаклин Кокрэн. "Даже если мы согласны со старой поговоркой: глас народа – это глас Бога, – писал Эйзенхауэр Клею, – не всегда легко определить, чего он хочет"*74. Волнующий показ митинга в Мэдисон-сквер-гарден, устроенный Жаклин Кокрэн, убедил: народ хочет его.
Но решающий довод был представлен Биллом Робинсоном, когда они сидели в самолете в аэропорту Лагуардиа. "При любых обстоятельствах вы не сможете избавиться от тревоги за будущее страны, – сказал тогда Робинсон, – а лидеру меньше придется испытывать разочарований, чем стороннему наблюдателю"*75. Дело в том, что Эйзенхауэр был не готов удалиться от дел и оставить свою страну другим. В шестьдесят один год он был крепок здоровьем. Действительно, несмотря на раздражение, проявлявшееся, когда его тянули и толкали в разные стороны, большинство наблюдавших его в то время считали, что он никогда не выглядел лучше. Все последние десять лет он работал по двенадцать – четырнадцать часов в сутки без выходных. Он был очень увлечен, целиком поглощен своим делом.
И, несмотря на скромность, он был совершенно уверен в себе, уверен в том, что из всех кандидатов в лидеры нации он лучше всех подготовлен к этому трудному делу. Хотя он никогда в этом не признавался даже себе, он знал, что он сообразительнее, опытнее своих соперников, его принципы выше, и потому именно он тот человек, который должен повести Америку через мировой кризис. Он хотел, чтобы его страну вел лучший, и в конце концов решил, что он и есть тот лучший и что он должен послужить ей.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
КАНДИДАТ
1 июня Эйзенхауэр вернулся в США. На следующий день он нанес визит вежливости Трумэну. Они заговорили о политике. Люди Тафта уже распускали слухи о мнимом пристрастии Мейми к выпивке, о возможном еврейском происхождении Эйзенхауэра, его предполагаемой тайной и долгой любовной связи с Кей Саммерсби и прочую ложь. Выразив ему сочувствие, Трумэн сказал: «Если кончится только этим, Айк, считай, что тебе просто повезло»*1. После встречи Эйзенхауэр улетел в Канзас-Сити. Там он должен был встретиться с Дэном Торнтоном из штата Колорадо, здоровенным, улыбчивым, общительным типом в ковбойских сапогах и широкополой ковбойской шляпе. «Здорово, браток!» – прогудел Торнтон, увесисто хлопнув Эйзенхауэра по спине. Репортер писал: "Наступил напряженный момент, когда генерал сверкнул глазами и напряг спину. Затем он овладел собой, холодное выражение сменилось улыбкой, он протянул руку и сказал: «Здорово, Дэн!»*2
Политика, американский стиль. В Англии, с горечью отмечал Эйзенхауэр, люди "выставляют" свою кандидатуру, а в Америке они должны ее "выдвигать", двигать. Он опасался, что возненавидит всю эту процедуру; теперь он видел, что опасался не напрасно. И все же он обещал Биллу Робинсону, что "если я когда-нибудь ввяжусь в эту драку, то буду бить сплеча"*3. Он был полон решимости победить, даже если ради этого придется сносить гнусную клевету о его личной жизни, бессмысленные нападки на его репутацию, оскорбления его достоинству. Придется также заставлять себя угождать тем, в чьей поддержке он нуждается, а порой и приспосабливать свои убеждения к их желаниям.
В Республиканской партии в 1952 году, после двадцати лет отрешения от власти и ответственности, царили разочарование, озлобленность, критиканство. Лучшее, на что она была способна, это критиковать, обвинять, обличать. После провозглашения "Нового курса" Эйзенхауэр ко всему этому относился с полным пониманием, хотя в таких специфических вопросах, как социальное обеспечение, он был склонен занимать умеренную позицию. Что же до внешней политики, тут ему было сложней. Обвинение, брошенное Джорджем Маршаллом Макартуру ("это часть заговора настолько широкого, настолько бесчестного, что с ним не сравнится по гнусности ни один другой заговор во всей человеческой истории), малость выходило за рамки того, что позволило бы себе большинство республиканцев, но только самую малость. Но чтобы победить Тафта, Эйзенхауэр должен был отыскать себе сторонников среди республиканцев Среднего Запада и Западного побережья – людей, которые голосовали против плана Маршалла и НАТО. По этой причине его первые выступления будут обращены не к нации, а больше к правому крылу "Великой старой партии". А для старой гвардии самыми страшными из всех предательств, совершенных демократами за их "двадцать лет измены", были Ялта и потеря Китая. Вся их ненависть к Рузвельту сфокусировалась на Ялтинской конференции, а к Трумэну – на потере Китая.
Так вот, дело в том, что Эйзенхауэр был одним из главных проводников политики Рузвельта в Европе во время войны, стоял во главе КНШ при Трумэне, когда был "потерян" Китай. Едва ли Эйзенхауэр действовал тогда против своих убеждений. Как ни крути, как ни виляй, ни объясняй своих действий, невозможно откреститься от того, что он верно и с настоящим энтузиазмом помогал Рузвельту осуществлять его политику. Отказ Эйзенхауэра соревноваться с русскими в том, кто быстрей дойдет до Берлина, и его старания установить хорошие отношения с Жуковым во второй половине 1945 года больше всего помогли подписанию Ялтинских соглашений. Его тесное сотрудничество с Администрацией Трумэна в 1948 и 1949 годах предполагало по меньшей мере согласие с политикой в отношении Китая. Эти факты были самым серьезным препятствием в борьбе за выдвижение. Он сознавал это, как и то, что должен это препятствие преодолеть.
В первых же своих выступлениях он успокоил старую гвардию. Он, сказал Эйзенхауэр, враг инфляции, чрезмерных налогов, сосредоточения всей власти в руках правительства, против нечестности и коррупции и так далее. Больше всего он сожалеет о тайне, окутывавшей Ялтинский договор, и о потере Китая. Несмотря на то что он все же осудил "полную бесперспективность политики изоляции"*4, его упоминание Ялты и Китая было тем, что хотели услышать от него еще колеблющиеся делегаты; эти выступления задали тон всей предвыборной кампании Эйзенхауэра.
Неделю он провел в Нью-Йорке, встречаясь с делегациями восточных штатов. Самой важной была встреча с делегацией от штата Пенсильвания, которая раскололась: 20 человек было за Айка, 18 – за Тафта и 32 еще не решили, за кого голосовать. Встреча прошла успешно; Эйзенхауэр обменивался с политиками шутками, отвечал на вопросы просто и откровенно, как это ему свойственно, показал, что в случае чего за словом в карман не лезет. Когда его спросили, готов ли он вести решительную кампанию, он отреагировал так: "Забавный вопрос для того, кто сорок лет своей жизни провел в сражениях"*5.
С губернатором Шерманом Адамсом Эйзенхауэр впервые познакомился, когда к нему на Морнингсайд-драйв пожаловала делегация от штата Нью-Хэмпшир. Адамс мало кому нравился по-настоящему – худой, нервный, резкий до грубости, с лицом, словно высеченным из нью-хэмпширского гранита, в обращении холодный, как нью-хэмпширская зима, но Эйзенхауэр разглядел в нем многие из тех качеств, которыми обладал Беделл Смит, и угадал, что он способен стать столь же преданным и расторопным помощником. Поэтому когда Лодж предложил пригласить его на роль координатора сторонников генерала на съезде партии, Эйзенхауэр согласился.
Проведя неделю в Нью-Йорке, Эйзенхауэр отправился на поезде в Денвер, сделав по пути остановку, чтобы выступить перед сорока тысячами людей, собравшихся на Кадиллак-сквер в Детройте. У него была с собой заготовленная заранее речь, но он объявил, что не желает ею пользоваться, а будет говорить так, как подсказывает ему сердце. Он уверил, что не несет личной ответственности за ту завесу тайны, которой дипломаты окутали конференции в Ялте и Потсдаме, и что решение не вступать в Берлин было решением политическим, влиять на которое было не в его власти. Защищая такое решение и, в сущности, противореча себе, он напомнил собравшимся, что "никто из этих нынешних храбрецов еще не предложил отправиться туда, взяв с собой десять тысяч американских матерей, чьи сыновья должны были отдать жизнь, чтобы захватить никому не нужные развалины". Он закончил, декламируя "Клятву верности", которую толпа повторяла за ним*6.
В Денвере он сделал своим штабом отель "Браун-пэлис", где принимал делегации со Среднего Запада и Западного побережья. 26 июня он выступил перед одиннадцатитысячной аудиторией, собравшейся в "Денвер-колизеум", с обращением, которое транслировалось по национальному радио и телевидению. Эйзенхауэр осудил Ялтинские соглашения, возложил на демократов вину за потерю Китая и обвинил Трумэна в излишней мягкости по отношению к коррупции внутри страны и к коммунизму за ее рубежами. "Если б мы были не столь уступчивы и слабы, возможно, не случилось бы войны в Корее!" Он подтвердил свою приверженность разумной бюджетной политике: "Обанкротившаяся Америка – это беззащитная Америка"*7.
На следующее утро он отправился в десятидневную поездку по Великим равнинам, стране Тафта. Он имел приватные беседы с политиками, а на выступлениях упор делал на те конкретные обещания, которые мог выполнить. Все это составило удачное начало, но отнюдь еще не значило, что он добился полного успеха. Делегаты из тех, кого называли старой гвардией, с удовольствием встречались с генералом; на них производили впечатление как он сам, так и реакция, которую его позиция в вопросах внешней политики вызывала у их избирателей; они были удовлетворены тем, что, судя по его взглядам на внутреннюю политику, на него можно положиться. Но их сердца принадлежали Тафту, а если не сердца, то мандаты, потому что Тафт держал под контролем аппарат партии и годами взращивал партийных ортодоксов, которые формировали делегации. Накануне съезда агентство "Ассошиэйтед пресс" подсчитало, что за Тафта готовилось голосовать 530 делегатов, за Эйзенхауэра – 427.
Многие делегаты все еще тяжело переживали поражение партии в 1948 году, и "мистер республиканец" был полон решимости использовать свое преимущество, чтобы остановить Эйзенхауэра, представив его подставным лицом ненавистного Дьюи. Тафт был во всеоружии своего отточенного мастерства бывалого политика. Он, кроме прочего, был сыном Уильяма Говарда Тафта, человека, который в 1912 году боролся за выдвижение против самого популярного республиканца начала XX века – Теодора Рузвельта.
Делегации от южных штатов были у Тафта в кармане, как и у его отца в 1912 году. Лодж вознамерился переманить их на сторону Эйзенхауэра. В результате сложной парламентской процедуры Лодж добился, чтобы съезд проголосовал поправку о "честной игре", в которой почти никто из делегатов ничего не понял, кроме того пункта, где говорилось: голос, отданный за "честную игру", считается отданным за Айка. Лоджу с огромным трудом удалось протащить поправку. Все решила помощь сенатора Ричарда Никсона, который исхитрился заставить губернатора Эрла Уоррена скомандовать калифорнийской делегации голосовать за "честную игру" (и лишить себя шанса стать компромиссной кандидатурой).
Напряжение, царившее на съезде, спало. И Эйзенхауэр выиграл в первом туре.
После победы первым побуждением Эйзенхауэра было сделать жест примирения. Он позвонил Тафту и спросил, нельзя ли заглянуть к нему – для этого ему нужно только улицу перейти. Удивленный Тафт ответил: "Приходите". Советники Эйзенхауэра, люди, которые добились победы в позиционной войне с силами Тафта и еще кипели от злости (некоторые из них чувствовали себя оплеванными), были против. Им хотелось отпраздновать победу, а визит к Тафту, сказали они, отравит им все настроение. Но Эйзенхауэр был теперь кандидатом, человеком, который командует парадом. С этих пор его штаб не будет указывать ему, что делать; и он настоял на своем.
Эйзенхауэр поступил так по той причине, что, хотя его и могли сбить с толку действия политиков, собравшихся на съезд – арену, где даже прожженный профессионал, вроде Тафта, мог потерпеть поражение, он лучше любого политика знал, как должен действовать лидер на арене страны. Он был полон решимости возглавить команду, а чтобы такую команду создать, ему нужно было сплотить Республиканскую партию и действовать вместе с людьми Тафта. Но не для того, чтобы обеспечить себе победу в ноябре, которая, как ему говорили и как он сам верил, ему обеспечена. Он хотел, он должен был создать команду, чтобы править страной начиная с января 1953 года. Чтобы выполнить свою программу, ему нужна была сплоченная Республиканская партия. Не личные цели он преследовал, добиваясь президентства, и поэтому он не торжествовал по поводу личной победы над Тафтом. Не об этом подумал он в первую очередь, а скорее о том, что нужно привлечь Тафта в команду, потому что без него не будет и самой команды, нельзя будет свершить задуманное.
Сама встреча не была примечательной. Полчаса ушло у Эйзенхауэра, чтобы пробиться сквозь толпу радостных сторонников. Когда наконец он добрался до номера Тафта в гостинице (миновав в холле горюющих помощников Тафта), он сказал сенатору: "Сейчас неподходящий момент для серьезного разговора; вы устали, и я тоже. Я только хочу сказать, что желаю быть вам другом и надеюсь, что и вы будете мне другом. Надеюсь также, что мы будем работать вместе"*8. Тафт поблагодарил его; они спустились в холл, к фотографам; и Эйзенхауэр отправился к себе, в отель "Блэкстоун".
Вот и вся встреча. Но когда Эйзенхауэр вышел на ту чикагскую улицу, он вышел на дорогу длиной в восемь лет, дорогу, которая привела его к примирению со старой гвардией на основе принятия старой гвардией НАТО и всего того, что за ней стояло. Все время своего президентства Эйзенхауэр не сворачивал с этой дороги, пусть и сетуя частенько на безнадежность, непробиваемость и вероломство некоторых правых сенаторов-республиканцев. По-настоящему он так и не дошел до них, и правое крыло ни разу не вышло из своего угла, чтобы встретить его на полпути. Но он никогда не прекращал попыток просветить и смягчить старую гвардию.
Второй шаг Эйзенхауэра на этой дороге – выбор напарника. Советники полностью были согласны с его решением, потому что им тоже были ясны требования, которые ситуация предъявляла к кандидатуре напарника. Эти требования, в порядке важности, были таковы: заметная фигура из старой гвардии, приемлемая, однако, для умеренных, особенно для людей Дьюи; известный антикоммунистический деятель; человек энергичный и решительный в избирательной кампании; относительно молодой, чтобы компенсировать возраст Эйзенхауэра; человек с Западного побережья, тоже для баланса, поскольку Эйзенхауэра связывали с Дьюи и Нью-Йорком; человек, внесший вклад в выдвижение Эйзенхауэра. Единственный, кто удовлетворял всем требованиям, был, как прекрасно знал Эйзенхауэр, Ричард Никсон. На том и порешили. Браунелл позвонил Никсону и попросил прийти в "Блэкстоун" для встречи с Эйзенхауэром.
Эйзенхауэр держался сухо и официально. Он сказал Никсону, что намерен превратить избирательную кампанию в поход за все то, во что он верует и на чем стоит Америка.
– Присоединяетесь ли вы ко мне, чтобы участвовать в такой кампании?
Никсон, озадаченный высоким слогом Эйзенхауэра, ответил:
– Я был бы горд и счастлив принять участие.
– Рад, что вы хотите быть в моей команде, Дик, – сказал Эйзенхауэр. – Думаю, мы победим, и уверен, мы сможем сделать то, чего страна ждет от нас.
Потом он хлопнул себя по лбу:
– Только сейчас вспомнил, я же еще не уволился из армии!
Он продиктовал телеграмму министру с просьбой об отставке. У присутствовавших при этом Милтона и Артура Эйзенхауэров слезы навернулись на глаза*9.
Третьим шагом по дороге примирения со старой гвардией было принятие платформы партии. Это был документ исключительно правого толка; заверяя, что он сможет и намерен вести кампанию о позиции этой платформы, Эйзенхауэр достигал единства партии*10. Платформа обвиняла демократов в том, что они "защищают изменников нации в высших сферах", и ханжески заявляла: "В Республиканской партии нет коммунистов". "Великая старая партия" (ВСЦ) обещала "назначать на посты только лиц, чья лояльность не подлежит сомнению". В той части программы, где говорилось о внешней политике, и написанной Джоном Фостером Даллесом, надеявшимся стать государственным секретарем, ВСП клялась "отречься от всех обязательств, содержащихся в секретных соглашениях, подобных ялтинскому, которые способствовали установлению коммунистического рабства". В ней содержалось проклятие трумэновской политике сдерживания (главная роль в которой отводилась НАТО) как "негативной, бесплодной и аморальной", потому что сдерживание "оставляет огромные массы людей во власти деспотизма и безбожного терроризма". Далее в открытом обращении, направленном не только к старой гвардии, которая и без того с 1945 года обрушивалась на Ялтинские соглашения, но также к простому избирателю, демократу-язычнику, даллесовская платформа заверяла, что республиканская Администрация будет "всемерно способствовать подлинному освобождению тех порабощенных народов" Восточной Европы, которых демократы "оставили... один на один с коммунистической агрессией". (На деле же старая гвардия являла собой удивительное сборище изоляционистов. Они сомневались в разумности оказания помощи Западной Европе, но заявляли о готовности освобождать Восточную Европу и Азию.) По настоянию Эйзенхауэра в текст платформы был включен пункт о поддержке НАТО, но, чтобы уравновесить это положение, отвергались любые попытки пожертвовать Дальним Востоком для защиты Западной Европы*11.








