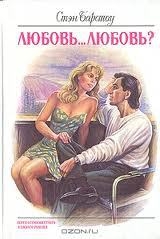
Текст книги "Любовь... Любовь?"
Автор книги: Стэн Барстоу
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 26 страниц)
– Привет, Вик.
– Здорово, Лес. Что это ты устроил себе с рукой?
– Все женщины, – говорит Лес. – И бедра же с ней. – И со смехом опускается на стул. – В пятницу произошла у меня стычка со сверлильной машиной.
– И сильно тебя прихватило?
– Содрало всю шкуру с руки и отсекло кончик пальца.
– С ума сойти!
Лес потягивает чай, а я вынимаю коробку сигарет и предлагаю ему:
– Окажи внимание «Королеве Виктории».
Сам я тоже беру сигарету, и мы закуриваем. Лес затягивается так, точно не курил неделю.
– Именно то, что мне нужно, – говорит он. – Я ведь сейчас из поликлиники. Придется ходить тупа каждое утро на перевязку.
– Наложили лубок?
– Нет, дела мои не так уж плохи. Но в пятницу, когда это со мной случилось, руку стали класть в гипс. Так я тут же чуть богу душу не отдал. У них там в
87
«Скорой помощи» работают сестрами этакие здоровенные ирландки. Я сказал сестре, что человеку надо бы чего-нибудь давать, прежде чем его чинить. «Что, такому-то парню? сказала она. – Ишь какая неженка!»
– Ну, тогда я тоже неженка, если уж на то пошло, – говорю я ему. Смотрю на его забинтованную руку, представляю себе, как она выглядит под бинтами, и невольно покрываюсь холодным потом.
– А ты что тут делаешь в такой ранний час? – спрашивает Лес.– Сачкуешь?
– Нет, просто отвозил письмо своему начальнику. Он заболел.
– А сейчас прохлаждаешься за счет фирмы, а?
– Совершенно верно.
– Недурно вам живется, конторским крысам.
– Не прибедняйся. Сам виноват, что ходишь в спецовке, а не в белой рубашке с галстуком. Кончишь среднюю школу, чтобы сверлить дырки в металле?!
– А я люблю что-то делать руками. Мне это всегда нравилось. Я никогда не мог высидеть целый день за столом. Слишком похоже на школу... Послушай, знаешь, кого я сейчас встретил? Старика Держиморду.
– Иди-ка ты!
– Ей-ей!
– Старик Держиморда... Давненько я его не видал. Он с тобой разговаривал?
– Еще бы. Я с ним поздоровался, он остановился и внимательно оглядел меня. Ну знаешь, как он это всегда делал: сначала поверх очков, а потом сквозь них. Поглядел и говорит: «Это кто же – Джексон? Да, конечно, Джексон. О господи, мальчик, что ты сделал со своей рукой?» Мы, наверно, добрых десять минут стояли и болтали о том о сем. Подумать только, что он вспомнил, как меня зовут.
– Да ведь он совсем не плохой малый, этот Держиморда. Бывают куда хуже.
– Пожалуй!
– Он не вспоминал про то как мы тогда зашили рукава у его халата?
Мы смеемся, затем Лес отодвигает чашку, облокачивается на стол и, понизив голос, спрашивает:
– Слыхал анекдот про парня с деревянной ногой, который отправился в свадебное путешествие?
88
– Нет, не слыхал.
На работу я возвращаюсь в половине двенадцатого и сразу несу конверт Миллеру.
– Вы видели мистера Хэссопа? – спрашивает он меня.
– Нет, только его жену.
– По-видимому, это была его сестра:мистер Хэссоп не женат. Она не сказала, как он себя чувствует?
– Она сказала, что все тут, в конверте.
Миллер недоумевающе смотрит на меня: шучу я, что ли?
– Что значит «в конверте»?
– Так она сказала. Я спросил, как он себя чувствует, а она сказала, что все тут, в конверте.
Миллер вертит конверт в руках. Он адресован мистеру Олторпу, так что Миллер не может его вскрыть.
– А вы когда-нибудь видели ее, эту его сестрицу? – спрашиваю я; здесь, в бюро, мне начинает казаться, что она мне привиделась.
– Нет. Я не очень-то посвящен в личную жизнь мистера Хэссопа. Он человек скрытный.
– И неудивительно. Ей-богу, Джек, я такой странной особы в жизни не встречал. – Принимаюсь подробно рассказывать ему обо всем, а он стоит, прислонившись спиной к своему столу, и то а дело поправляет указательным пальцем съезжающие на кончик носа очки.
– М-м-м-м, – произносит он, когда я заканчиваю свой рассказ. – Об этом лучше никому не говорить у нас в бюро. Ни к чему тут обсуждать личную жизнь мистера Хэссопа.
Я говорю: «Да, конечно». Миллер берет конверт и направляется с ним к мистеру Олторпу. На пороге он оборачивается.
– Так вы говорите, у нее капот оторочен у ворота перьями? – спрашивает он.
– Мне, во всяком случае, показалось, что это перья.
– М-м-м, – снова произносит он и семенит вон из комнаты. А я возвращаюсь к своей доске.
– Ну, как поживает сегодня великий друг чертежников? – спрашивает Джимми.
– Все в конверте, – говорю я и принимаюсь хохотать. Эту фразу мы с Джимми возьмем на вооружение после того, как я про все ему расскажу.
89
– Чего ты смеешься? – спрашивает он.
– Потом скажу. – Пожалуй, лучше будет рассказать ему не здесь. Но рассказать придется, потому что я не в состоянии держать это про себя. Я подхожу к его доске и пригибаюсь к самому его уху. – Слышал анекдот про парня с деревянной ногой, который женился и отправился в свадебное путешествие?
Нет, он тоже не слышал.
III
Теперь, когда я принял решение снова пригласить куда-нибудь Ингрид, я уже не могу думать ни о чем другом – все прикидываю, как к этому подойти и что она мне ответит. В обеденный перерыв я вижу ее в столовой, но думать о ней мне мешает Кен Роулинсон своей болтовней о симфоническом концерте, на котором он был в воскресенье вечером в городской ратуше Лидса.
– ...подумать только, какая трагедия: ведь он так никогда и не слышал большую часть своей музыки.
– Что? – отзываюсь я. – Это ты о ком?
– Да о Бетховене.
– То есть как не слышал? Он что, умер молодым?
– Он оглох.
– А как же он мог сочинять музыку, если он был глухой? – Этот зазнайка Роули вечно что-нибудь придумает. Скоро он начнет рассказывать про слепых живописцев.
– Музыка у него была в уме, – говорит Роули. – Он ее нутром слышал. Ему оставалось только ее записать.
– А по-настоящему не слышал?
– Конечно. Эта мура, которую ты видишь в фильмах, когда композитор сидит у рояля и подбирает мелодию, – выдумки Голливуда. Ну, если не выдумки, то, во всяком случае, это сильно преувеличено. Первоклассному музыканту достаточно увидеть ноты, чтобы мысленно услышать музыку. И композитору вовсе пе обязательно слышать музыку, он может просто взять и записать ее на бумаге.
Интересно. Я даже на минуту забываю об Ингрид. Конечно, я не верю всему, что говорит Роули, потому что он великий выдумщик, но я могу проверить это потом у мистера ван Гуйтена. Он-то уж знает.
90
– Первоклассный музыкант, – говорит Роули, – может прочесть оркестровую партитуру так же легко, как обычный человек читает книгу.
– Тогда, значит, он всегда замечает, если кто-то взял не ту ноту?
– Совершенно верно. Есть даже такие музыканты, которые считают, что им никогда не услышать идеального исполнения любимой вещи, поэтому они вообще перестают слушать музыку и только читают партитуры.
– Ну, это все равно что заниматься онанизмом, потому что нет идеальной женщины, – говорит Конрой, сидящий рядом с Роули. Тот заливается краской и больше за весь обед не произносит ни слова.
А я улыбаюсь: правда, я люблю Конроя не больше, чем Роули, но тут он лихо его поддел и сбил с него спесь. Во всяком случае, заставил замолчать, и теперь я снова могу мечтать об Ингрид. Она мне нравится. Мне нравится в ней все. Нравится ее короткая стрижка и этот завиток над ухом. Нравятся ямочки в уголках ее рта и самый рот, полный, нежный, словно созданный для поцелуя. Я вспоминаю, как целовал этот рот. Интересно, буду ли я еще когда-нибудь целовать ее? Она чувствует, что я наблюдаю за ней, и на секунду ее глаза встречаются с моими. Но она тут же отводит взгляд. Можно подумать, что мы никогда и двух слов не сказали друг другу. И не сидели рядом в теплой, душной темноте кино. Можно подумать, что ничего этого не было. В половине четвертого я все еще мечтаю о ней, когда она проходит по нашему залу с блокнотом и карандашом в руке – видимо, идет стенографировать к Миллеру. Я поднимаю глаза от чертежа и провожаю ее взглядом. Какая она стройненькая в этой юбке, и как хороши ее ноги в темных нейлоновых чулках.
– Аппетитная девчонка, правда, Джеф? – говорит кто-то рядом со мной, и я подскакиваю.
Конрой и его дружок Льюис стоят, привалившись к доске Конроя, и смотрят на меня. Оба иронически ухмыляются – это в манере Конроя, а Льюис подражает ему.
– Ну, не удовольствие смотреть на такую? – говорит Конрой.
– Чего это вас разбирает? – спрашиваю я, будто ни о чем не догадываюсь.
– Не скрытничай, мой юный Браун, – говорит
91
Конрой. – Мы же знаем, что ты увиваешься за мисс Росуэлл, нашей сиреной из машинного бюро.
– А какое ваше собачье дело? – огрызаюсь я и, опустив взгляд на доску, делаю вид, будто занят работой.
– В парадные комнаты тебя еще, верно, не впустили, Браун, а? – говорит Конрой. – Все еще маячишь в прихожей и трясешься?
– Какое там: прихожая уже давно пройдена, – давится от смеха Льюис.
Я краснею, мне становится трудно дышать; чувствую, что сейчас взорвусь, но молчу: если им ответить, только хуже будет. Но этого Льюиса я когда-нибудь проучу. Конрой слишком тяжел для меня, а Льюис мне по силам, пусть только откроет не к месту свое хайло, я ему выдам по первое число, если поблизости не будет миротворцев...
А они все не унимаются.
– Я бы на твоем месте утихомирился, Браун, – говорит Конрой. – Эта наша мисс Росуэлл – горячая штучка. Прямо скажем, не тебе чета. Ты уж лучше оставь ее взрослым.
Я стою, не поднимая головы, и делаю вид, будто занят своим чертежом. Но они не отстают. Сердце у меня стучит как молот, карандаш прыгает – я изо всех сил стискиваю его и упираю острием в ватман.
– Знаешь, как ее у нас зовут? – спрашивает Конрой. – Какое у нее прозвище? Мисс Богомол. Ну, а что такое богомол тебе, конечно, известно?
Я молчу, стараясь держать себя в руках, и только жду, чтобы они отстали.
– Так вот: богомол – это насекомое вроде большого кузнечика, и самка, пока трудится с самцом, пожирает его. Заглатывает потихоньку, кусочек за кусочком, и все.
– Ну, а что она оставляет напоследок, об этом ты и сам можешь догадаться, – говорит Льюис, покатываясь со смеху.
– Какие гадости ты говоришь, Конрой, – не выдерживаю я и поднимаю голову. – Занялся бы лучше делом, грязная ты свинья!
– Что такое? – произносит Конрой и выпрямляется. – Ну-ка, повтори еще раз, ты, подонок...
Спасает меня Миллер: в эту минуту дверь его кабинета открывается, и он вызывает к себе Конроя. Тот уходит, а Льюис приближается ко мне и смотрит поверх
92
чертежной доски. Он тщательно выбрит, волосы у него зачесаны назад и разделены прямым, как ниточка, пробором. Говорят, он стрижется каждые десять дней. Он очень заботится о своей внешности, что верно, то верно. Внешне – чище его не найдешь, а внутри – настоящая помойная яма.
– Ты бы поосторожней разевал рот, Браун, – говорит он, – а то как бы тебе уши не надрали.
Тут я не выдерживаю, хватаю Льюиса за галстук и, чуть не задушив, подтаскиваю к чертежной доске.
Только скажи еще слово, и я тебя придушу. – Он беспомощно машет руками, физиономия у него наливается кровью. – Без Конроя ты просто сопляк, запомни это.
Я выпускаю из рук галстук Льюиса и отпихиваю его, он подтягивает узел, явно не зная, как вести себя дальше. Тут в зале появляются Миллер с Конроем и направляются к доске Конроя, а Льюис пользуется этим, чтобы смыться без особого позора.
IV
В понедельник по дороге домой мне не удается поговорить с Ингрид. Но я не теряю надежды: может быть, на следующее утро мне больше повезет. Однако мы с Джимми застреваем в потоке людей, а Ингрид идет впереди с какими-то женщинами.
На работе я наспех нацарапываю ей записку; спрашиваю, можем ли мы вечером встретиться. Скатываю в трубочку несколько чертежей и отправляюсь в копировальную. Стучит машина, снимающая светокопии, мелькают лампы, отбрасывая блики света на стены и на потолок. Тут всем заправляет Фёбе Джонсон, она танцует вокруг машины, словно перед ней механический биллиард в баре. Она целый день так – напевает мелодии калипсо и приплясывает, подергивая в такт плечами и локтями. Ей всего шестнадцать, но она такая аппетитная, глаз не оторвешь – бедра пышные, и две такие чаши спереди, что любая кинозвезда позавидует. Ребята говорят, что с ней просчета не бывает, но все это трепотня: я случайно знаю двух малых, которые встречались с ней, однако ничего не добились. Фёбе жаждет романтики, а парням, которые проводят с ней время, нужно другое.
93
Правда, она, наверно, понимает, что ей придется смириться с этим, когда она вы идет замуж.
Я облокачиваюсь на стол, где обрезают чертежи, и некоторое время смотрю на нее.
– А где Колин?
Она пожимает плечами, не прекращая своего танца.
– Вот уж не знаю.
По правде говоря, я немножко побаиваюсь Фёбе: она может сказать все, что ей взбредет в голову, если что-нибудь взбредет. Она хорошо справляется с работой, ее терпят, но когда-нибудь она скажет кому не следует пару теплых слов, и ее вышвырнут вон. Правда, этим ее не испугаешь: сразу видно, что ей наплевать, даже если ее завтра уволят. Такая уж она девчонка.
– А был он сегодня утром?
– Не видела. – Она делает несколько шажков, потом круто поворачивается и оказывается лицом к лицу со мной. – Не нравится мне ваш галстук.
– А что в нем плохого?
– Не модерновый, такие теперь не носят, – говорит она. – Это стариковский галстук. – Она протягивает руку и преспокойно вытаскивает его у меня из джемпера, чтобы как следует рассмотреть. Потом покачивает головой и, приплясывая, прищелкивая пальцами, снова начинает кружиться у станка.
Я засовываю галстук обратно.
– Какой же, по-вашему, галстук я должен носить?
– Ну, такой узенький, – словом, модерновый. Их полно в магазинах.
– По мне, так пусть бы они все в магазинах и остались. Я даже в гробу такой не надену.
– Ну, если вы хотите походить на своего дедушку...—говорит она.
– На пижона я, во всяком случае, походить не хочу... И что вы все приплясываете, неужели не можете постоять спокойно? Этак у вас скоро будет пляска святого Витта, если ее уже нет.
Фёбе замирает, выпятив свою очаровательную грудь, и тоном герцогини произносит:
– Если вы намерены оскорблять меня, мистер Браун, то лучше покиньте помещение.
Я с улыбкой отхожу от стола и бросаю ей рулон чертежей.
94
– Снимите-ка мне с каждого копию, ладно?
– К какому сроку?
– Когда вам будет угодно, но только чтобы все было готово через десять минут.
Немного погодя я вижу, как Фёбе выходит из копировальной, и устремляюсь туда, чтобы застать юного Лейстердайка одного.
– Послушай, Колин, ты знаешь эту хорошенькую брюнетку из машинного бюро? Ее зовут Ингрид Росуэлл. – Лейстердайк кивает. Он знает всех. Он из тех молокососов с пухлыми щечками, к которым женщины почему-то питают особое пристрастие – то ли в них просыпается материнский инстинкт, то ли что другое. Я вынимаю из кармана записку. – Можешь передать ей это?
Он ухмыляется.
– Подумаю. – Берет записку и кладет ее в карман.
– Но ты понимаешь, что я имею в виду. Чтоб все было шито-крыто.
– Ясное дело.
На душе у меня неспокойно, когда я расстаюсь с ним. Теперь еще кто-то знает о моей тайне, и, если Ингрид даст мне от ворот поворот, я буду выглядеть весьма глупо.
Ответа можно ждать только после обеденного перерыла. В столовой мне удается поймать взгляд Ингрид, и она как будто даже улыбается, но тотчас отводит глаза. Часов около двух Фёбе проходит мимо, бросает мне на доску письмо и во всеуслышание объявляет: «Тут одна девица из машинного бюро просила вам передать». Я опускаю голову и упираюсь лбом в сцепленные руки. Минуты две я сижу так, не смея выпрямиться, – наверняка все вокруг слышали. Жду, чтобы у меня перестали гореть щеки, потом исподтишка озираюсь по сторонам и вижу, что все вроде бы заняты – каждый своим делом. Сую письмо в карман и устремляюсь в туалет, чтобы вдали от всех прочесть его. Я так волнуюсь, вскрывая конверт, что у меня трясутся руки.
Письмо совсем коротенькое.
«Дорогой Вик, – гласит оно, – к сожалению, я не могу прийти сегодня вечером, потому что к нам приехала на несколько дней погостить моя двоюродная сестра. Ингрид».
95
Ну вот. Дошло до тебя наконец или все еще нет? Я слышу, как кто-то открыл кран и моет руки, дергаю за цепочку, распахиваю дверь кабины и возвращаюсь к себе в зал. На душе у меня ужасно тяжело. Всю неделю я хожу с этой тяжестью, до чертиков несчастный, автоматически произвожу какие-то движения и даже не вижу, что я делаю, хоть и сознаю, что рано или поздно это доведет меня до беды. Но вырваться из этого состояния не могу. Понимаю, что я болван, но, когда наступает пятница, чувствую, что просто не могу не попытаться еще раз назначить ей свидание. На этот раз счастье, как в сказке, улыбается мне. А происходит все вот как: я стою один в копировальной, и вдруг заходит она – справиться о каких-то чертежах, которые надо приложить к письму Миллера.
– Право, не знаю, где они, – говорю я, роясь на столе. – Вам придется спросить у Колина. По-моему, он их еще не размножил.
Она говорит, что, мол, ничего не поделаешь, придется сначала закончить письма, а потом наведаться еще раз насчет чертежей и направляется к выходу.
– Послушайте!
Она останавливается, поворачивается, но не смотрит на меня. Видно, догадывается, что сейчас будет, думаю я, и ей не очень-то приятно снова говорить мне «нет».
– Вы... вы чем-нибудь заняты завтра вечером? У вас уже есть что-нибудь на примете?
Она говорит, что нет, кажется, ничего нет, но на меня по-прежнему не смотрит.
Я переминаюсь с ноги на ногу возле стола, изо всех сил стараясь принять безразличный вид и то и дело щелкая перочинным ножом. Хоть-бы она взглянула на меня, может, я бы догадался, о чем она думает.
– Видите ли, я подумал... А не согласились бы вы пойти куда-нибудь со мной? Мы могли бы сначала сходить в киношку, а потом, если захотите, на танцы.
Мне кажется, что проходит десять лет, прежде чем она отвечает. Наконец она говорит: «Хорошо» – и только. Но мне и этого вполне достаточно. Тут появляется Фёбе, раскачивая бедрами с таким видом, будто все наше бюро гуськом следует за ней, а когда я отвожу от нее взгляд, Ингрид уже нет в комнате. Но она же сказала
96
«да»!Да, да, да! Я словно парю в воздухе, хватаю Фёбе и делаю с нею несколько па.
– Видали! – восклицает она. – Воскрешение из мертвых!
Глава 5
I
Субботний вечер застает меня у витрины Монтегю Бартона: я стою, глубоко засунув руки в карманы пальто, и рассматриваю костюмы на манекенах. Я думаю о том, как же теперь убить вечер, и тут чья-то рука опускается мне на плечо и голос Уилли произносит:
– Хватит заниматься ерундой!
Я оборачиваюсь.
– Привет, Уилли.
– Что ты тут делаешь? – спрашивает Уилли.
– Да вот раздумывал, куда бы пойти. А ты куда?
– Я собирался пропустить кружечку, а потом посмотреть новый вестерн в «Рице».
– Ты один?
– Да. Устраивает?
– Ну что ж.
Не все ли равно, как провести этот вечер, раз уж он испорчен. Но с Уилли мне, наверно, будет лучше, чем одному, хотя сам-то я едва ли буду приятной компанией при таком настроении.
Мы идем мимо освещенных магазинов по Кооперативной улице. На той стороне ярко горит витрина Грейнджера, и фараон, совершающий обход, на минуту останавливается перед ней, чтобы полюбоваться меховыми манто стоимостью в несколько сот фунтов.
– А кто играет в этой картине? – спрашиваю я Уилли, когда он подталкивает меня, напоминая, что надо перейти через улицу.
– Бэрт Ланкастер и Кёрк Дуглас, – отвечает Уилли. – Цветная, широкоэкранная и все такое прочее. Должно быть, хорошая. А я люблю хорошие вестерны.
Вообще-то Уилли любит всякие картины. Он ходит в кино по три-четыре раза в неделю, и почти нет картины, которой он бы не видел. Пиво и фильмы – это его
97
слабость. Если его нет в кабачке, значит, он в кино. Мы переходим через улицу, держа курс на яркие огни и дребезжащие звуки пианино, вылетающие из «Герба ткачей».
– Пойдём лучше куда-нибудь, где потише, – говорю я, видя, что Уилли заворачивает туда.
– Здесь хороший эль, – говорит Упллн.
– Может, и хороший, но я не люблю кабаков, где играют на пианино.
Уилли передергивает плечами.
– Ладно, я парень сговорчивый. По-моему, тут есть еще один кабак—за углом.
Мы двигаемся дальше.
– Она что же, но пришла? – спрашивает Уилли немного погодя.
– Кто?
– Та девка, которую ты ждал.
– А кто тебе сказал, что я ждал какую-то девку? Я просто разглядывал витрину Бартона и раздумывал, куда бы пойти.
– Я добрых пять минут болтал с одним парнем на том углу, прежде чем подойти к тебе, – говорит Уилли, и видел, как ты прогуливался и поглядывал на часы.
– Ну что ж, ты прав: я, в самом деле, ждал девушку.
– И она не пришла? – говорит Уилли. – Не первый случай в истории.
– Что касается меня, то, честное слово, последний! – говорю я в сердцах, хотя то, что я испытываю, мало похоже на гнев.
– Надо запомнить эти слова, – говорит Уилли и останавливается. – Переехал...
– Кто?
– Да кабачок... Ей-богу, всего две недели назад он тут был... Надо же: потерять кабачок в собственном городе. Что у меня, размягчение мозгов, что ли? – Он стоит, озираясь и соображая, где же мы находимся. – А, знаю. – и двигается дальше. – Пошли.
Я иду за ним.
Почему, почему же она так поступила, думаю я, нагоняя Уилли и шагая с ним в ногу. Почему, почему, почему? Почему она не могла сказать сразу «нет» и не заставлять меня ждать двадцать пять минут? Весь день я думал об этой встрече. Сознание, что я увижу ее, было словно драгоценный камень, который время от времени
98
вытаскиваешь из кармана, смотришь, смотришь и налюбоваться не можешь. В эти минуты она возникала передо мной такая, какой я увидел ее, когда разговаривал с нею в копировальной. Стоило мне закрыть глаза, и я видел ее волосы, в который играли блики света, видел ее лицо и то, как она упорно не смотрела на меня. Теперь-то
я знаю почему – потому что она стерва и обманщица... Да нет, я вовсе так не думаю. Я не сержусь, я просто глубоко несчастен. И я хоть завтра побегу к ней, стоит ей поманить меня пальцем. На ней была розовая блузка с высоким воротом, плотно облегавшим шею – ее нежную шейку, которую мне так хотелось бы погладить. Мне ведь всегда хочется погладить ее – осторожно, бережно и нежно. И вот... ну почему? Почему она поступала так со мной? Чем я провинился? Вот что мне хотелось бы знать.
Мы заходим в кабачок – кажется, он называется «Вишневое дерево»,– берем две кружки пива и отправляемся с ними к столику.
– А ты уже встречался с ней раньше? – спрашивает Уилли. Или это первый и последний раз?
– Я встречался с ней дважды, – говорю ему. – Собственно, даже трижды, но последний раз не в счет.
– Как так?
Я сразу вижу, что сказал лишнее, и обтираю пальцем пену с кружки.
– Она пришла не одна, а с подругой.
Уилли широко ухмыляется. Он отхлебывает из кружки и, продолжая ухмыляться, ставит ее на столик.
– Нет, ты представляешь себе? – говорю, я, пыжась перед ним. – Привести с собой подругу!
– Надо было меня позвать, – говорит Уилли. – Я бы поухаживал ради тебя за ней.
– Я покачиваю головой, вспоминая Дороти.
– Она бы тебе не понравилась, Уилли. Ноги точно футляры из-под скрипки, а рот как трещина в пироге.
Только человек, которого никогда не тошнит, или уж совсем пьяный может ухаживать за ней... Но ты представляешь себе, что я почувствовал, когда увидел их вдвоем!
– А она не сказала тебе, почему привела эту свою подружку?
– Как же, придумала целую сказку про то, как эта девчонка явилась вдруг к ней чай пить и она не могла
99
от нее избавиться – иначе вышла бы обида. Ну, я, конечно, не поверил ни единому слову.
– Что-то непохоже, – говорит Уилли.
– Это почему же?
– Ты же снова назначил ей свидание, иначе не торчал бы тут.
– Мне хотелось испытать ее. Понимаешь, хотелось выяснить до конца, как она ко мне относится.
– Ну вот ты и выяснил, – говорит Уилли.
– М-да. – Поднимаю кружку и делаю глоток. Эль холодный, освежающий, как раз такой, как я люблю. Давно пиво не доставляло мне такого удовольствия. И все же лучше бы мне, наверно, не встречать Уилли, потому что чувствую я себя сейчас болван-болваном.
– Может, ты слишком быстро повел наступление, – говорит Уилли, пристально глядя на меня. – И напугал ее.
– Да я пальцем до нее не дотронулся.
– Тогда, значит, слишком долго тянул.
– Ну вообще-то... вообще мы целовались. Но ничего другого у меня и в мыслях не было. Во всяком случае, по отношению к ней. Она не такая.
– Какая не такая? – говорит Уилли.
– Ну, словом... она не как все.
– Чем же она не как все? – спрашивает Уилли. – Наверняка у нее есть все, что надо, – и спереди и сзади.
Мне неприятно вести об Ингрид такой разговор, и я чувствую, как лицо у меня каменеет.
– Я– просто хотел сказать, что она порядочная девушка, Уилли.
– Настолько порядочная, что заставляет тебя выстаивать зря на углу, так, да? – говорит Уилли.
– Может, ее что задержало.
– Может, она выпила чаю, упала и умерла, – говорит Уилли.
– Ах, да заткнись ты, Уилли, – говорю я и снова отхлебываю из кружки.
Кружка Уилли уже пуста.
– Как хочешь, – говорит Уилли. – Не станем же мы ссориться из-за какой-то девчонки. Особенно из-за такой, которая не является на свидания. Давай выпьем еще по одной.
100
– Нет, хватит. – Я заплатил за пиво, которое мы выпили, и потому могу спокойно это сказать: у него на может возникнуть мысль, что я отказываюсь, чтобы не платить. – Мы можем опоздать к началу фильма.
Вестерн мне понравился, особенно последняя часть, когда начинается всеобщая драка и они лупят друг друга почем зря. Так дерутся, что кажется, будто это всерьез. Потасовка идет – просто жуть. Словом, это немного отвлекает меня от моих мыслей, и временами я даже забываю, что есть на свете такая девчонка по имени Ингрид Росуэлл. Но как только мы выходим на холодную улицу, все начинается сначала.
– У нас еще есть время опрокинуть по одной до закрытия, – говорит Уилли.
Мы стоим на тротуаре у кино, и зрители, спустившиеся со ступенек, вынуждены обходить нас.
– Нет, Уилли, мне что-то не хочется. Я лучше потопаю домой.
– А я хотел пойти потом на танцы, – говорит Уилли. – Почему бы тебе не разделить со мной компанию? Забудь ты про эту девку, мы там найдем какое-нибудь новое молодое дарование.
Я провожу ботинком по краю ступеньки.
– Нет, я, пожалуй, пойду спать.
Уилли смотрит на меня.
– Обвела тебя вокруг пальца, а? Видно, здорово это тебя зацепило.
– Нет, Уилли, честное слово, не в этом дело. Просто у меня сегодня в магазине был тяжелый день. Я ведь с девяти утра на ногах. Так что мне сейчас не до танцев.– Впрочем, с Ингрид я мог бы танцевать и танцевать, летал бы точно на крыльях.
– Ну, как знаешь, – говорит Уилли. – До скорого.
– До скорого, Уилли. Привет!
– Выше нос! – говорит Уилли.
Оказывается, автобус, на который я сел, не идет на вершину холма. Я схожу на углу, в воздухе пахнет жареной рыбой с картошкой; я перехожу через дорогу и покупаю в лавчонке на четыре пенса рыбы с картошкой. Обильно посыпав солью и обрызгав уксусом, съедаю все это по дороге на холм прямо из бумажного пакета. Я очень
101
люблю есть рыбу с картошкой, а особенно на открытом воздухе, прямо со сковородки. Золотистое тесто, в которое запечена рыба, такое горячее, что обжигает мне рот, и я разламываю, его, чтобы немного остудить. Я явно злоупотребил уксусом, и он начинает протекать сквозь бумагу мне на пальцы, так что приходится держать пакет, отставив руку. Мне хватит моего лакомства До самого дома, затем я вытираю пальцы о бумагу, скатываю ее шариком и отбрасываю ярдов на десять в сторону.
Половина одиннадцатого; Старик со Старушенцией сидят и при свете настольной лампы смотрят телевизор.
– Хочешь ужинать? – спрашивает Старушенция.
– Я поел рыбы с картошкой.
– Тогда ты, наверно, пить хочешь?
– Ничего, ничего. Я сам приготовлю себе какао.
Иду на кухню, завариваю себе какао, возвращаюсь в
гостиную, сажусь на диван у задней стенки и закуриваю. Смотрю картину, которую показывают по телевизору, и думаю об Ингрид. У меня такое впечатление, что я видел эту картину сразу после войны, когда был еще сосунком. Старик сидит, вытянув ноги и попыхивая трубкой, а Старушенция вяжет. Можно сказать, идеальная картина семейного благополучия.
– Ты где же был? – через минуту спрашивает Старушенция, и я уже понимаю, что она сгорает от любопытства.
– В кино.
– Один?
– С Уилли Ломесом.
– Уилли Ломесом? По-моему, я его не знаю, да?
– Это мой товарищ. Мы с ним еще в школе учились.
– В какой, в средней?
– Нет, в начальной.
Она что-то ворчит, а я думаю, что, если бы я был где-нибудь с Ингрид, она бы из меня все подробности выудила или же мне пришлось бы врать. Но даже если бы у нас с Ингрид все было в порядке, я еще не стал бы рассказывать о ней Старушенции. Ей сразу мерещится свадебный колокольный звон. И она начинает отчаянно ускорять события.
Старик нагибается и выбивает трубку о каменную решетку.
– Не понимаю, зачем надо ходить в кино и платить
102
такие деньги, когда можно смотреть то же самое дома и бесплатно.
– Да ведь это же все старье.
– Ну и что же? Все равно фильмы, верно?
– По телевизору нельзя показывать цветные и широкоэкранные картины.
– Широкоэкранные?
– Ну да, которые больше обычного размера.
Он посасывает потухшую трубку.
– Не думаю, чтобы от более широкого экрана картина становилась лучше,—говорит он.
Мне неохота с ним препираться. Фильм кончился, пошла реклама зубной пасты. Я встаю и бросаю окурок в огонь.
– Идешь к себе? – спрашивает Старушенция.
– Да, пора и на боковую. У меня сегодня был тяжелый день.
– Ты не забыл, что завтра мы все идем на чай к нашей Кристине?
– Нет, не забыл.
Пожелав им доброй ночи, я поднимаюсь к себе. В комнате Джима горит свет, и дверь приоткрыта. Я прохожу прямо в ванную, похожую на большой холоднющий погреб, где, кроме голых крашеных стен, труб и резервуаров для воды, ничего нет, и как можно быстрее мою лицо и чищу зубы. Когда я выхожу из ванной, Джим окликает меня. Подхожу к его двери и останавливаюсь на пороге.
– В чем дело?
Он вынимает из книжки светло-голубой конверт и швыряет его к изножию кровати.
– Письмо тебе.
Я поднимаю конверт, смотрю на него. Он адресован мне, и меня охватывает волнение.
– Где ты его взял?
– Я увидел его, когда поднимался к себе: он лежал в прихожей, у входной двери. Должно быть, кто-то просунул его в щель, пока мы смотрели телевизор. На нем нет штемпеля.
Да и адреса на нем тоже нет – только мое имя. Я сдерживаю желание тотчас вскрыть его.
– А отец с матерью видели письмо?
– Нет, я сразу поднялся с ним наверх, – Джим искоса
103
хитро поглядывает на меня. – Я бы не сказал, что это мужской почерк, а?
Я улыбаюсь – улыбка расплывается у меня по всему лицу, хоть я еще и не знаю, что в письме.
– Спасибо, дружище. Я тебя за это не забуду в завещании.
– Не стоит благодарности, – говорит Джим.
– Очень даже стоит, только ты об этом ни гу-гу.
– Вот те крест.








